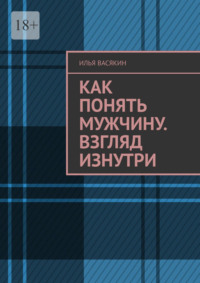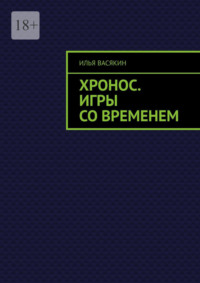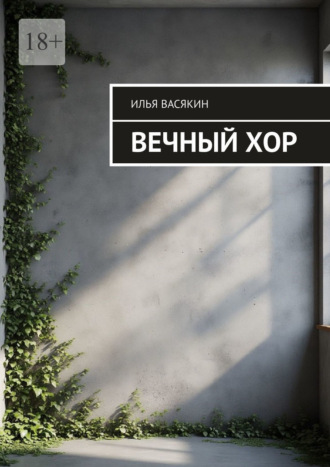
Полная версия
Вечный хор
Молодая девушка, лет двадцати, с красивыми, но абсолютно неподвижными чертами лица. Она стояла у прилавка с овощами и просто смотрела на груду яблок. Её взгляд был пустым и невидящим.
И ещё один – парень, похожий на разнорабочего, в заляпанной краской спецовке. Он двигался по магазину так же бесшумно, как миссис Гловер. Его мощное тело, которое, должно быть, могло производить много шума, было подчинено той же неестественной, плавной экономии движений.
Все они были разного возраста, из разных социальных слоёв. Но их объединяло одно – абсолютная, гробовая тишина. Они не разговаривали. Они не перебрасывались словами. Они не кашляли. Они не шаркали ногами. Они были призраками в самом что ни на есть реальном мире.
Маркус, с корзиной в руках, чувствовал, как его собственная громкость, само его присутствие становится неприличным. Скрип его подошв по полу казался ему варварским топотом. Шуршание пакета – шумом разрываемой ткани тишины.
Он наблюдал, как парень в спецовке подошёл к кассе. Кассирша – весёлая на вид девушка с розовыми волосами – улыбнулась ему той же профессиональной, безжизненной улыбкой.
– Джерри, – кивнула она.
Парень поставил на ленту банку краски и кисточки. Он не сказал ни слова. Его губы шевельнулись в беззвучном шёпоте.
– Двадцать семь пятьдесят, – сказала кассирша.
Джерри молча протянул деньги.
– Спасибо, хорошего дня, – сказала кассирша, взяв купюры. Она не смотрела на него, как не смотрят на мебель. Её взгляд скользнул поверх его головы, к следующему покупателю.
Джерри взял свои покупки и удалился с той же беззвучной плавностью.
Маркус подошёл к кассе, чувствуя, как его горло пересохло. Он поставил корзину на ленту.
– Нашли всё, что нужно? – спросила кассирша, её голос был ярким и неестественно бодрым на фоне окружающей тишины.
– Да, – выдавил Маркус. Он указал взглядом на удаляющуюся спину Джерри. – Он… ваш знакомый? Он всегда такой… тихий?
Кассирша на секунду замерла, её пальцы застыли над клавиатурой. Её улыбка не исчезла, но стала напряжённой.
– Джерри? Да, – сказала она, и её голос стал тише, почти конспиративным. – Он просто… затих. Такое бывает. – Она пробила его товары. – С вас сорок три двадцать.
Маркус расплатился, его руки слегка дрожали. «Затих». Слово повисло в воздухе, тёплое и липкое, как паутина. Оно не означало «умер» или «исчез». Оно означало нечто гораздо более жуткое.
Он вышел из магазина, и мир снаружи с его ярким солнцем и пением птиц вдруг показался ему гигантской, безупречно оформленной ловушкой. Эти люди – «Тихие» – не были пришельцами. Они не были монстрами. Они были такими же, как он. Простыми людьми. Которые однажды нарушили «Правила». И теперь они были здесь, среди всех, но уже не часть общества. Они были живым предупреждением. Пустыми оболочками, которые продолжали функционировать, но в которых погас свет.
И самое ужасное было то, что все остальные – Эдит, кассирша, улыбающиеся прохожие – относились к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Как к дождю или снегу. Да, некоторые затихают. Такое бывает. Ничего страшного.
Маркус шёл по улице к своему дому, и ему казалось, что на него смотрят из каждого окна. Не с враждебностью, нет. С холодным, вежливым ожиданием. Ожиданием того, что однажды и он, возможно, присоединится к бесшумной процессии «Тихих». И тогда его улыбка тоже станет безжизненной, а движения – плавными и беззвучными, как у призрака.
Последние остатки солнца уползли за горизонт, унося с собой притворную теплоту дня. Маркус сидел за кухонным столом, уставившись в стену. Перед ним стояла тарелка с нетронутым сэндвичем. Еда казалась ему чуждой, почти оскорбительной в своей обыденности. Воздух в доме был неподвижным и густым, как сироп.
Он пытался читать, но слова расползались перед глазами, не долетая до сознания. Он пытался смотреть на фотографии из старой жизни – он и Сара на пляже, он с друзьями на вечеринке, все они кричали, смеялись, их рты были раскрыты в крике или смехе, и он почти слышал грохот того мира. Теперь эти снимки казались ему артефактами другой цивилизации, шумной и дикой.
Он встал и подошёл к окну. Ночь за стеклом была не просто тёмной. Она была плотной, бархатной, поглощающей свет. Фонари на Тенистой аллее отбрасывали мягкие круги, но они не освещали, а лишь подчёркивали густоту мрака между ними. Ни одного огонька в окнах домов напротив. Ни одного проблеска телевизора. Только ровное, неподвижное свечение ночных ламп где-то в глубине жилищ, как свет в каютах затонувшего корабля.
И тогда он осознал. Осознал до конца, до самой глубины костей.
Тишина.
Она пришла не с закатом. Она обрушилась. Как стеклянный колпак, накрывший весь город. Он прильнул ухом к щели в раме, потом к самому стеклу. Ничего. Ни лая собаки. Ни отдалённого рокота музыки. Ни смеха. Ни крика. Ни шороха шин по асфальту. Никто не хлопнул дверью машины. Никто не позвал кого-то по имени. Даже ветер стих, притаился.
Он отшатнулся от окна, и скрип его собственных шагов по полу зазвучал как кощунство. Он замер на середине гостиной, слушая. Его собственное дыхание показалось ему хриплым, грубым, как работа кузнечных мехов. Глотание слюны отдалось в ушах оглушительным грохотом. Сердцебиение – мерный, тупой стук в висках, который, казалось, мог разбудить весь квартал.
Он попытался идти нормально. Но его ноги сами, помимо его воли, перешли на цыпочки. Сначала это было неосознанно, рефлекс, рождённый вчерашним стыдом. Но потом он поймал себя на этом и попытался заставить себя ступить на полную стопу. Не получилось. Мышцы голени свела судорога страха. Страха произвести звук.
Он был в своём доме. В своём, чёрт побери! Он заплатил за него деньги. Он мог ходить как угодно. Он мог включить музыку! Да, именно. Музыку. Он подошёл к старой колонке, которую ещё не распаковал. Его пальцы потянулись к кнопке питания, но не коснулись её. Рука повисла в воздухе. Он представил, как из динамиков хлынет звук – гитарный рифф, ударные, голос певца. Он представил, как этот звук разобьёт хрустальную вазу тишины за окном. Он представил лица. Мистера Элдера. Эдит из булочной. Кассирши. Все эти бледные, улыбающиеся лица, повёрнутые в его сторону. Молчаливые. Ожидающие.
Он убрал руку. Колонка стояла немой и укоряющей.
Клаустрофобия. Она подкралась внезапно. Не в тесном лифте, а посреди просторной гостиной с высокими потолками. Стены не сдвигались физически, но тишина сжимала их, делая комнату тесной, как гроб. Потолок давил. Воздух стал густым, его не хватало. Он подошёл к входной двери, отчаянно нуждаясь в глотке нормального, шумного мира. Хотя бы в звуке пролетающего самолёта. Хотя бы в лае дальней собаки.
Он распахнул дверь. И его встретило всё то же безмолвие. Оно влилось внутрь, холодное и тяжёлое. Ночь была не просто тихой. Она была глухой. Абсолютно. Словно кто-то выключил звук у всего мироздания. Далекие звёзды на небе, такие яркие и чёткие, казалось, тоже сияли беззвучно, соблюдая правила.
Его взгляд упал на дом миссис Гловер, той самой «Тихой» женщины из булочной. Окна были тёмными, кроме одного – на втором этаже. Там горел тусклый, желтоватый свет, как ночник. И в этом окне он увидел её. Она стояла, как вкопанная, и смотрела прямо перед собой, но он понял – она смотрела на него. Её лицо было бледным пятном в темноте, черты неразличимы. Но в самой её позе, в этой абсолютной неподвижности, была такая бездна покорности и пустоты, что у Маркуса перехватило дыхание.
Она не просто соблюдала правила. Она стала их воплощением. Она была ночной стражей тишины, живым напоминанием.
Он резко захлопнул дверь, щелчок замка прозвучал как выстрел самоубийцы. Он прислонился к дереву, сердце колотилось, вырываясь из груди. Ему было страшно. По-настоящему, по-детски страшно. Не перед угрозой насилия, не перед явной опасностью. Перед этим ничто. Перед этим всепоглощающим отсутствием.
Он потушил свет в гостиной и пополз наверх, в спальню, на цыпочках, прижимаясь к стене, как солдат под обстрелом. Он лёг в кровать, натянул одеяло до подбородка и уставился в потолок. Тело было напряжено, как струна. Он прислушивался. К чему? К звуку, который не должен был прозвучать. К скрипу ступеней, к щелчку замка, к чужому дыханию. Но слышал только собственное и гулкую тишь, которая звенела в ушах нарастающим, невыносимым визгом.
Он вспомнил слова кассирши. «Он просто… затих».
И он понял. Понял всем своим существом. Ужас Тихого Берега был не в том, что с нарушителями что-то делают. Ужас был в том, что их ничто не ждало. Ни кнута, ни темницы. Их ждало это. Эта комната. Эта кровать. Эта ночь, растянутая на вечность. Их ждало превращение в миссис Гловер, в Джерри, в пустое место, которое все вежливо игнорируют. Их ждало затихание. Медленное, неотвратимое угасание собственного «я», пока от тебя не останется лишь шёпот губ да привычка бесшумно ставить ногу на пол.
Маркус лежал и боялся пошевелиться, боялся кашлянуть, боялся сглотнуть. Он был парализован этой идеальной, чистой, беспощадной тишиной. Он был её пленником. И он знал, что первый же громкий звук, который он издаст, станет не проявлением свободы, а началом конца. Первым шагом в их ряды.
Он закрыл глаза, но это не помогло. Тишина была не снаружи. Она была уже внутри него. И она ждала, когда он окончательно испугается, сдастся, разрешит ей себя заполнить.
Последнее, что он услышал перед тем, как провалиться в беспокойный, прерывистый сон, был тихий, предательский скрип пружин матраца, когда он попытался перевернуться.
И его собственный сдавленный стон, когда он вжался головой в подушку, пытаясь заглушить даже этот, ничтожный звук.
Глава 2: Шепот Сомнений
Тишина прожила с ним всю ночь, словно незваный сожитель, занявший лучшую комнату в доме. Маркус проснулся с ощущением, будто его череп набили ватой. Голова была тяжёлой, мысли – вязкими и медленными. Первый инстинкт – потянуться к телефону, включить утренние новости, заполнить дом привычным утренним шумом, отгоняющим призраков. Но его рука замерла в сантиметре от экрана.
«А если они услышат?»
Мысль пронеслась, острая и нелепая. Кто они? Соседи? Мистер Элдер? Та женщина с тюлевой занавеской? Он лежал и слушал. Из-за окна доносилось пение птиц – всё такое же идеальное и одинокое. Ни гула машин, ни голосов. Ничего.
Он сел на кровати. Пружины жалобно скрипнули, и он замер, затаив дыхание, словно совершил преступление. Сердце екнуло. «Глупости, – строго сказал он себе мысленно, и его внутренний голос прозвучал громко и ясно, единственная здоровая вещь в этом безумном месте. – Это твой дом. Ты можешь скрипеть кроватью, если захочется».
Но, поднимаясь, он всё равно неосознанно перенёс вес так, чтобы скрип стал тише. Он спустился вниз, на кухню, и его ноги сами по себе выбирали на лестнице самые бесшумные места. Каждая ступенька издавала тихий стон, и он, как разведчик на задании, запоминал, какие из них предательски шумят, а какие относительно безопасны.
Приготовление завтрака превратилось в сложный ритуал по обману акустики. Он не ставил сковороду на плиту, а опускал её. Он не брал ложку из ящика, а извлекал, предварительно приподняв ящик, чтобы не скрипел. Кофемолка… о, кофемолка. Он смотрел на неё с тоской. Ароматный, бодрящий кофе, ради которого он был готов терпеть её оглушительный рёв в своей прошлой жизни. Теперь он просто положил ложку молотого кофе в чашку и залил кипятком. Получилась бледная пародия, но зато тихая.
«Ты сходишь с ума, Лейн, – проговорил его внутренний голос, и в нём слышалась ирония, смешанная с тревогой. – Ты боишься собственной кофемолки в своём собственном доме. Ты что, в монастыре траппистов поселился?»
Он сел за стол. Звук стула, придвигаемого к столу, прозвучал как скрежет железа. Он сжался. Тишина снаружи казалась теперь внимательной, чуткой. Она прислушивалась к нему. Он взял кружку – и поставил её на стол с преувеличенной осторожностью, почти как миссис Гловер свой багет. Это осознание обожгло его. Он уже начинает перенимать их повадки. Из страха.
Он решил помыть посуду. Включил воду тонкой струйкой, чтобы она не била с шумом по раковине. Брал тарелки так, будто они были из хрусталя. И всё это время в его голове звучал его собственный, пока ещё нормальный голос, комментировавший это абсурдное представление.
«Отлично, Маркус. Прекрасная работа. Теперь тихонько протри стол. Смотри, не дыши слишком громко, а то спугнёшь тишину. Она, знаешь ли, пугливая, как дикая лань».
Он нервно усмехнулся. Звук собственного смеха, пусть и тихого, показался ему таким чужим и неуместным, что он тут же замолк.
День тянулся мучительно медленно. Он пытался работать – удалёнка была одной из причин, по которой он мог позволить себе переехать. Но клавиатура клацала. Мышь щёлкала. Он ловил себя на том, что печатает одним пальцем, чтобы уменьшить грохот, и постоянно отвлекается, прислушиваясь – не слишком ли он шумит.
После полудня он решил вынести мусор. Пакет с отходами его одинокой, тихой трапезы. Он дошёл до бака на заднем дворе, его шаги по гравийной дорожке гремели, как обвалы камней в горах. Он открыл крышку бака – и застыл. Металлическая крышка издала протяжный, ржавый скрип. Он зажмурился, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Всё, я разбудил спящего дракона», – прошептал он про себя.
Ничего не произошло. Птицы продолжали петь. Солнце светило. Но он стоял, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги, не откроется ли дверь у Элдера, не появится ли он со своей вечной, безжизненной улыбкой.
Ничего. Только тишина. Но теперь это была тишина-надзиратель. Она не наказала его за скрип крышки. Она просто запомнила его.
Вернувшись в дом, он обнаружил, что говорит сам с собой шёпотом. Не намеренно. Просто так получилось.
«Надо проверить почту, – прошептал он, подходя к двери. – Чертовщина какая-то. Говорю сам с собой, как сумасшедший».
Его внутренний монолог всё ещё бушевал, полный сарказма и здравого смысла. «Да с тобой всё в порядке! Прекрати этот цирк! Включи музыку! Кричи! Докажи, что ты жив!»
Он подошёл к колонке. Рука снова повисла в воздухе. Он представил, как звук ударит по стенам, вырвется в открытое окно и покатится по Тенистой аллее. Он представил лица. Не злые. Не гневные. А… какие? Вежливо-осуждающие? С интересом наблюдающие? С ожиданием?
Он не смог. Его пальцы так и не коснулись кнопки. Вместо этого он отошёл от колонки и упал в кресло, чувствуя себя побеждённым. Он подчинился. Всего за один день. Давление, невидимое и беззвучное, оказалось сильнее его воли.
Он сидел в гостиной и смотрел на пылинки, танцующие в луче света. Его внутренний голос всё ещё бубнил что-то о малодушии, но он уже почти не слушал его. Он слушал тишину. И прислушивался к себе, к своему дыханию, к стуку сердца, боясь, что и они однажды станут слишком громкими для этого идеального, беззвучного мира.
Мысль о том, чтобы сидеть в доме ещё один день, сводила его с ума. Тишина там стала физической, она липла к коже, как паутина. Ему нужно было выйти. Увидеть людей. Пусть даже этих людей. Пусть даже таких странных. Может быть, если он попытается с кем-то заговорить, помимо вежливых, застывших в улыбках автоматов вроде Эдит или мистера Элдера, он почувствует себя нормальным.
Солнце стояло в зените, заливая улицы Тихого Берега стерильным, почти хирургическим светом. Всё было так же чисто и безупречно. И так же тихо. Шум его шагов по тротуару казался ему маршем одинокого солдата.
И тогда он увидел его. Человека в униформе муниципального работника, медленно и методично подметавшего улицу широкой метлой. Это был не Джерри из магазина, а кто-то другой, постарше, с усталым, обветренным лицом. Но в его движениях была та же плавная, почти сонная экономия усилий, что и у всех «Тихих». Он не подметал, а скорее водил метлой по асфальту, словно кистью по холсту, не производя ни единого лишнего звука. Даже грабли щетины по камню были беззвучными.
«Вот он. Шанс, – проговорил внутренний голос Маркуса, всё ещё пытавшийся сохранять бодрость. – Обычный рабочий. Может, он не такой уж и „тихий“. Может, он просто сосредоточен на работе».
Маркус подошёл ближе, стараясь идти как можно тише, и от этого его походка стала неуклюжей, вразвалку. Он остановился в паре метров от уборщика, почувствовав внезапную сухость во рту.
– Добрый день, – сказал Маркус, намеренно сделав свой голос тихим, но всё ещё внятным. Звук его слов показался грубым вторжением в окружающую беззвучность.
Уборщик не вздрогнул. Он даже не обернулся сразу. Он закончил проводить очередное идеальное движение метлой, словно завершив важный ритуал, и лишь потом медленно, очень медленно повернул голову. Его глаза, цвета мутного стекла, встретились с взглядом Маркуса на долю секунды, и тогда Маркус увидел это. Не пустоту, как у миссис Гловер в булочной, и не безразличие. В них был страх. Быстрая, животная искорка ужаса, которая тут же погасла, утонув в привычной апатии.
Мужчина вежливо кивнул. Один раз, коротко. Его губы сжались, а затем начали шевелиться. Беззвучно. Маркус не смог разобрать слов. Это могло быть «добрый день», а могло быть «отстань от меня».
– Я… я новенький тут, – продолжил Маркус, понижая голос почти до шёпота. Ему стало не по себе. – Маркус Лейн. На Тенистой аллее.
Он протянул руку для рукопожатия, простой, человеческий жест.
Уборщик посмотрел на протянутую руку, как на змею. Он не отшатнулся, но всё его тело застыло, а затем начало двигаться ещё медленнее, ещё плавнее. Он сделал небольшой шаг назад, неотрывно глядя на руку Маркуса. Его собственные руки, сжимавшие древко метлы, остались на месте. Он снова кивнул, на этот раз более суетливо, и его губы зашевелились быстрее. Беззвучное бормотание стало почти молитвой.
«Он боится меня, – с изумлением подумал Маркус. – Он не просто игнорирует. Он боится».
– Я не причиню вам вреда, – прошептал Маркус, опуская руку. Он чувствовал себя ужасно неловко, как будто он – надзиратель, а этот человек – заключённый, нарушающий правила просто тем, что на него смотрят и с ним говорят.
Уборщик в ответ снова закивал, уже почти непрерывно. Его взгляд упал на землю у своих ног и застыл там. Он сделал ещё один шаг назад, а затем плавно, как марионетка на невидимых нитях, развернулся и снова начал подметать. Но теперь его движения стали ещё более выверенными, ещё более осторожными. Он не просто подметал улицу. Он пытался стать невидимым. Раствориться в своём действии, слиться с метлой и асфальтом, чтобы только это назойливое, шумное присутствие – Маркус – перестало его замечать.
Маркус стоял и смотрел на его спину. Он не чувствовал гнева или раздражения. Он чувствовал… стыд. Горячий, неприятный стыд, поднимающийся откуда-то из груди. Он пытался проявить дружелюбие, а в ответ получил ледяное, безразличное отторжение, замешанное на страхе. Он нарушил не только «Правила», но и какой-то негласный, ещё более важный закон: не трогай их. Не вступай в контакт. Не напоминай им о том, что они другие. И уж тем более не напоминай им о том, что ты – пока ещё – нет.
Он отвернулся и пошёл прочь, чувствуя, как на него смотрят из окон. Не только уборщик боялся его. Сама улица, сам воздух, казалось, осуждали его за эту попытку контакта. Он был нарушителем спокойствия не потому, что шумел, а потому, что пытался быть живым среди тех, кто лишь имитировал жизнь.
Он шёл, и его собственные шаги теперь казались ему не просто громкими, а вызывающими, наглыми. Он был чужим здесь. Не новичком, которого нужно принять, а вирусом, которого нужно изолировать. И он только что своими глазами увидел, как иммунная система этого идеального организма пытается от него избавиться – не через агрессию, а через молчаливое, вежливое, абсолютное игнорирование.
Стыд постепенно переходил в нечто иное. В холодную, тихую ярость. Ярость на этот город, на его правила, на этих людей, которые позволили себя так сломать. Но даже эта ярость была тихой, приглушённой. Он боялся, что если выпустит её наружу, даже в виде громкого возмущения в собственной голове, то они и это услышат.
Название «Лунный свет» было выведено изящным кованым шрифтом над входом. Оно казалось ироничным для заведения, открытого посреди яркого солнечного дня. Маркус зашёл внутрь, поддавшись порыву – потребности оказаться среди людей, пусть и ненадолго, пусть и в этой вечной библиотечной тишине.
Воздух в кафе был густым и сладким от запаха свежесваренного кофе и ванили. Играла музыка – негромкая, инструментальная, мелодия, которую едва можно было разобрать, словно её проигрывали в соседней комнате. Было несколько посетителей. Парочка у окна, перешёптывающаяся, их головы почти соприкасались. Мужчина в костюме, уткнувшийся в ноутбук, его пальцы бесшумно порхали по клавиатуре. И… они.
За столиком в углу сидели трое «Тихих». Двое мужчин и женщина. Они не перешёптывались. Они просто сидели. Перед каждым стояла чашка и небольшая тарелка с пирожным. Их позы были расслабленными, но не естественно – а как у манекенов, которым придали сидячее положение. Они ели. Медленно. Невероятно медленно. Женщина подносила вилку с кусочком шоколадного торта ко рту с такой плавной, почти церемониальной медлительностью, что Маркус невольно задержал на ней взгляд. Её челюсти смыкались беззвучно. Она не жевала, а скорее, размачивала пищу во рту, как это делают беззубые старики.
Они не смотрели друг на друга. Их взгляды были расфокусированы, устремлены в пространство где-то между столиком и стеной. Но время от времени один из мужчин слегка, почти неуловимо, наклонял голову. Другой в ответ чуть заметно двигал бровью. Женщина проводила пальцем по краю блюдца. Это был их разговор. Язык микроскопических жестов, тихий танец тел, понятный только им. Наблюдая за ними, Маркус почувствовал себя грубым варваром, который бубнит что-то на своём примитивном наречии, в то время как окружающие общаются на языке высшей математики.
Он заказал у стойки капучино – бариста, девушка с веснушками, улыбнулась ему той самой фирменной, безжизненной улыбкой Тихого Берега – и выбрал столик неподалёку от них. Он сидел и пил свой кофе, и казалось, что звук, с которым он ставит фарфоровую чашку на блюдце, раскатывается по залу громом. Он старался глотать бесшумно, чувствуя, как смешно и жалко это выглядит со стороны.
И тут это случилось.
Один из мужчин за столиком «Тихих» – тот, что был ближе к проходу, – потянулся к своей чашке. Его движения, всегда такие выверенные и плавные, на этот раз дали крошечный сбой. Возможно, его пальцы, всегда такие послушные, вдруг онемели. Возможно, он просто отвлёкся на чей-то шаг за дверью. Его локоть задел ручку ножа, лежавшего на столе. Нож упал на пол.
Звон был оглушительным.
Не сам по себе – металл о кафель. Нет. Оглушительным был этот звук на фоне всеобщего, напряжённого безмолвия. Он прозвучал как выстрел. Как разбивающееся стекло. Как падение того самого ящика с инструментами на крыльце Маркуса, только здесь, в этом замкнутом пространстве, он отозвался в десятки раз громче.
Всё замерло.
Музыка из колонок не остановилась, но она словно отступила на второй план, поглощённая этим единственным, чудовищным диссонансом.
Первыми среагировали «Тихие». Все трое за их столиком застыли одновременно. Не так, как замирают люди, удивлённые неожиданным звуком. А как солдаты по команде «смирно». Их позы выпрямились, мышцы напряглись. Их глаза, до этого мутные и отсутствующие, разом сфокусировались. На ноже? Нет. На том, кто его уронил.
Их взгляды впились в своего сородича. В этих взглядах не было ни упрёка, ни злорадства. Было нечто худшее – холодное, безразличное понимание. Понимание того, что произошло непоправимое. Нарушение. Сбой в программе.
Мужчина, уронивший нож, сидел, не двигаясь. Его лицо, и до того бледное, стало совсем белым, как бумага. Его губы, обычно лишь слегка шевелящиеся в беззвучном шёпоте, задрожали. Не просто задвигались быстрее. Их начало бить мелкой, частой дрожью, словно от холода. Он смотрел на своих товарищей, и в его глазах читался животный, немой ужас. Он не смотрел на упавший нож. Он смотрел на них, словно ожидая приговора.
И тогда Маркус почувствовал на себе другие взгляды. Он медленно, очень медленно повернул голову.
Парочка у окна перестала перешёптываться. Они смотрели на происходящее в углу. Но не с осуждением. Нет. На их лицах было любопытство. Острое, живое любопытство. Как будто они наблюдали за интересным экспериментом. Мужчина с ноутбуком поднял глаза от экрана. Его взгляд был более отстранённым, профессиональным. Как у учёного, фиксирующего данные. Бариста за стойкой не шелохнулась, но её улыбка стала чуть более напряжённой, а глаза блестели с неподдельным интересом.
Никто не пошевелился, чтобы помочь. Никто не сказал «не волнуйтесь» или «всё в порядке». Они просто смотрели. С холодным, вежливым предвкушением. Они ждали, что будет дальше. Как отреагирует система на сбой.