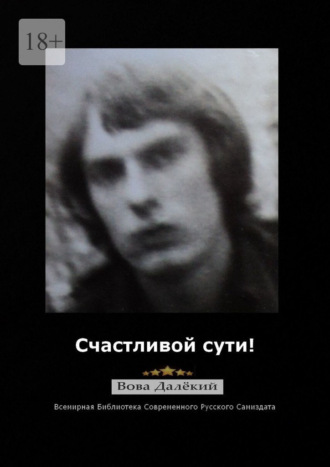
Полная версия
Счастливой сути! Часть 1
Обратный поезд тоже мог идти либо от станции, либо из карьера, куда надо было успеть добраться со всей своей нелёгкой ношей и суметь залезть с откоса, помогая друг другу, в какой-нибудь, более или менее свободный товарно-пассажирский вагон. Но, кроме всего прочего, нужно было успеть и суметь благополучно выбраться из него на бобровской станционной площадке. Однажды мама, сойдя на платформу, потянула за собой узлы, но вдруг почувствовала не только тяжесть груза, но и сопротивление и утягивание его в противоположном направлении, вглубь вагона. Поезд же уже тронулся. Она закричала брату и сёстрам: «У меня мешки тянут!». Вся гурьба бросилась ей на помощь, с криками, вместе с нею вцепившись в свою, кем-то настырно-умело присваеваемую собственность. Поняв, что теперь и сам может оказаться и остаться вместе с узлами на платформе, незадачливый ворюга бросил добычу.
И всякий раз домой они должны были попасть к 12 часам дня, чтобы успеть на уроки, во вторую смену, в школу.
«Взрослые» ребята с нашей округи любили походить по медленно продавливающейся под ногами поверхности чёрной смолы. Возле ведомственной железной дороги, пролегающей рядом с заводским посёлком, была какая-то рукотворная кругообразная выемка в земле, метров 10 диаметром, залитая этой самой смолой. Там она, очевидно, хранилась. Ходить летом по изгибающейся под тобой липкой толще занятие рискованное. Если вовремя не перейти с места на место, ногу затянет так, что вынуть её уже будет очень проблематично даже с помощью каких-нибудь опытных специалистов. Рассказывались всякие страшные истории о людях и животных, включая коров, оказывавшихся несчастными пленниками и жертвами таких уличных смоляных хранилищ. Но, всё равно, и те кто помладше, пытались испытать всю прелесть рискованных ощущений, осторожно прохаживаясь по краям смоляного круга.
Единственное, что тогда сдерживало нас, «мелюзгу» от неминуемых несчастий в карьере и у смолы, так это жёсткий контроль над нами старших ребят. Они нам не позволяли делать то, что делали сами.
Но нас уже тоже неудержимо тянуло на риск. Наша отдельная возрастная компания состояла, когда из 4-х, когда из 5-ти, когда из 6-ти пацанов, примерно одного возраста. Однажды, когда нам было года по четыре, мы одни убрели достаточно далеко от своего посёлка по магистральной улице имени Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру вражеского дота, и на ходу придумали для себя очень простое и опасное испытание. Смысл состязания заключался в том, чтобы каждый желающий из нас попробовал пробежать перед проезжающей по дороге машиной, подпустив её на минимально возможное расстояние. Я, примерно, помню лица водителей самосвалов поневоле становившихся участниками этой детской игры, по сути дела, со смертью. И помню, как сам подпускал один из таких самосвалов, как можно ближе, и как браво, чертомётом бросился перебегать дорогу прямо у него под колёсами. Бедные шофера. Дорого им тогда обошлись наши испытания ловкости и смелости. Я вполне был доволен своим отличным результатом, о страхе вообще речи не было, а вот гримасы, жесты, ужасные состояния и реакции водителей за стёклами старых ЗиЛовских кабин оказали-таки на меня какое-то воспитательное влияние. Больше меня на такие подвиги не тянуло. Гражданских водителей я, конечно, уважал не так, как военных, но внутренне быстро согласился с тем, что за такие проделки они меня могут наказать по полной программе, и, при этом, будут абсолютно правы.
Чаще всего именно опытным путём, всякий раз, и определяется и вырабатывается дальнейшая линия поведения любого, даже взрослого конкретного человека. При этом самые действенные оценки исходят откуда-то изнутри, а внешние аргументации, хоть и важны, но всё-таки второстепенны, если только это не беспощадное насилие над личностью, не тотальный идеологический беспредел, и тому подобное.
Вернулся наш капитан с доброй вестью: вагон с ПЗРК будем сопровождать мы, а не наши, невесть откуда раньше нас нарисовавшиеся здесь конкуренты, профессиональные ездоки из роты охраны военных грузов.
«Вперёд! На продовольственный склад!» – скомандовал непрошибаемый, а сам какие хочешь преграды способный прошибить, начальник нашего импровизированного караула, и водила трёхосного полкового ЗИЛа повышенной проходимости, во весь опор помчал всех нас в заданном направлении. Успех нужно было закреплять быстро и навсегда, иначе снова всё могло неожиданно измениться не в нашу пользу. Стратегические склады располагались неподалёку, надёжно укрытые с трёх сторон безлюдными склонами, заросшими дикой буйной сахалинской растительностью. Там мы получили тушёнку и сгущённое молоко. На хлеб, крупу, макароны и прочую снедь выделялись наличные средства. На душе было тепло, светло и радостно.
Быстро вернувшись к отправной точке у железнодорожных путей, мы разгрузились, окончательно распрощались со своим водителем, и под руководством капитана начали выбирать из нескольких всеми заброшенных затрапезных караульных теплушек наиболее пригодную для нашего чудесного путешествия. Приглядели ту, в которой имелись, в одной стороне, широкие дощатые нары. Буржуйку перетащили из другого пульмана. Трубу печки выставили в специальное отверстие в крыше. Прочесав окрестность, запаслись дровами. И капитан снова отправился в штаб для получения дальнейших указаний.
Но и тут снова возникла непредвиденная заминка. На командном пункте только теперь задумались над вопросом, каким маршрутом направлять вагон с острова на материк.
Скорее всего, ничего в этом мире существенно не зависит от уровня сознательности человека. Всё зависит от степени развития техногенной среды существования всего человечества. Только благодаря достижениям научно-технического прогресса всё меньше остаётся предпосылок для проявления отрицательных качеств, свойственных людям. Легче становится работа, и, одновременно с этим, лучше становится обеспеченность продуктами питания и всякими, даже излишними, материальными ценностями. В таких условиях свободы, достатка и комфортабельности, в каких живём мы, не так уж сложно оставаться, преимущественно, человечным по отношению к окружающим. Но это вовсе не значит, что в критической ситуации все мы уже никогда не сможем поступить низменно, подло, трусливо, тем более, что всё ещё слишком многие из нас готовы поступать именно так всегда и при любых обстоятельствах, ради каких-то дополнительных лично своих преимуществ и превосходств.
«Мир спасёт красота» – нелепо заявлял один из литературных героев Достоевского. Толстой всерьёз и прямым текстом возлагал спасение мира на женщин: «Если бы только женщины поняли своё значение, свою силу и употребили бы её на дело спасения своих мужей, братьев и детей. На спасение всех людей! Да, женщины-матери, в ваших руках, больше чем в чьих-нибудь других, спасение мира!» («Не могу молчать»). А ещё ранее, во времена только что снесённой революционной массой Бастилии, французский поэт Беранже и вовсе витал в облаках самовоссторженного евронигилизма: «Господа! Если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».
Всё это, в одинаковой мере, – откровеннейшая профанация, полностью лишённая какого-либо практического смысла, и скатившиеся до низших плоскостей наивной графомании идеи. Конечно, в те, давние времена надеяться людям обеспеченным, но пишущим романы и добросердечным, а прежде всего, людям низших сословий, было, в общем-то, в плане справедливости, особо-то, и не на что. Но, с позиций сегодняшнего дня, и Достоевский и Толстой и Беранже со своими ключевыми примитивными исследовательско-творческими умозаключениями выглядят, на самом деле, очень бледно.
Люди, хорошо знающие отца моей мамы, относились к нему с уважением. К нему тянулись и дед по отцовской линии, и двоюродный дядя, и сыновья дяди, и родственники жены и многие другие просто знакомые люди. Двоюродная бабка, уехавшая после революции в Америку, узнав о его гибели на войне, пыталась с дочерью хоть чем-то помочь его жене и детям даже из-за океана.
А вот со своими родителями, жившими рядом, он не очень ладил. Отношения испортились после их резко неодобрительного отношения к его избраннице. Родители были против его женитьбы на ней. Но дед с бабушкой, жившие рядом, через двор родителей, к выбору внука отнеслись с уважением, как и другие родственники.
В родительской семье было три ребёнка. Он и ещё две сестры, помладше. Самая младшая, когда ей уже было лет восемнадцать, в холодную пору, вымыв голову, пошла в церковь. Отстояла там службу. После всего этого простыла и умерла. Вторая дочь, до войны, вышла замуж. Семья у неё тоже была большая. Это как раз-то её сын, став офицером, потом попал на службу порученцем к генералу армии Хетагурову, командующему Прибалтийским военным округом. Вот семье-то дочери родители и старались всячески помочь, поскольку сын, после разлада, наотрез отказался от всякого содействия. Он сам обеспечивал семью и всё делал для того, чтобы его дети были обеспечены не хуже других, и чтобы все они, обязательно, получили образование. Подрабатывал изготовлением валенок. Этой дополнительной, тяжёлой работой приходилось заниматься, в основном, по ночам.
Когда у старшего сына, после сильного ушиба колена, начались серьёзные проблемы с ногой, отец предпринял всё, что только возможно, для его лечения: возил его к разным опытным докторам, в больницы, в санатории. Но справиться с недугом, толком так никому и не удалось. Нога болела, сын ходил хромая, опираясь на палочку.
Когда парализовало тестя, жившего сзади, двор ко двору, зять не остался в стороне, и находил время, чтобы помочь старику, поддержать его. Тот потом плакал, когда он, в августе 1941 года, уходил на фронт, и вскоре, первой же безнадёжной военной осенью, лишённый одной из основных своих опор, обездвиженный инвалид умер.
Отцу многодетного семейства, хорошие знакомые предлагали «откосить» от мобилизации, имея возможность пристроить своего человека охранником в тюрьму, расположенную прямо напротив его дома. Но он отказался. Раньше, в другой ситуации, ради спокойствия детей и жены он позволил себе согнуться перед напором колхозных коллективизаторов, но здесь уже до конца остался верен своим самым главным принципам и своему выбору. Погиб он весной 1944 года при освобождении Украины.
И почему-то получилось так, что очень схожими оказались по основной сути личные принципы моего погибшего деда, и его, совершенно совсем не известного ему при жизни, будущего зятя, т.е. моего отца.
Почему люди так упорно связывают, как свои судьбы, так и жизнь общественную с различными условностями, основанными на шитым белыми нитками обмане, и лицемерии? Зачем?
Вот, допустим, в Москве, отмечается День города. Её мэр, президент страны, премьер и другие ответственные лица поздравляют москвичей с праздником, с их трудовыми заслугами на поприще благоустройства столицы нашей Родины, радуются за темпы и масштабы созидательных работ, рассказывают о новых планах и замыслах по грандиозному обустройству городской инфраструктуры. Мэр благодарит президента за заботу о Москве и москвичах, благодарит премьера. Москвичи кажутся себе, действительно, очень заслуженными и особенными людьми, самостоятельно создающими для себя, в своей любимой Москве, всё более прекрасные, цивильные условия существования.
И почему-то для всех участников шумного праздничного столичного шоу не имеют совершенно никакого значения вопросы, которыми в это же время задаётся огромное множество таких же российских граждан, но, проживающих не в самом главном городе страны, а во всех остальных, простых, не главных, провинциальных, малозначительных, по чьим-то хитромудрым меркам, населённых пунктах.
Если основная потенция быстрого, объёмного, непрерывного преобразования Москвы заключается лишь в финансовых и профессиональных возможностях самих москвичей, её мэра и президента страны с премьером, тогда, конечно же, совсем ни к чему благодарить все другие российские города, власти и жители которых, как тогда получается, просто бездарно не способны изыскивать средства и возможности для сопоставимых с московскими масштабов и темпов развития собственных территорий. Но ведь это же не так. А если это не так, то почему же тогда мэру Москвы, москвичам, президенту и премьеру не поблагодарить, прежде всего, жителей всей остальной России за долготерпение, за то, что все они стойко переносят тяготы этапа, на котором осуществляется активное преобразование столицы, в ущерб финансовому положению и активному преобразованию их собственных городов? И уже не просто поблагодарить от всего сердца, но и назвать сроки начала нового этапа, этапа развития всей страны и всех российских территорий. В противном случае, всё это уже начинает слишком нагло переходить все рамки всех приличий сосуществования столичной конгломерации со всеми другими территориальными составляющими нашей единой, самой ресурсно богатейшей и самой ядерно мощнейшей в мире державы.
В голодное, беспощадное военное время растить одной пятерых детей – задача, по нынешним раскладам, посильная далеко не каждому, но, по тогдашним нормам, вполне, для множества русских женщин, обычная, хотя и во всех отношениях беспросветно тяжкая.
А в 1944-ом ещё один удар – в дом пришла похоронка. Но она выстояла и продолжила движение к намеченной прежде главой семейства цели – выучить детей, чтобы не пришлось им горбатиться всю жизнь в «родном» колхозе.
Старший сын, хорошо успевающий в школе, поступил в педучилище. Он очень тяжело пережил страшную весть о гибели отца. А до войны, случалось, когда отец, иногда, приходил, не слишком крепко держась на ногах, на школьный двор, проведать своих детей, угостить их какой-нибудь сладостью, типа, разноцветных петушков, он подвыпившего родителя стыдился и обижался на него, в отличие от, маленькой ещё, средней дочери, всегда и везде радовавшейся и отцу и его гостинцам.
После окончания педучилища, сына направили на работу в Таловский район, учителем.
Старшая из дочерей поступила на семимесячные курсы в медучилище, но знакомая докторша матери сразу похлопотала о переводе на двухгодичное обучение. После распределения, и дочери, как и сыну, пришлось покинуть Бобров. Кого-то направили работать на Сахалин, а она с другими сокурсниками попала на Памир.
Средняя дочь, по стопам старшего брата, поступила в педучилище. После трёх лет обучения мать отвезла её в Нижнедевицкий район, в сельскую школу, куда выпускницу Бобровского училища направили работать педагогом начальных классов.
Младшая дочь, как и старшая, пошла осваивать профессию медика.
Только младший сын старательно учился, пока что, в шестом классе, когда, в 1949 году, мать заболела. Сначала над глазом появился какой-то нарост, мешающий веку. Она обратилась всё к той же, своей знакомой, докторше – вот, мол, появился какой-то нарыв, глазу мешает, – и та безо всяких сомнений взялась решить этот простой, как ей сначала показалось, вопрос: «Да мы его махом удалим». После рядовой операции состояние пациентки стало ухудшаться. Заболевание оказалось связанным с селезёнкой. Больную направили в Воронеж и положили в стационар на Донбасской.
Главное и заключительное сражение между двумя противоборствующими подростковыми группировками на нашей улице состоялось уже после того, как водопроводная траншея была зарыта. Старшие ребята в очередном конфликтном споре, вдруг, решили, что окончательной победы будет достойна та команда, чей малолетний воспитанник окажется сильнее в честном поединке один на один. Сторона неуправляемых неформалов, в число которых входил и мой брат, ставку сделала на меня. А один из лидеров прирождённых официозников, сын заводского профсоюзного деятеля, выставлял на бой своего младшего брата. Внешне тот выглядел покрупнее и покрепче, чем я, и, видимо, поэтому исход сражения нашим недругам был заведомо ясен. Они вели себя самоуверенно и спокойно. Но и в нашем стане, почему-то, все, довольно сверхоптимистично, рассчитывали только на мою победу.
Прямо посредине улицы, вокруг нас, двух ещё даже и не пятилетних шкетов, образовался плотный и достаточно широкий круг. Я видел, что мой соперник не сомневается в своём силовом превосходстве, хотя оба мы знали и то, что он на несколько месяцев младше меня, а это уже и мне тоже придавало дополнительной решимости и показной развязанности. Да я и в самом деле не раздумывал, чем для меня может кончиться предстоящая драка, поскольку чувство долга перед своими наставниками и сторонниками в тот момент было выше всех других моих чувств.
Нас продолжали усиленно инструктировать наши старшие товарищи, как и куда бить своего противника, чтобы ему было больнее и чтобы скорее загасить его, как уклоняться от ударов, и делать обманные движения, как оказывать моральное давление на соперника, и мы, предельно взведённые и настроенные на кровопролитную махаловку, ждали уже только одного – начала нашего столкновения…
Бой был не слишком продолжительным. Он ринулся вперёд, так, как его и учили, пытаясь задавить меня массой, а мне удалось встретить его так, как учили меня – несколькими ударами в лицо, сразу же и решившими исход битвы. Превосходство школы рукопашного боя в стиле уличных «беспризорников» оказалось неоспоримым. Наступательный пыл рослого крепыша был сбит напрочь. Из его разбитого носа полилась кровь, из глаз – слёзы. Он кинулся назад в спасительные объятья своего брата и других ребят с их стороны, а я тут же оказался в объятиях радостной ватаги старших пацанов нашей бригады и своего брата. С ликующими возгласами они подхватили меня на руки и дружно стали подбрасывать высоко вверх. Их счастью не было предела…
Но и с моим менее удачливым соперником, в дальнейшем, мы не стали непримиримыми врагами, оба, по жизни, как со временем выяснилось, совсем не склонные ни к демонстративному превосходству над другими ни к злопамятству. Случалось, что вместе играли, общались, никак не считаясь с тем, что когда-то произошло. Правда, в подростковом возрасте у нас с ним снова приключилась короткая стычка, но в ситуации, когда по простому стечению обстоятельств оказался слишком неопределённым фактор правоты. И потом снова в наших отношениях всё наладилось. К тому же, наши матери, хотя и редко виделись, но были хорошо знакомы и всегда относились друг к другу с взаимной симпатией.
Его, не в меру задаватый, старший брат позже женился на дочери директора знаменитого на всю машиностроительную отрасль всей нашей огромной социалистической державы орденоносного предприятия. Но, спустя годы, они развелись. Говорили, что был он женат и на заведующей крупнейшего в ту пору городского универмага, и на дочери заместителя директора того же завода. В общем, парень, в этом отношении, сумел реально показать, весьма завидные для многих типичных понторезов результаты.
Ну а дочь директора, потом, продолжительное время руководила заводским Дворцом культуры, тем самым, где, пожалуй, впервые в городе появилась очень качественно оборудованная студия звукозаписи, на которой делались первые альбомы легендарной воронежской группы «Сектор Газа».
У моего прадеда по мамино-бабушкиной линии, того, которого ссылали из Боброва на Соловки, было два брата. Младший, ещё до Советской власти погнался за цыганами, укравшими коней, и его зарезали.
Сын среднего брата, примерно 1920-го года рождения, крёстным которого был мой дед, уехал перед войной в Москву, завербовавшись на работу вместе с двоюродным дедом моего деда. Начало у них получилось не очень удачным. Добравшись до столицы, они, по простоте душевной, очень были обрадованы предложением какой-то сердобольной девки, сразу же, как нельзя кстати, подвернувшейся, приезжим искателям лучшей доли, на вокзале и вызвавшейся помочь им с ночлегом. Расположившись в съёмном жилище, благодарные постояльцы охотно откликнулись и на предложение своей новой столичной знакомой культурно обмыть это дело. Проснулись они уже только утром, неожиданно обнаружив, что теперь у них нет ни денег, ни документов.
Преодолев возникшие дополнительные сложности, трудовые мигранты, всё же, сумели определиться в первопрестольной, и потом оттуда их забирали и в армию.
Представитель дедовой династии попал служить на границу с Ираном, а, когда началась война оказался на фронте, воевал и получил ранение в лёгкие. Доживал, вернувшись домой, в Бобров. Работал то бригадиром, то в ревизионной комиссии.
Бабушкин же двоюродный брат, крестник деда, служил на Балтийском флоте. Рассказывал, что в Эстонии, чемодан, хоть на дороге оставь, никто не стащит. И вздыхал: «Не то что в Москве». Во время войны, в бою, после гибели капитана, он принял на себя командование судном. Сначала его за это арестовали, а потом объявили благодарность и вручили награду от Калинина. После войны боевой военмор женился и остался жить в Петергофе. Одного из двух сыновей он назвал в честь своего, погибшего в 1944 году, крёстного. Умер в 50-х годах. Видимо, после всевозможных и всепогодных тягот и невзгод военной поры на Балтике, у него возникли проблемы с лёгкими.
Обеспечивал я восемнадцатого числа безопасность посещения избирательного участка моей мамой, бывалой пенсионеркой, которой уже за 85 перевалило. Сам-то я давно не голосую. Не вижу в таком ни на что не влияющем примитивном политическом шоу никакого смысла.
День был серый, на улицах было пусто.
Участок, как и в прежние годы, разместился в здании бывшего трамвайного депо. Административный корпус, после ликвидации в городе трамвайного сообщения, постепенно подмяли под себя какие-то коммерческие структуры. Часть территории трампарка, в конечном счёте, заняли производители пластиковых окон, а всё остальное, теперь уже, окончательно пошло под застройку – на просторной площадке установили несколько подъёмных кранов и заложили фундаменты, видимо, каких-нибудь элитных жилых домов, предварительно, снеся с лица земли вполне современные постройки мастерских и ремонтных цехов. Примерно, то же самое произошло и с другими депо. Все же городские трамваи, тоже уже давно, то ли пораспродали по другим городам, то ли поздавали, со всеми, не спеша демонтированными рельсовыми путями, на металлолом. Кого-то всё это с самого начала очень сильно огорчало и даже возмущало, а кому-то, что тогда, что теперь, что с трамваями, что без трамваев, что при коммунистах, что при демократах, один хрен – извечно полный отстой не только в системе управления и организации транспортной инфраструктуры, но и всей экономики и всей страны в целом. Но если посмотреть ещё шире, то на фоне в прах разрушенных сирийских городов, даже до предела запущенная современная Россия – не настолько уж и безобразно управляемая держава.
Главный корпус бывшего трампарка, в прошлом году, новые владельцы, полностью отремонтировали и снаружи и внутри, по самым что ни на есть, европейским стандартам. Заодно, богато облагородили установленный перед зданием памятный знак, посвящённый одному из не самых известных советских военачальников, а вместо неприметной деповской столовки, где иногда жителями ближайшей округи справлялись и поминки, бизнесмены открыли настолько же неприметный корпоративный ресторанчик.
Почему-то, на дорогостоящие ремонты, предприимчивые отечественные временщики, своих кровных капиталов, как правило, не жалеют. Потом, видимо, заметая следы, они перебираются куда-нибудь на другое место, а те, кто занимает их прежние владения, начинают с того, что полностью крушат шикарные интерьеры предыдущей евроотделки, и затевают ещё более затратную переремонтную европеретрубацию со всевозможными сложнейшими реконструкциями и перепланировками. Это только своим рабочим зарплаты нормальные платить у большинства из наших выдающихся работодателей рука не поднимается…
У обновлённого входа в обновлённое здание мы остановились. Возле припаркованных дорогостоящих иномарок прохлаждался кто-то из владельцев. «А где же теперь проход на избирательный участок?» – спросила его, моя, сопровождаемая мною, несгибаемо ответственно относящаяся к своим избирательским обязанностям, маманя. Молодой человек, проявив вежливое внимание, показал на двери с затемнёнными стёклами, и, аккуратно пройдя вперёд, зашёл с нами в фойе, и там тоже указал дальнейшее направление нашего движения. Мама косвенно поблагодарила отзывчивого проводника: «А эти что – безграмотные?» – она показала ему бадиком в нужную нам сторону – «Не могут на листке написать „избирательный участок“, и на дверь пришпандорить?».
На второй этаж, по облицованной керамогранитом лестнице я подниматься не стал. Решил никому не мешать своим праздным присутствием и никак не влиять на ход всероссийского процесса народного волеизъявления. Изредка мимо меня кто-нибудь проходил наверх, а кто-нибудь спускался на выход. Все – пожилые люди, и, преимущественно, женщины.
«Ты за кого голосовал?» – услышал я голос какой-то идущей по верхнему лестничному пролёту вниз избирательницы. «Ни за кого…» – буркнул в ответ голос мужской. «Не хочет человек выдавать тайну своего выбора и это его полное право» – подумал я. «Как ни за кого? Против всех, что ли?» – ещё настойчивее поинтересовался женский голос. «Против всех…» – снова, но ещё невнятнее, буркнул мужичёк, обречённо отбиваясь от своей ведущей бестактное дознание собеседницы, видимо, жены. «Дебил! Нужно было за Чижова голосовать! Он школам помогает… «Ни за ко-о-го-о-о…». Дебил!»…



