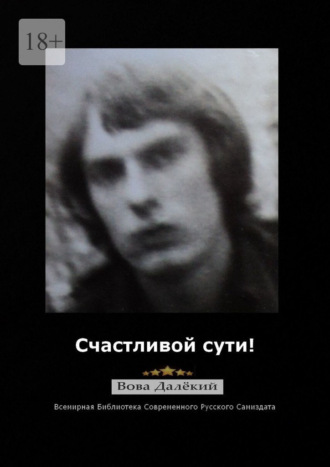
Полная версия
Счастливой сути! Часть 1
Мой дед погиб в 1944 году. Если бы он остался жив, то ничего другого ни от кого, ни ему, ни его детям и не нужно было бы.
Это же показало и время: выжить, и по-человечески жить можно и без отцов, навсегда оставшихся на полях сражений, и без не разрешённых посылок от заокеанской родни.
Но, в целом же, мир устроен так, что задают всеобщий тон мотиваций и правят в нём отъявленные крохоборы и махинаторы.
И всё же, всё было бы гораздо проще, если бы и в каждом отдельном человеке не таились, бог весть какие, всякий раз, подвигающие его не только к благоразумным действиям силы. И, прежде всего, именно поэтому, постепенно, с возрастом, обретя житейский опыт, люди становятся менее общительными, более замкнутыми, избегая потенциальных опасностей исходящих, практически, от всех окружающих без исключения, и, тем более, от людей малознакомых, или слишком долгое время остававшихся вне сферы близкого общения. Самые наибольшие вероятные угрозы для простого современного обывателя представляют такие же простые обыватели, или отдельные представители отдельных гос. структур, но никак не вся целиком вседержавная управленческая махина. Так бывало и в советское время.
Государственный произвол, в случае с зарубежными посылками, смешная нелепица по сравнению с тем, на что оказались способны люди, ради скорой и лёгкой наживы, не считающиеся ни с властными ни с общечеловеческими законами этой жизни.
В общих чертах, по рассказам вспоминающих, всё происходило, примерно, следующим образом:
В Коршево, неподалёку от Боброва, жили две подруги, мужья которых, одновременно, прислали им с фронта посылки с вещами. Где-то с кем-то кто-то из них поделился своей общей радостью, и об этом стало известно бандитам. По дороге из Боброва, с почты, в хлебах, обеих убили. В дальнейшем выяснилось, что уже после этого, в поисках новой цели для нападения, один из наводчиков, попросив воды у старшего брата моей мамы, заходил с ним в хату, на разведку, зная, что домочадцы, только что, зарезали целую корову и часть мяса продали. Что здесь злоумышленников остановило от дальнейших действий – неизвестно. То ли количество народа, то ли вид и количество детей. А спустя ещё какое-то время, лиходеев арестовали. Зарытые трупы двух несчастных коршевских подружек случайно нашёл пастух, когда бык, почуяв кровь, начал раскидывать землю на этом месте.
Потом даже маленькие бобровские дети бегали в Военный клуб, смотреть, как идёт судебный процесс. Зал был забит народом до отказа. Судья спрашивала одного из преступников: «Чья на вас рубашка?» «Моя». «Не ваша, а вот того-то». «Была его, а теперь моя». «А чьи ботинки?». «И ботинки тоже». Почему-то, даже и на суде, обвиняемый был одет во всё добытое каким-то неправедным путём.
К счастью, в достаточно сытые, вполне благополучные времена, люди имеют возможности переступать все нормы морали гораздо проще, без беспощадных насилий и убийств.
В восьмидесятых годах, какие-то борисоглебские переселенцы, вернулись из США назад в Россию. С ними, всё та же, энергичная представительница нашего бобровского «тейпа», снова попыталась передать из Америки посылку на Родину, в Бобров, своей двоюродной племяннице. Однако и тут сработала система контроля за перемещениями материальных ценностей, но уже системы не государственного, а более радикального, индивидуально-бытового уровня: возвращенцы, вдруг, оказались людьми падкими на чужое и посылку заныкали. Тем не менее, сын двоюродной племянницы от досадных последствий такой людской беззастенчивой вороватости не пропал, и с приходом отечественных демократов к власти, стал мэром Боброва.
Призванный в армию осенью 1944 года, основной период срочной службы, затянувшейся на неопределённое время, после окончания Второй мировой войны, мой отец, начиная с 1945 года, проходил в Советской Гавани в воинской части 09694 Военно-морской авиации Тихоокеанского Флота ВМФ СССР. В конце 1949 года ему был предоставлен кратковременный отпуск. Путь в родные края предстоял далёкий. Под Комсомольском-на-Амуре в ту пору ещё не было железнодорожного моста. Зимой пассажирам приходилось выходить на одной стороне широко раскинувшейся знаменитой дальневосточной реки и переходить на другой её берег по льду. А поезд двигался тут же, по временно проложенным путям. Несколько моряков, ехавших в отпуск, зашли в помещение привокзального буфета, согреться после нелёгкого, в такие морозы и на таких ветрах, перехода через Амур. Уже находившийся там офицер, ответив на приветствие изрядно подзамёрших матросов, как всегда принципиально бравирующих в бескозырках, сказал буфетчице: «Разрешаю подать товарищам морякам по сто грамм спирта».
Мне довелось проезжать теми же местами летом 1983 года и тоже во время своей армейской службы. Путешествие было впечатляющим. Больше всего поражала бескрайняя огромность необъятных просторов нашей Родины. Мы сопровождали груз – вагон с аккуратно уложенными в один ряд на полу ПЗРК – из сахалинского порта Корсаков на материк. Караульное подразделение состояло из капитана зенитного взвода нашего кадрированного мотострелкового полка, одного старослужащего старшего сержанта, одного старослужащего рядового и одного молодого рядового бойца родом из Комсомольска. Нас снарядили АКаэсами танковой роты с соответствующим боезапасом, матрасами с подушками, топором, вещмешками, и, загрузив в кузов трёхосного ЗИЛа, направили через Сокол и Южно-Сахалинск, минуя аэропорт с Хомутами, прямиком, считай что, на один из самых краёв земли русской – в Корсаковский порт. На самом деле, внешний облик населённых пунктов и уклад тамошней, островной гражданской жизни, и мои внутренние ощущения всего этого, ничем не отличались от обычных материковских.
После окончания хабаровской учебки, взводный хотел оставить меня в роте, но я хотел уехать в войска и высказал пожелание продолжать службу где-нибудь на Курилах. Зафрахтованным пассажирским самолётом, из Хабаровска, через Татарский пролив, покрытый сверху изредка рассеивающейся туманной дымкой, нашу партию доставили в Южно-Сахалинский аэропорт. Был солнечный весенний день. Нас вели колонной по дороге от здания аэропорта, а нам на встречу шла разнобойная колонна счастливых дембелей. Все в максимально навороченном солдафонском прикиде, все «по чернухе», т.е. в чёрных погонах, радостные и довольные, они, с каким-то неудержимым ликованием, на прощание, напутствовали нас, своих долгожданных сменщиков: «Вешайтесь! Это остров!». Глядя на них я подумал: «Неплохо вы тут прокантовались. И, главное, хорошо, что хоть дальше-то служить буду «по чёрному». Т.е. – в чёрных, а не в красных общевойсковых погонах.
В конце 1949 года моя мама, работавшая по распределению, после окончания Бобровского педагогического училища, в семилетней сельской школе, получила сообщение о смерти своей тяжело болевшей матери. Можно только представить, что творилось при этом на душе у 19 летней девушки, уже потерявшей в войну и отца. На формальное согласование с начальством времени не оставалось, итоги учебного полугодия были подведены, и горестно и одиноко, она поспешила к ближайшему поезду на Воронеж, а выбираясь на дорогу в сторону Курбатово, зачем-то оглянувшись назад, увидела издалека у сельсовета неизвестно откуда, вдруг, взявшегося здесь моряка в чёрном бушлате и бескозырке на белом фоне всей занесённой снегом округи.
В педагогическое училище её приняли в августе 1945 года. С выбором учебного заведения помогала врач райцентровской поликлиники, бывшая фронтовичка, оказывавшая, по возможности, содействие многодетной семье, оставшейся без погибшего на войне кормильца. Видимо, моя бабушка познакомилась с ней во время какого-нибудь обращения в поликлинику, и со своей стороны, конечно же, тоже старалась, по мере сил, быть хоть чем-то полезной своей настолько по-человечески душевно отзывчивой знакомой. Поступление средней из трёх дочерей в училище, улучшило и обеспечение семьи. Всем студентам помимо стипендий в размере 130 рублей, полагались и ежемесячные продуктовые пайки, состоящие из наборов с сахаром, крупами, маслом. А помимо ежемесячных стипендий и пайков, учащимся каждый день выдавалось по 500 граммов хлеба каждому.
Сидя за партой, на занятиях, невозможно было удержаться, потихоньку отщипывая от хлебного ломтя крошку за крошкой. Тогда четыре местные, бобровские студентки, решили скооперироваться, и поочерёдно получать целую двухкилограммовую буханку. Отщипывать от непочатой буханки рука уже не поднималась, и было что, наконец-то, по существу принести домой.
В 1942 году, когда немцы дошли до Колыбелки, началась эвакуация жителей Боброва. В ноябре ко двору подогнали колхозную подводу. Все куры и, постоянно прятавшаяся во время бомбёжек в убежище вместе с людьми, коза, были заранее порезаны, благо, что уже стояли очень сильные морозы, обеспечивающие прекрасные условия для хранения мяса. Но в полях, по дорогам бегало огромное количество мышей. Скирды все были проедены ими насквозь.
Загрузив подводу и привязав к ней прибившуюся ко двору в 1941 году корову из какого-то спешно перегоняемого с западной стороны бессчётного, никем не управляемого стада, всё семейство, включая и жившую по соседству, за огородом, мать моей бабушки, двинулось в сторону Шишовки. По пути пришлось сделать остановку в Коршево. Кто-то пустил их обогреться и поесть. Но пускали не все и не всех подряд.
Мамина бабушка, та самая, которая ездила на Соловки вызволять на волю мужа, частенько водила с собою своих внучек в церковь, несмотря на новые послереволюционные атеистические порядки. Моя, совсем ещё маленькая мама становилась на колени и усердно молилась, на умиление всем присутствующим там православным прихожанам. Когда же бывала у бабушки в хате, сразу забиралась на печку, а бабушка давала ей Евангелие: «Возьми-ка, почитай вслух». И она так приноровилась к этому делу, что читала старорусские книги Священного писания совершенно без запиночки.
Бабушка её обладала некой не совсем обычной силой верующего человека. Она умела лечить людей заговорами, молитвами, крестом. Лечила разное, в том числе и сибирку и рожу. За способность делать для людей то, на что мало кто способен, народ её очень уважал.
Однажды к бабушкиному дому подъехала бричка ГПУ. Ничего неожиданного в этом не было, ареста открыто верующей настолько неофициального значения, можно было ждать в любую минуту. Но и они повезли её исцелять кого-то из своих родственников.
Отношения с новой, Советской властью у множества людей старших и средних поколений складывались не очень гладко.
Дед мой, ещё и в середине тридцатых, работал плотником на маслозаводе. Но, поскольку двор его находился в части Боброва, Чукановке, относящейся к колхозным владениям, то ему, как и всем другим её жителям, было указано добровольно переменить все свои жизненные планы, и, со всем своим частным, подлежащим обобществлению излишним инвентарём и имуществом, записаться в число передовых сознательных советских колхозников. Дед, как и многие другие, от такого неожиданного бесповоротного предложения отказался. Тогда за дело взялись колхозные активисты. В дом к упорному строптивцу они нагрянули днём, когда хозяин был на работе. Начался погромный процесс демонстративного шмона и конфискации. Старшая дочь, которой тогда было лет 10—11, побежала за отцом. Средней, моей маме, которой тогда было лет 7—8, мать успела шепнуть: «Возьми деньги в самоваре и беги к бабушке», и она, в какой-то момент, незаметно вытащив узелок из самовара, и, крепко прижимая его за платьишком к груди, выбежала из хаты в сад, и через огород со всех сил устремилась на соседний бабушкин двор.
Дед не стал больше подвергать семью подобным испытаниям, отступил и записался в колхозники. Тут же, развивая успех, фанатичные коллективизаторы превратили его двор в хранилище для экспропреированного в округе имущества «единоличников», но он наотрез отказался вести с бывшими законными владельцами каждодневные разборки, и склад конфиската, по решению руководства, был перенесён в амбары у сельского совета…
А умерла мамина бабушка, году в 1958. Гроб, до самой церкви и кладбища, несли на руках одни бабы. Мужиков не подпустили. Так они её почитали.
Раньше на месте нашего посёлка, расположенного в частном секторе на юго-западной окраине Воронежа, находилась территория воинской части. Военные землю передавали Механическому заводу неохотно. Даже после того, как были нарезаны участки, их владельцев пытались не пропускать на всё ещё охраняемую территорию вооружённые часовые. Но со временем руководство завода решило все собственнические вопросы в свою пользу.
У работников мощного оборонного предприятия появились новые возможности быстрого улучшения условий жизни. Судьбы людей удачно складывались буквально в считанные годы. Устроившиеся на престижный завод вскоре могли бесплатно получить земельный участок сотки в три, неподалёку от места работы, под строительство частного дома. Кто-то отказывался, в ожидании готовых квартир, а кто-то, наскитавшись по чужим углам, охотно пользовался чудесным предложением. Для начала, на скорую руку ставили времянки. И тут же начинали строительство настоящих, с четырёхскатными крышами, кирпичных, или литых из шлака домов. Поначалу проектировались и дома на два хозяина, т.е. с общей стеной. Но потом всем желающим разрешили строиться отдельно.
Отопление в домах было печным. Воду брали из трёх колонок, установленных в среднем поселковом проулке. Электрическое освещение было не только в домах, но и на уличных столбах.
Обзаведясь добротными собственными жилищами, люди, в основном молодёжь из окрестных сёл и деревень, уже, несмотря на то, что далось всё это через постоянный неустанный труд, витали на седьмом небе от радости.
Но завод этим не ограничился. По посёлку была проведена и подведена в каждый дом вода. В домах появились титаны и ванны, чаще всего, устанавливаемые на кухнях. Сливные ямы рыли во дворах. Уровень комфорта стал существенно выше.
А ещё немного времени спустя, завод организовал проведение работ по газификации посёлка! Закончились каждодневные мытарства с углём и шлаком. Печи пошли под слом. Начались постепенные внутренние перепланировки. Для полного счастья теперь не хватало только лишь подключения к централизованной городской канализационной системе.
Но через некоторое время и этот вопрос тоже был полностью решён. К домам стали пристраивать санузлы, ванные, более просторные кухни, дополнительные комнаты, а то и вовсе отдельную жилую площадь для кого-нибудь из выросших детей.
Такие организационные действия тогдашней дирекции Воронежского механического завода заслуживают лишь самых добрых воспоминаний и оценок. Конечно же, много труда и средств пришлось вложить в обустройство своих индивидуальных владений и самим жителям небольшого городского частного квартальчика, называемого иногда в ближайшей округе «Палестиной».
В послесоветское время, когда ещё не было мобильной связи, все кто хотел и располагал финансовыми возможности, наконец-то, и телефонизировались. Но это уже полностью на коммерческих основах.
О таком уровне благоустройства и в наше-то время, и даже в Подмосковье, многие могут лишь мечтать. До сей поры даже там, в Подмосковье, не у всех в частных застройках имеется вода в домах. А в провинции и тем более. В деревне, откуда был родом мой отец, ещё и в середине шестидесятых годов не редко жили в хатах крытых соломой и с земляными полами. Если бы я сам не видел этого, я бы не поверил, настолько всё это, для меня, городского мальчишки, с рождения жившего в нормальном городском доме на территории находящейся в сфере жилищно-коммунальной ответственности легендарного ВМЗ, стало неожиданным и потрясающим.
Вот что значит высокая отраслевая репутация предприятия, и правильная активная социальная политика его руководства.
Результаты, достигнутые за годы становления и дальнейшего преобразования коммунальных инфраструктур заводского посёлка, в конечном счёте, оказались весьма впечатляющими.
Но и жизнь поколения «палестинских» первопроходцев уже приближалась к закату. Страна рушилась, и гордость военной и космической отрасли страны, завод орденоносец, под глобалистическим прессом тёмных сил буржуазного реваншизма, постепенно пустел и сдувался.
Вообще-то, есть отдельные подразделения, занимающиеся сопровождением грузов. Не знаю, из каких соображений, но, изредка, и от нашей части кого-нибудь отряжали на такие поездки.
В Корсакове наш старший, капитан зенитчиков нашего мотострелкового полка, отправился докладываться о прибытии. Вернулся расстроенный. Оказалось, что на этот же груз приехал караул и от роты сопровождения, а мы, со своими матрасами, вроде как, здесь уже и ни к чему. Возвращаться в полк ни с чем, без длительной поездки, ему, как и нам, троим его подчинённым бойцам, явно, тоже совсем не хотелось. Видно, надоело ему уже не меньше нашего тащить непрерывно изо дня в день постылую гарнизонную службу. А путешествие-то, действительно, наклёвывалось интереснейшее: через весь Дальний Восток от Сахалина до Благовещенска и обратно. «Столько можно было бы увидеть в пути!» – мысленно сокрушался я. Как потом оказалось, начальника караула в этот момент мучили другие переживания: он уже настроился хорошенечко отоспаться на маршруте, и при этом, потом, суметь порадовать семью возможными излишками дефицитной тушёнки и сгущённого молока, которые, обычно, в более чем достаточном количестве выдаются в дорогу служивым сопроводителям груза. Капитан постоял, подумал, что-то окончательно решил, и снова порулил по шпалам на командный пункт распределителей секретных перевозок, перетягивать вагон с ПЗРК под свою юрисдикцию.
После окончания срочной службы, длившейся целых семь лет, осенью 1951 года мой отец вернулся домой, в деревню. Ему предлагали остаться на сверхсрочную, но он отказался. В дорогу демобилизованных снаряжали, как самых родных и близких людей: хорошее обмундирование, запасные комплекты белья, несколько комплектов постельного белья, продукты и, конечно же, довольно приличное денежное довольствие. Деньги, вернувшись в деревню, он потратил на покупку новой хатёнки, в которую всеми и переселились.
Старшая сестра перебралась в Воронеж ещё в конце тридцатых. Поступила в педучилище. Но когда немцы приблизились к городу, пришлось перебираться назад, к матери. А после победы она снова подалась в областной центр.
И он теперь тоже не стал задерживаться в колхозных владениях, и, прописавшись у отца в общежитской комнатке «Холодильника», по совету ещё одного родственника, работавшего с довоенных лет на ВМЗ, быстро устроился туда же. Взяли его мотористом в шестой цех, где в то время проводились стендовые испытания двигателей нового вида авиационной техники – вертолётов.
Первая попытка познакомиться с молоденькой учительницей, работавшей по распределению в его деревне, потерпела неудачу. Она не пошла на встречу ни бывшему моряку, ни другому местному бывшему армейцу, тоже пытавшемуся подбить клинья под очень привлекательный и престижный, по местным меркам, вариант женитьбы. К делу, потихоньку, уже активно подключались и родные второго претендента со своими основными аргументами – имеющейся пасекой и ощутимым финансово-вещевым достатком, хотя и сам кандидат в женихи выделялся статью и уравновешенным, покладистым характером.
Про моряка же окружающие говорили ей разное. И что пасеки у его родителей нет, и что отец его вовсе гулевой и пьющий, бросивший семью на произвол судьбы и в городе без кола и двора живущий, да и сам парень выпить и, при случае, в драку какую вписаться, тоже не прочь…
Но судьба уже давно вела его более верным и целенаправленным путём, нежели это всё ещё могло кому-то показаться со стороны.
В августе 1952 года ему потребовалась справка об окончании шести классов, для поступления в вечернюю школу. Нужно было навёрстывать и в учёбе упущенное за годы войны и затянувшейся армейской службы.
В довоенное время в их деревне особым авторитетом у сельчан пользовалась старая учительница начальных классов. Она была очень строгая и своенравная. Иногда могла и всандалить линейкой кому-нибудь из отстающих учеников, за нерадивость. Но зато и почерк у всех её воспитанников отличался каллиграфической аккуратностью. По церковным же праздникам она, невзирая на ещё более строгие советские порядки, всякий раз, открыто шла, несгибаемо одинокая, через всю коряво тянущуюся вдоль болотистого лога разрывистую деревенскую улицу, в избищенский храм. И никаких мер к простой старой учительнице начальных классов, за такую её непоколебимую и наглядную верность своим прежним идеалам, руководство школы и колхозного партактива применять не решались.
Кстати говоря, в соседней, избищенской, церкви крестили всех жителей деревни, в том числе и моего отца. Когда в 1986 году пришло время и для моего младшего племянника, моя мама со своей сестрой сначала пошли в Никольскую церковь узнать, можно ли в ней провести обряд крещения. Такие вещи тогда делались в нашей стране полусекретно, как бы, втайне от властей. Внутри соборного помещения шла служба. Какая-то распорядительница продающейся церковной утвари, на прямой вопрос отвечала, видимо из соображений необходимой конспирации, не совсем конкретным намёком и, к тому же, одновременно слитно с исполнением своих соглядатальских функций, обращённых на присутствующих в храме прихожан: «На колени, на колени, „Верую“ читают, „Верую“ читают… Ищи блат… На колени, „Верую“ читают… Ищи блат, ищи блат… „Верую“ читают», на колени, «Верую» читают…». Увы, не только в миру развитого социализма для свершения даже и богоугодных дел нужны были блат, подвязки, подмазки, отстёжки.
Решили обратиться в церковь, расположенную в селе Девица. Там на прямой вопрос ответили прямым отказом.
Ещё раз всеми посовещавшись дома, в итоге, поехали, на своём ноль первом «Жигуле», прямиком в Избище, подальше от мест, уже и тогда заметно опошленных всеобщим неудержимым возжеланием чрезмерных благ урбанистической цивилизации, в родную бездорожную глубинку, на родную батину сторонку, где, можно сказать, в своей, фамильной, церкви, безо всяких околокультовых намёков, махинаций и подкупов, благополучно и крестили самого новорождённого и его старшего четырёхлетнего братана.
После школы старший получил высшее образование, защитил кандидатскую и стал преподавать в универе. А вслед и младший, выучился, защитился и тоже, там же, занялся активной научно-просветительской деятельностью.
Вот и получается: не ищи зря, где попало того, что у тебя уже давно есть. Или, как иносказательно говорится в Библии: всегда ходите прямыми путями. Например, как та, старая одинокая деревенская учительница. Или, как высшие силы, уже и с самого начала твоего пути, всячески преграждающие тебе всевозможные окольные завороты не к твоей, по высшей сути, например, Никольской, и не к твоей, по высшей сути, например, Девицкой, и направляющие тебя, и в случае с местом твоего крещения, только прямым ходом к твоей, по высшей сути, например, Избищенской церквухе.
Но в человеческом мире всегда всё было гораздо сложнее и запутаннее. Практическая жизнь в постоянном окружении и взаимодействии даже лишь с бесчисленным числом суверенных интересов и сил каждого отдельно взятого человека разумного, несравнимо произвольнее, непредсказуемее и многообразнее, чем все вместе взятые бесконечные попытки литературных, философских, религиозных и прочих её отображений и осмыслений.
В отличие от заслуженно неприкосновенной бывалой учительницы, с другой, молодой преподавательницей той же школы (тоже, как и моя мама, выпускницей бобровского педучилища), уже после войны, никто церемониться не стал, и как только она, выходя замуж, обвенчалась со своим избранником, её сразу же из этого же учебного заведения и уволили. Именно на это, освободившееся место, потом и перевели из совсем небольшой соседней коммунарской школы, новую преподавательницу начальных классов, т.е. мою будущую маму. Перевод был инициирован и осуществлён вопреки её собственным пожеланиям. Сама она не хотела расставаться с очень хорошей владелицей подворья, к которой её определили на постой, но пришлось выполнять решение начальства и снова перебираться на другое место.
На новом месте, с новой хозяйкой, действительно, уже не повезло.
Зато, здесь-то, и появились два самых реальных, с самыми серьёзными намерениями, соискателя её руки и сердца. Из окружающих, кто-то поддерживал более формально основательную кандидатуру, но и у моряка тоже хватало идейных сторонников, в том числе и в педагогическом коллективе.
В одноэтажном светлом здании сельской семилетки, в учительской, директор, подготавливая запрошенную бывшим морфлотовцем справку об окончании шести классов, всячески старался обратить его внимание на ту самую училку, давно уже тем запремеченную, а её на него. Выдавая же просителю готовый документ, деликатный директор, в завершение своих тактичных посреднических хождений вокруг да около, обращаясь одновременно к обоим, в качестве всё окончательно проясняющего и всем всё доказывающего несомненного аргумента, добавил: «Между прочим, вы были бы хорошей парой».



