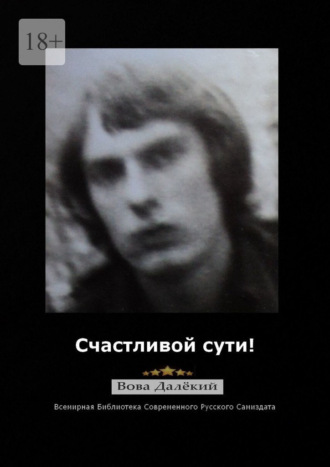
Полная версия
Счастливой сути! Часть 1

Счастливой сути!
Часть 1
Вова Далёкий
© Вова Далёкий, 2025
ISBN 978-5-0068-2541-3 (т. 1)
ISBN 978-5-0068-2542-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие
Первая публикация книги «Счастливой сути!» началась 4 июля 2016 года на страницах аномального паблика «Неформальные Всепогодные Новости» (Воронеж ИНФО-НВН), в разделе «Из полного собрания сочинений», в котором размещались отдельные произведения таких авторов, как Воль Неж, Владимир Воронежский, Вова Далёкий, Виктор Золотухин (Эш), Uri Pech, Владимир Котенко, Юрий Фетисов, Стас Фёдоров. В качестве иллюстрации, к этому эксклюзивному, неформальному изданию этой книги использовалась картина известного русского живописца Николая Трощенкова, выполненная в сюрреалистической манере. Заключительный же пост с растянутой по времени публикацией содержания книги В. Далёкого на страницах этого паблика был размещён 1 мая 2018 года.
Сам автор позиционирует свою книгу и её структуру в своих собственных специфических терминах, согласно которым, книга «Счастливой сути!», это – «романевич», состоящий из трёх, неразрывно связанных между собой отдельных «кусков», где одним из главных действующих лиц является мистико-реалистический герой – шатен. Пабликом «Неформальные Всепогодные Новости» публиковался только «первый кусок» этого очень необычного и очень интересного произведения.
Теперь, вашему вниманию предлагается бумажная версия этой же публикации, по праву вошедшей в книжную суперсерию «Всемирная Библиотека Современного Русского Самиздата».
Кусок №1
Водитель «девятки» краем глаза дружелюбно посмотрел на попутчика, для начала приятного дорожного разговора, поднявшего любимую тему всех водителей о некой, как бы, всем известной непорядочности и жадности работников ГИБДД.
«Да? А у меня о них, вот, немного другое представление. По своему личному опыту общения сужу. Первый случай такой мне запомнился. Я тогда ещё сам за рулём не ездил, прав у меня ещё не было. Возвращались мы, как-то днём, с отцом, на его «копейке», по курской трассе, домой, в Воронеж. И, как обычно, на спуске к мосту через Дон, где дорога расширяется, прибавили немного газу. И смотрим – вот они ГАИшники, показывают нам – останавливайся. Мы не поймём в чём дело. Останавливаемся. Батя из кабины выходит, предъявляет документы. В чём дело, так ещё и не понимает. А ГАИшник ему и говорит: «Нарушаете. Превышаете скорость». Как превышаем? Ехали не больше 90 км/час. «В том-то и дело, что 90. А знак вы разве не видели?» Оказывается, установили уже дорожные службы в начале спуска знак ограничивающий скорость до 60 км/час. А мы-то его, по привычке, и не заметили. Вот тебе и нарушение. А время было тогда тяжёлое у всех работяг, и, особенно у пенсионеров. Пенсии и зарплаты месяцами не платили, а тут ещё и такой удар по семейному бюджету. Поглядел их старшой на наши лица и на наш рабочий дачный прикид, и говорит бате: «Штрафовать вас на этот раз не стану. Впредь будьте внимательнее. Вот ваши документы. До свидания. И вспоминайте добрым словом семилукское ГАИ».
С тех пор вывод я для себя сделал простой: ГАИшники это такие люди, которые зря тебя тормозить не будут, но могут, даже если ты и виноват, отпустить безо всяких финансовых санкций, если твоё финансовое положение наглядно неблагополучное.
И что самое интересное, вскоре я опять же стал непосредственным свидетелем аналогичного случая. Мой хороший знакомый тогда ездил на видавшей виды жёлтой «шестёрке». Сидел без работы и однажды попросил меня махнуть с ним в деревню к тёще за картошкой. На подъёме в гору был знак «Обгон запрещён». Впереди, прижимаясь к обочине, ехал трактор. Конечно же, мы его аккуратно, обогнали. И, конечно же, нас сразу же, там же, на подъёме, остановили ГАИшники. Мой приятель, не вступая в бессмысленные споры, тут же взмолился: «Ребята, Христом Богом прошу, не штрафуйте. Жить не на что. Выбрался, вот, за картошкой к тёще. Спасибо, друг помогает, и канистру бензина дал, и съездить со мной согласился». Про канистру он на ходу присочинил, но с деньгами у него, действительно была в ту пору полная ж-па. И, представь себе, работники ГАИ поняли это безо всякого труда. Хмуро отдали права, сказали: «Больше не нарушай», и всё на этом таким благополучным образом для моего знакомого закончилось.
Сам я водить машину начал, примерно, класса с восьмого. Отец меня научил. Практиковался, в основном, за городом, сначала по грунтовкам, а потом и на трассе. Но жизнь сложилась так, что на права я пошёл учиться только лет в сорок. Годик поездил на «копейке», оставшейся от отца. Это было уже в начале двухтысячных. Раза два пришлось съездить в Москву. И за обе поездки только один раз остановил меня гаишник. Было это ночью, зимой. Мы проезжали стационарный пост ГАИ на трассе, и по сигналу постового, припарковались у них на площадке. Он подбежал вслед, и не обращая внимания на приготовленные мною документы, сказав: «У вас не горит правая фара. Будьте осторожнее. Счастливого пути», поспешил назад. Но приостановился, обернулся, крикнул: «Какого года машина?» и услышав «1972 —го» побежал дальше, своей дорогой. А мы поехали дальше, своей, на Москау…
Не знаю, с каких пор повелось называть «Жигули» первой модели «копейками», но мы свою машину так никогда не называли. Тогда, в начале семидесятых, это был самый современный в СССР автомобиль. Представляешь, целый завод купили в Италии. Получается, что и тогда наши властители особо не парились насчёт собственного развития собственных производственных технологий. Тупо или крали или закупали на западе уже готовое. Но завод в Тольятти отгрохали, конечно, громаднейший. Название для новой легковушки выбирали, как бы, всей страною. Мне оно сразу не понравилось. «Жигули». Не подходящее для машины название. Да и её внешний вид особо-то не впечатлял, а скорее даже разочаровывал. Впечатляла стоимость. Многие советские граждане вообще не могли и мечтать о такой покупке. И, в то же время, желающим приобрести новое авто приходилось записываться в очередь и ждать счастливого момента годами.
Отец мой работал на знаменитом ВМЗ. Там, под грифом «секретно», выпускали двигатели третьей ступени для ракет. В том числе и для той, на которой запускали в космос Гагарина.
Батя был с последнего военного призыва, осени 1944 года. Попал сначала на Урал, а оттуда после курса обучения, повезли их на Дальний Восток воевать с Японией. Но пока добирались до места, война закончилась, японцы капитулировали. А часть, в которой оказался батин друг, односельчанин, Алексей, с которым вместе они призывались, успели перебазировать и кинуть в бои. Там он, Алексей и погиб.
Во Владивостоке молодых бойцов пехотинцев стали распределять по разным действующим частям. Отца отобрали для дальнейшей службы на флоте, корабельным мотористом. Но какой-то другой офицер отвёл его в сторону и сказал: «Слушай, зачем тебе нужен этот корабль? Ты же в этом моторном отделении света белого видеть не будешь. Давай к нам, в морскую авиацию!». Бате очень хотелось в море, но офицеру всё же удалось его убедить, и он согласился: «Только меня же, ведь, уже записали в моряки». Морлёт лишь ещё больше взбодрился: «Решим вопрос!».
Так батя оказался на легендарном острове Русском в учебном подразделении. Освоив специальность оружейника, он был направлен на аэродром, располагавшийся недалеко от порта Ванино. Семь лет он отслужил в морской авиации Тихоокеанского флота. Демобилизацию, в связи со сложной внешней политической обстановкой, постоянно откладывали.
С одной стороны, не позавидуешь – семь лет срочной службы. А с другой – вроде, как даже, и повезло. Сам представь. Жил в деревне. Жили бедно и голодно. Настолько голодно, что людям, порой, приходилось идти на самые крайние шаги. Бате было года четыре, лет пять, когда его привезли в Воронеж, чтобы оставить на вокзале. Но он тогда ничего даже и не понял. Старшая сестра не смогла бросить брата. Посмотрела уже со стороны, как он стоит один, ничего ещё непоправимого не предчувствующий, маленький, с доверчивым любопытством оглядывающийся по сторонам, терпеливо ожидающий её, как ему и было сказано, и не смогла. Узнал он об этой истории от чужих людей, когда приезжал в армейский отпуск. Сначала обозлился на мать страшно, а спустя немного времени, успокоился, смог понять, и впредь всегда относился к ней, как и прежде, с любовью и по-доброму.
Отец его, мой дед, после коллективизации сразу рванул в город, хотя сделать это было очень непросто, паспортов-то на руках ни у кого не было. Но самые непокорные всё равно находили пути. Всякие нужные справки добывали. Всё бросали. Так и дед. Через знамых людей обзавёлся справилой, нашёл себе в Воронеже работу с общежитской халупой и с пропиской. Семье, как мог, помогал какой-никакой копейкой, навещал с гостинцами. Но жизнь-то, всё равно уже, и у семьи и у него, была обездоленная какая-то. Хотя, батя мой отца своего любил. При случае бывал у него в городе.
А тут, вдруг, вот тебе и война. Деда мобилизовали. Служил он в инженерных войсках. При наведении мостов, часами случалось стоять по пояс в ледяной воде, а то и под обстрелами. Но он выжил. Прошёл всю войну. И снова вернулся в свою общежитскую четырёхместную комнатушку, к своей прежней работе на «холодильнике».
Деревня же оказалась на оккупированной немцами территории. Сразу кто-то выдал председателя, не успевшего уйти за Дон и вернувшегося домой. Не смог кто-то простить ему. Сдали под расстрел.
При немцах стало ещё хуже. В любой момент можно было попасть в немилость и лишиться жизни. По самому краю ходили все – и стар и млад. Постоянно. В любом ненормированном случае меры ко всем могли применяться драконовские.
Когда наши отступили, несколько деревенских подростков, лет по 14—15, среди которых был и мой батя, на одном из оврагов, за селом, нашли укрытие и брошенные винтовки. Тут же устроили развлекательную пальбу. И хорошо ещё, что успели вовремя заметить мчащихся из деревни к тревожному месту мотоциклистов. Едва сумели убежать оврагами. А вот мой дядя, младший брат бати, отчаянный шкет, которому тогда было лет 8, попробовал утащить у немцев из палатки пачку сигарет, а заодно прихватить и пистолет. Не удалось только благополучно покинуть место преступления. Его поймали и поволокли за околицу расстреливать за воровство, да к тому же, оружия. Мать чудом успела притащить старосту-переводчика, бывшего в Первую мировую в германском плену, который чудом уговорил начальника не убивать мальца.
Угоняли людей и в Германию. За старшой сестрой, моей тётей, тоже пришли. Полицай и немец. Она болела и лежала на кровати. Матери дома не было. Полицай схватил сестру за руку и потащил беззащитную девушку к двери. Батя бросился на него. В борьбе тот оттолкнул подростка от себя, и вскинув винтовку попытался выстрелить в него. Но немецкий солдат успел помешать, а потом дал команду никого не трогать, и ушёл, сопровождаемый послушным христопродавцем.
Случались и просто чисто бытовые незначительные происшествия.
В одной из хат квартировался немец, шофёр. Как-то он оставил свои сигареты на столе, а старый дедок, хозяин, возьми и вытяни из пачки одну штучку, попробовать, какой он на вкус оккупантский табачок. Думает, не заметит же квартирант такую пропажу. Немец вечером подзывает деда к себе: Пан, ты, мол, взял сигарету? Дед крутит головой: да нет, не брал я ничего такого. Немец – хлесть деду по лицу: «Никогда не ври, пан». Хлесть второй раз по лицу: «Никогда не воруй, пан». Подаёт ему всю эту пачку сигарет и говорит: «Бери, пан. И без разрешения больше никогда ничего не трогай». После Польши они всех наших мужичков «панами» звали.
Или вот, двоюродный брат моего отца рассказывал историю. Он тоже в той же деревне жил. Лет двенадцать ему тогда было. Пас он на взгорке козу. Смотрит, останавливается рядом на дороге грузовик. Выходит из кабины водила. Не немец. Финн. Открывает капот. Достаёт ведёрко и командует пацану: Беги, мол, быстро, сюда! Давай, дуй к колодцу за водой! Мальчишка отказываться: «Не могу козу бросить. Сам беги». Финн суёт ему силком ведро в руки, злится: «Беги за водой!». Пацан ни в какую. Не берёт ведро, упирается: «Не побегу. Беги сам». Финн, тогда, бить его. А неподалёку несколько немцев отдыхало. Смотрели что происходит. Поднялись быстро, подходят: «Ты за что бьёшь ребёнка?». Финн объясняет им, что и как. Они ему и говорят, финну: «Взял ведро и побежал к колодцу за водой! Бегом! Туда и обратно бегом!». И пинков ему вслед, для скорости. Сбегал финн. Получил ещё в придачу от старших союзников, в кабину влетел и по газам, подальше от этого русского «беспризорника» несгибаемого и от этих неблагодарных немцев. «Финны очень злые на нас были. Немцы не такие. Они были справедливее» – говорил мне двоюродный мой дядя, спустя уже больше 40 лет после войны. А в Питере теперь, видите ли, Маренгейму памятную доску торжественно открыли русский министр образования и глава президентской администрации. Охренеть, как всё в этом мире поперевернулось после 90-го. Так, он ещё, что рассказывал. Немцы, когда отступали, подарили ему две пары отличных лыж, карты игральные и ещё каких-то вещей хороших. Вслед пришли наши передовые разведчики. Всё себе на ходу забрали. И лыжи и карты и вещи. Не знал он ещё тогда, что, оказывается, и от своих прятать нужно было.
Или вот ещё интересное сопоставление: немцы быстро организовали работу и проложили от станции до райцентра многокилометровую узкоколейку, которую после освобождения наши, зачем-то, ещё быстрее взяли и разобрали.
У бойцов передовых разведгрупп доля, конечно, была нелёгкая, поэтому их жёсткость, даже иной раз и по отношению к своим, понять можно. Главное, что они выполняли свою непростую боевую задачу. Выполняли, или погибали при выполнении. Рассказывают, что в плен они никого не брали. А если местные жители указывали на убеждённых фашистских пособников, то ни на какие дополнительные выяснения время тоже не тратилось. Полицаев, холуев немецких, подвернувшихся таким образом под руку, стреляли, где придётся, и продвигались дальше, вперёд. Но вот на старосту, из деревенских никто указывать не стал. Знали, что назначили немцы его старостой сами, помимо его воли, за возраст, образованность и знание языка. И очень много он сумел сделать для односельчан, спасая не только от случавшихся опасных передряг и невзгод, но было, что и от смерти.
Никто никаких претензий не имел и к брату моего деда. Он в начале войны попал в окружение. В старости уже, рассказывал мне, как всё потом было. Разбежались все врассыпную. Вдвоём, говорит, с совсем молодым парнишкой брели мы брели, голодные, оборванные. Кругом немцы. И в один из дней сидим во ржи, зёрна еле жуём. Тощие оба, измученные. Я ему говорю: «Давай решать, что делать дальше будем. Больше мы с тобой идти не сможем. Вот пистолет. Давай или сами застрелимся, или встаём, и если убьют, так убьют. А в плен так в плен. Мне сейчас всё равно. Выбирай». Ну и решили, что встанем, и будь что будет. Поднялись вдвоём среди поля. Ждём пуль. А немцы, какие на мотоциклах проезжают, на нас и не смотрят. Потом, глядь, один останавливается. Машет: идите сюда. Посадил он нас, одного сзади, одного в люльку и повёз в село, в часть какую-то. Накормили нас там…
Определили они его в обоз. Так он добрался до курской области. Через кого-то передал письмо жене. Немцы тогда ещё даже и из накопительных лагерей не редко отпускали по домам тех, за кем родственники приходили. И его тоже жена сумела вытащить. Добралась, нашла, что-то там кому-то проплатила и всё. До прихода наших, жил он дома, в деревне. И немцы его не трогали, хотя два его брата, тем временем, продолжали стойко воевать против них. Когда деревню освободили, его, как положено, допрашивали особисты, проверяли. И тоже, ведь, не стали губить жизнь человеческую. В итоге, снова его призвали в действующую армию, где он и провоевал с 1943 года до самой Победы. И все три брата вернулись с войны живыми, и, в общем-то, невредимыми. А бабушки моей брат, танкист, погиб в 1942 году. Вроде бы, в Новгородской области, в деревне Никольское.
Под Воронежем тоже Никольское есть. Кладбище там, рядом, большое городское, Никольское. Тётя моя там похоронена, младшая сестра батина. И дочь с нею её. Ненадолго мать свою пережила, быстро без неё совсем спилась. А могла бы и не спиваться. Выучилась на ветеринара в Конь-Колодезном. В цирке работала. За границу даже ездила…
И друг у меня там похоронен. Вместе росли, учились. Он стрельбой со школы занимался. У нас там в подвале тир был. Там он и добивался своих первых спортивных результатов. В соревнованиях успешно участвовал. Когда в армию пришло время идти, ему, по спортивной линии, помогли остаться в Воронеже, при Авиационном училище. Потом закончил институт спортивный. Стрелял постоянно. Но перешёл уже на боевое оружие. Тренировался в Шиловском лесу. Я тогда, году, примерно, в застойном 1979-м, учился в универе, и, как-то вместо занятий махнул к нему на Шиловское стрельбище. Весна уже была, теплынь, на стрельбище безлюдно. Сначала на одном рубеже он дал мне пострелять из Макарова. А до этого я только из мелкашки, и один раз из карабина Симонова на курсах уроков НВП, стрелял. Из пистолета потруднее оказалось, хоть мишень, вроде бы и близко. Он мне подсказал, как нужно. Лучше стало получаться. Потом перешли на другое место, стрелять из АКМ, с позиции лёжа. В армии мне потом всё это пригодилось. А тогда он ещё мне и из трёхлинейки с оптическим прицелом дал выстрелить пару раз. Прицел высоко закреплён. При желание можно и на обычную мушку мишень брать. Я решил попробовать. Слышу: «Осторожнее!», а уже и на спусковой крючок нажал. От отдачи, сильнейшим ударом оптики мне бровь рассекло. Чуть-чуть не успели предупредить. Опытные стрелки помогли обработать ранение, приговаривая: «Как же ты так быстро-то. Ну, теперь и сам будешь знать. Это ты ещё легко отделался. Счастливчик».
Работать друга моего устроили в пожарку. Занимался он параллельно и тушением пожаров и стрельбой. И на пенсию вышел рано. Но и тогда его не бросили, оформили в оружейный магазин на «Динамо». Летом он любил съездить на рыбалку на своём универсале ВАЗ-2110. Как-то остановившись на дороге, и открыв дверцу, он поприветствовал меня и радостно поделился сообщением: «Еду на рыбалку, с ночёвочкой!». «Давай! Счастливо отдохнуть, порыбачить!». Сам-то я не любитель всего этого, но и против таких увлечении ничего не имею, наоборот, поддерживаю. Через несколько дней встретился с ним на нашей улице. В первый раз за всю жизнь он был в сильнейшем подавленном состоянии. Я у него успел только спросить «Как ты?», но он уже двинулся дальше, в сторону дома: «Да, ничего…». Появилось тревожное ощущение: «Может быть, заболел не на шутку? Или что-то случилось?». А ещё через несколько дней его не стало. Шёл вечером из «Динамо» к остановке, и, говорят, плохо стало с сердцем. Упал. Лежал какое-то время один. Людей никого поблизости не было. Так и умер. Но так ли всё было на самом деле, теперь уже мы никогда не узнаем.
Жизнь пролетает, оглянуться не успеваешь. Недавно, вроде бы, ещё пацанами бегали, играли, округу осваивали, в школе учились.
Не знаю, как кто, а я в школу ходить не любил. И детский сад тоже не любил. Любил отца своего и мать.
В детсад меня водили мимо разрушенного, наверное, ещё войной, большого мрачного здания из красного кирпича. Кажется, это была церковь. Место производило тягостное впечатление. Такого поблизости нигде уже не оставалось. Потом руины, всё-таки, снесли и построили, от мехзавода, светлый, современный Дворец культуры. В нём, в восьмидесятых появилась студия, на которой наш, воронежский «Сектор Газа» альбомы первые записывал. Кстати, Хой, лидер группы, какое-то время ГАИшником служил. На днях по ТНТ показывали передачу, из серии про экстрасенсов, посвящённую всяким странностям, связанным с очень уж неожиданной смертью самого Хоя, а затем и его музыкантов. Почему всё так случилось – тоже не понятно. Соло-гитарист недалеко от меня жил. Нас приятель мой познакомил ещё до того, как он в «Секторе» стал играть. Он ко мне заходил, я к нему. Хороший парень был. Спокойный, приветливый, высокий, симпатичный. Трудно ему было без востребованности. Настоящему, талантливому музыканту всегда нужен спрос для возможности творческого самовыражения. Потом встретились мы с ним на трамвайной остановке возле нас, вижу, он как-то, внутренне живее стал, как бы опоры обрёл какие-то. Но и всё равно, чувствовалось, что не до конца он в них уверен, в опорах этих. Спрашиваю его: «Как жизнь?». Он говорит: «Сейчас в „Секторе Газа“ играю». Вижу: и рад он, вроде, что нашёл для себя место такое, а вроде, как и смущается, от чего-то, в глубине души. Но в группу он вписался очень хорошо, и проявился там по максимуму. С Хоем они плотно скорефанились. Жаль, что всё так оборвалось трагически. Я, когда узнал, что с ним произошло, чуть не заплакал. Говорят, что нашли его у аэродрома нашего, военного. Говорят, что тяжко ему было одному после случившегося с Хоем, с «Сектором».
Через взлётное поле этого аэродрома, я вместе с ребятами, в детстве, ездил в Долгий лес. На велосипедах, типа «Орлёнок». Пытались там свои раскопки вести на месте боёв. Любая найденная вещь времён войны несла некий мистический смысловой заряд необъяснимо притягательной силы. Землю прощупывали проволочным прутиком. Но находок у нас было немного и поиски после нескольких поездок были прекращены. Один только из нас в дальнейшем, всерьёз увлёкся поисковым делом. Видел я его, как-то, по телевизору в «Воронежских новостях», несколько лет тому назад, на раскопках. Другой мой знакомый, уже в двухтысячных, организовал свой отряд, при доме пионеров, кажется, в Комминтерновском районе. Приглашал, как-то, и меня съездить в экспедицию, но я отказался. Во-первых, формальные структуры никогда меня ничем не привлекали, во-вторых, работы своей всё ещё выше крыши, а в третьих, и возраст уже не тот…
На обратном пути, мы обязательно старались промчаться и по самой взлётной полосе. У меня был прибалтийский велосипед, серого цвета, и по конструкции немного не такой, как обычный «Орлёнок». Я его называл «Дракон Эс – 35», т.е. так же, как назывался зарубежный истребитель, пластмассовую модель которого, изначально состоящую из отдельных серых деталей для склеивания, мне тоже купили родители. И ещё у меня была модель пассажирского ТУ-104. Но мне, конечно же, больше нравился истребитель.
Очень классно было промчаться на своём прибалтийском двухколёсном «Драконе Эс – 35» по настоящей взлётно-посадочной бетонке нашей советской самой настоящей военно-воздушной базы. Никто этому не мешал. Вокруг было пусто. Полоса была в полном нашем распоряжении. Нужно было только смотреть, не идёт ли на взлёт или на посадку самолёт.
Немного позднее, на аэродроме появились необычные двухкилевые, двухкабинные МИГи. Однажды, один из них разбился, упав в поле рядом с аэродромом. Оба лётчика погибли. Для всех это стало печальным, горестным событием. Всем хотелось, чтобы самолёты наши никогда не разбивались и лётчики не погибали. На нашем аэродроме больше таких случаев я не помню.
Но потом уже пошли и боевые потери: Афганистан, развал СССР, Чечня, Грузия… Сейчас – Сирия. На днях вертолётчики погибли на «Крокодиле». Тоже двое. Сразу в интернете видео опубликовали, для всех, кому интересно. А интересно всем. Что-то непонятное происходит в мире. Толком не поймёшь, куда всё идёт, развивается человечество, или деградирует?
В Великую Отечественную, при освобождении наших советских территорий от фашистских оккупантов, у меня погиб дед, мамин отец. Под Луцком. Точное место захоронения, по сути, до сих пор нам неизвестно. С большой долей вероятности – в самом Луцке, в братской могиле на Мемориале Славы, на теперь уже бывшей части некогда «единого и нерушимого» СССР.
А в Риге жил двоюродный брат моей мамы. Они из Боброва. Вместе росли, и так на всю жизнь и сохранили самые добрые родственные отношения. Он поступил в военное училище. Стал офицером. Со временем попал в порученцы к генералу армии Хетагурову, командующему Прибалтийского военного округа. И по окончанию службы, в звании полковника, остался в Риге. Всегда, при случае, заезжал к нам и останавливался на несколько деньков. И родители мои не раз ездили в Ригу. Умер он в 1983 году. Я служил на Дальнем Востоке и мне сообщать не стали. В последний раз съездили туда, на похороны. А после развала СССР, квартиру у его семьи отобрали. Вдову, после поездки к дочери в Москву, назад в Латвию не впустили. У неё к тому времени была ампутирована нога, но на это, получившие независимость «цивилизованные» латыши не обращали совершенно никакого внимания. Вскоре, тяжёлая болезнь и навалившиеся на старости лет жестокие испытания взяли своё. И теперь – его могила на рижском кладбище, а её на московском. А в Прибалтийском военном округе теперь натовские оккупанты к войне против России готовятся. Кто всё это допустил в наших верхах? С какой предательской, разрушительной целью? Почему продолжают позволять твориться такому на территориях бывшего СССР? Могли же и независимые прибалты мирно жить с нами, в дружбе и в нормальном общении. И, разве, они, прибалты, сами не понимают, что вместе с финнами показали нам и всему миру, что не достойны они были предоставленной нами им полной, бесконтрольной свободы? И неужели они не понимают, к чему их приведёт их бесчеловеческая ненависть? Самолюбивые, ничтожные слепцы.



