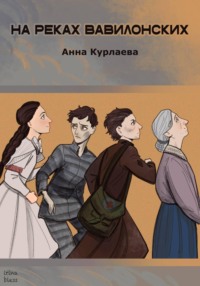Полная версия
Музыка души
Понимая, как необходимо музыканту уединение, Алексей Васильевич не стеснял Петра обществом, и только в часы обеда и по вечерам он составлял компанию князю, остальное время проводя за работой и в одиноких прогулках по окрестностям. А какие там были окрестности! Кроме хозяйского парка, который и сам по себе вызывал восторг, неподалеку расстилались поля и луга, обрамлявшиеся вдалеке лесом. С детства страстно и восторженно любивший природу Петр с наслаждением отдавался прогулкам, забывая обо всем на свете.
Только однажды его уединение было нарушено: на его именины князь Голицин устроил настоящий праздник. Днем, после обедни состоялся торжественный завтрак. Петра поздравляли, пели «Многая лета», а вечером перед ужином, когда стемнело, имениннику предложили совершить прогулку в экипаже. Он пытался отказаться: он не любил такие прогулки, предпочитая ходить пешком в одиночестве. Но приглашения были столь настойчивы, что пришлось подчиниться. Шумное общество немного утомляло, но заботливое внимание окружающих было приятно. Кому же не понравится чувствовать себя любимым?
На лето всем ученикам композиторского класса задавалась крупная работа. В тот раз Петр должен был написать большую увертюру и сам выбрал для нее программой «Грозу» Островского. В Тростинце он ее и сочинил.
Оркестр он взял самый что ни на есть еретический: с большой тубой, английским рожком, арфой, тремоло в разделенных скрипках, большим барабаном и тарелками – всё то, что решительно не признавал Антон Григорьевич. Со свойственным ему оптимизмом Петр надеялся, что под флагом программы эти отступления от предписанного ему режима пройдут безнаказанно.
Закончив партитуру, он отправил ее по почте Герману с поручением отнести Рубинштейну. Несколько дней спустя, когда Петр вернулся в Петербург и поинтересовался у друга, как директор принял его работу, тот ответил чуть ли не с обидой:
– Знаешь, никогда в жизни я за собственные проступки не получал такой головомойки, какую мне пришлось выслушать за чужой. Представь: прекрасное воскресное утро, Антон Григорьевич в самом добродушном настроении. Я отдаю ему твою партитуру и вижу, как по мере чтения он всё больше мрачнеет. Наконец, он откладывает листы и заявляет: «Если бы вы мне осмелились принести такую вещь своей работы…» – и пошел пробирать на все корки. Я думал, живым от него не выйду!
Петр виновато улыбнулся – он потому и послал работу с приятелем: рассчитывал, что Антон Григорьевич не станет ругать того за чужое сочинение, а к моменту появления автора уже остынет. Кто ж знал, что гнев вспыльчивого директора обрушится на голову ни в чем не повинного Лароша!
И если уж вестника так отругали, что же будет с виновником? На следующий день Петр отправился к Рубинштейну, замирая от ужаса. Но вот парадокс: истощив запас своего гнева, для него директор ничего не приберег. Петр был встречен чрезвычайно ласково, и на его долю досталось лишь несколько коротких сетований.
Герман подвел итог этой истории возмущенным заявлением:
– Чтоб я еще когда-нибудь носил директору твои сочинения!
В Петербурге князь Голицин нанял для Петра меблированную комнату в доме на Мойке. Отец с Модей и Толей временно остановились у Давыдовых, чтобы позже переехать к тете Лизе. Ее дело с пансионом не удалось, и затею пришлось бросить.
Той осенью Герман уговорил Петра пойти на «вторник» к Александру Николаевичу Серову – вечер, на который хозяин собирал самых разных интересных личностей. Квартира представляла собой скромное холостяцкое жилище, а всё угощение состояло из чая с лимоном и булками.
К тому времени, как они с Германом пришли, уже почти все собрались. В большинстве своем гости были литераторами, среди которых – становившийся известным Федор Михайлович Достоевский. Впрочем, Петру он не особенно понравился, поскольку много, но бестолково говорил о музыке, не имея ни музыкального образования, ни природного слуха.
Эти «вторники» Петр посетил всего пару раз: хозяин дома не внушал ему симпатии, да и свободными вечерами он не располагал. Как правило, они были заняты уроками. Неизменный Герман часто провожал Петра на эти уроки, а по дороге они вели беседы и споры. Когда речь заходила о музыкальных формах, Петр неизменно принимался страстно убеждать друга:
– Никогда в жизни я не напишу ни одного фортепианного концерта, ни одной сонаты для фортепиано со скрипкой, ни одного трио, квартета, фортепианной пьесы, романса.
– Но почему? – искренне удивлялся Герман.
– Потому что я абсолютно неспособен к этим формам. А романсы – это вообще не искусство.
Петр был преисполнен глубочайшего презрения к романсам. И как Герман не пытался его переубедить, он упрямо стоял на своем. Но при этом непоследовательно восхищался Глинкой, Шуманом и Шубертом.
Однажды они так увлеклись, что, уже дойдя до нужного дома, уселись на тумбах и продолжали говорить. То есть говорил большей частью Герман. Петр же слушал, молчал и вдруг заявил:
– Вместо того чтобы говорить всё это, ты должен это написать. У тебя же призвание стать музыкальным критиком!
Слова друга пробудили в Германе энтузиазм, и он начал искать сотрудничества в петербургских журналах. А несколько лет спустя его поиски привели к результату.
***
Весной Илья Петрович узаконил свои отношения с Елизаветой Михайловной. К тому времени члены семьи привыкли к ней и начали считать своей. Так что их брак не вызвал никаких возражений, чего в тайне опасался Илья Петрович, больше всего на свете дороживший добрым мнением своих детей. Вскоре после венчания, по-прежнему борясь с долгами, он уехал к старшей дочери на Урал, Елизавета Михайловна поселилась у своих родных, а Петр с близнецами отправился на всё лето к сестре в Каменку.
Окружающая обстановка разочаровала его с первого взгляда. О бывшем дворянском гнезде почти ничто не напоминало. Каменка скорее представляла собой купеческую усадьбу. От великолепного дома остались лишь кучи мусора да хороший тенистый сад, расположенный на горе и спускающийся к реке Тясмину. Семья жила во флигеле, стоявшем через дорогу от бывшего главного дома. По ту сторону реки виднелись трубы и белые стены свеклосахарного завода. А сзади, сразу же за оградой усадьбы, начиналось так называемое «местечко»: сплошная масса домов, обитаемых исключительно евреями.
Среди встречающих, ожидавших Петра у самых ворот, он сразу же углядел сестру и живо спрыгнул на землю, радостно приветствуя ее.
– Петичка! – Саша тут же кинулась ему шею. – Я так скучала!
– Я тоже соскучился, Сашенька! – искренне ответил он, целуя ее в обе щеки.
Тут же к сестре с радостными криками подлетели Модя и Толя, и она принялась целовать и тормошить их. А Петру поднесли знакомиться племянниц: трехлетнюю Таню и годовалую Веру. Хорошенькие девочки совершенно очаровали его. После чего Петра представили старшему брату Льва Васильевича – Николаю, который и являлся владельцем усадьбы. Это был пожилой, но сильный, красивый, приветливый и веселый человек. Кроме того, как выяснилось позже, утонченно образованный и начитанный, правда, увы, нетерпимый к чужому мнению: спорить с ним было совершенно невозможно.
Вся обстановка, быт, уклад, каждая мелочь в Каменке представляли собой образец семейной жизни. Счастливее людей трудно было себе представить, и Петра охватило такое умиление и радость при виде этой картины, что он надолго связал жизнь каменских обитателей с воплощением земного благоденствия. Он с удовольствием общался с племянницами, вел научные споры с Николаем Васильевичем, беседовал о музыке с Верой Васильевной, слушал рассказы о старине Александры Ивановны, наслаждался обществом сестры, ну и, конечно, много времени проводил с близнецами.
В двух верстах от Каменки располагались прелестные дубовые рощи, а дальше – вековые леса до скалистых берегов Тясмина, вдоль которых Петр с удовольствием гулял. В то лето в гостях у сестры он был бесконечно счастлив.
Во второй половине августа Петр попрощался с Александрой. До самого Киева путешествие сопровождалось ужаснейшей погодой, наводившей страшную тоску. И только общество любимых братьев немного рассеивало грусть.
К их несчастью, из-за проезда великого князя Николая Николаевича на юг России все почтовые лошади были заняты, и приходилось довольствоваться обывательскими, которыми управляли неопытные в этом деле местные крестьяне. Ехали медленно, а однажды лошади понесли с горы. С грохотом мчался дилижанс, с бешеной скоростью мелькали за окном деревья. Кучер что-то кричал, но всё бесполезно. Казалось, ничто не сможет их спасти. В ужасе братья, вцепившись друг в друга, совершенно приготовились к гибели, и только непостижимым чудом в тот момент, когда перед ними уже показался обрыв к реке и они вот-вот должны были сорваться туда, лошади резко повернули в сторону и выехали на мост. Переведя дыхание, братья переглянулись и принялись радостно обниматься.
– Я уж думал: всё… – сдавленно произнес Толя.
Модя покивал, не в силах говорить, и Петр только крепче обнял их, пытаясь успокоить.
В довершение дорожных бед приходилось страдать от голода. Какие были припасы, все оказались уничтоженными большой свитой великого князя, и двое суток они, кроме черного хлеба и воды, ничего не ели.
***
В Петербурге на Петра обрушились квартирные неприятности. Комната, которую ему наняли за восемь рублей в месяц на Мойке, была мала и неуютна. Он пытался смириться и утешал себя мыслью, что ему неудобно с непривычки, что со временем станет легче. Но чем дальше, тем квартира становилась невыносимее и к середине сентября сделалась до того противной, что он решился бросить ее и переехать к тете Лизе. Однако не прижился и там. У тети Лизы царила невероятная сырость, от которой болели то зубы, то руки и ноги, появился постоянный кашель. Да и слишком далеко от консерватории. Плюс ко всему постоянный шум и невозможность нормально заниматься. Не прошло и месяца, как Петр оставил и эту квартиру.
Начал беспокоить и вопрос материального существования в будущем: после предстоявшего в декабре окончания курса в консерватории. Те средства, которые Петр прежде мог тратить исключительно на свои потребности, теперь уходили и на стол, и на прислугу, и на квартиру, а доходы оставались так же скромны. Кредитор грозил Долговым отделением. Петр упрашивал его подождать до весны, когда рассчитывал получить деньги от Рубинштейна за перевод учебника Геварта, но кредитор отказался наотрез.
Чтобы сократить расходы, Петр обедал то у приятеля Пиччиоли, то у тети Кати или тети Лизы, иногда наведываясь к мачехе, которая стала для него главной опорой. И он проникся к ней горячей благодарностью и нежной привязанностью. По возможности Лизавета Михайловна помогала деньгами, но и помимо того следила за его одеждой, искала квартиры, навещала в училище близнецов. Деньги высылала иногда и Александра, в том числе необходимые на обучение Моди и Толи. Младшие братья, ночевавшие у кузины Амалии, день проводили с Петром. Он вникал во все их училищные дела и проблемы, беседовал с инспекторами и директором, помогал им в учебе.
Забытые колебания насчет окончательного выбора музыкальной карьеры вновь охватили душу, и мысль о возвращении на государственную службу уже не внушала прежнего отвращения. Уверенность, что в известный день месяца будут необходимые деньги, в тяжкие минуты начала казаться заманчивой. Один из друзей даже предлагал доставить Петру сносно оплачиваемое место надзирателя за свежей провизией на Сенной площади. Но голос призвания слишком громко звучал в сердце, чтобы забыть о нем, и дальше разговора это дело не продвинулось.
Квартирные бедствия закончились только в ноябре, когда Апухтин, уехавший из Петербурга на два месяца, предоставил в распоряжение друга свою комнату.
Вопреки неприятностям, непростым жизненным условиям и вспыхнувшим сомнениям, Петр усиленно трудился и написал смычковый квартет B-dur и увертюру F-dur, которые были исполнены на музыкальном вечере учеников консерватории и в зале Михайловского дворца. Одобрительный отзыв профессоров, восторги товарищей заставили мгновенно забыть обо всех невзгодах и снова преисполнили душу уверенностью в правильности выбранного пути. Наиболее же волнительным событием стало исполнение его «Характерных танцев» в Павловске под управлением самого Иоганна Штрауса.
Незадолго до выпускных экзаменов Антон Григорьевич вызвал Петра к себе. В кабинете директора в кресле рядом с массивным столом, за которым сидел Рубинштейн, вальяжно расположился молодой жилистый мужчина среднего роста. У него были волнистые светло-русые волосы и светлые глаза с цепким взглядом. Щегольски одетый, он производил впечатление денди.
– Вот тот самый Чайковский, – обратился к нему Антон Григорьевич и представил своего гостя ученику: – Мой брат – Николай Григорьевич Рубинштейн. У него есть к вам предложение.
Петр поклонился, с любопытством посмотрев на Николая Григорьевича. Тот не стал утруждаться длинными предисловиями и сразу перешел к делу:
– Я в Москве руковожу Музыкальными классами Русского музыкального общества, – говорил Николай Григорьевич, лениво растягивая слова, что делало его похожим на избалованного барчука. – К сентябрю собираюсь преобразовать их в консерваторию, для которой нужны профессора. И мне хотелось бы видеть вас среди них: господин Ларош и господин Кашкин вас очень рекомендовали, да и брат мой весьма высокого о вас мнения.
Николая Дмитриевича Кашкина Петр знал по восторженным отзывам Германа. Не будучи знаком с ним лично, он успел проникнуться к нему искренней симпатией. Видимо, симпатия оказалась взаимной.
Предложение было лестным: далеко не каждому предлагают стать профессором, когда он еще не закончил обучение. Но… профессорское жалование ничтожно мало – пятьдесят рублей в месяц. Как тяжело жить на такие деньги, Петр знал даже слишком хорошо. Поэтому он не решился сразу дать ответ и обещал подумать.
***
Ученики старших теоретических курсов должны были управлять ученическим же оркестром. С ужасом думал Петр о том дне, когда наступит его очередь: с его болезненной застенчивостью стоять на публике представлялось ему настоящей пыткой. Но как бы ни хотелось отложить испытание, этот день неминуемо настал.
Еще когда Петр всходил на сцену, его начало трясти нервной дрожью. А едва поднял палочку, как неконтролируемый ужас пробудил ощущение, будто голова постоянно куда-то падает – того и гляди соскочит с плеч. Мертвой хваткой он левой рукой держал голову за подбородок, правой пытаясь махать палочкой. Весь концерт прошел как в тумане. Счастье еще, что музыканты произведение знали хорошо и могли особо не обращать внимания на бледного дирижера, расширившимися глазами уставившегося в партитуру, но ни одной нотки в ней не видевшего.
Сойдя со сцены, Петр в полной убежденности заявил:
– Больше никогда в жизни не возьму в руки дирижерскую палочку!
Приближался декабрь, а вместе с ним окончание консерватории. В ноябре Петр приступил к своей выпускной работе – кантате «К радости» на гимн Шиллера для хора и оркестра.
Кантата исполнялась учениками консерватории при торжественной обстановке, в присутствии директоров Русского музыкального общества и экзаменационной комиссии. Однако Петр на концерт не явился: он не хотел держать публичный ответ на предшествовавшем концерту экзамене по теории музыки. Ему хватило опыта дирижирования, чтобы еще и экзаменоваться при зрителях. Всё равно наверняка разволнуется настолько, что не сможет ничего сказать – так чего зря мучиться.
Вечером Герман зашел к нему рассказать, как все прошло:
– Антон Григорьевич был в ярости и грозился лишить тебя диплома. К твоему счастью, экзаменационная комиссия решила, что кантата достаточно демонстрирует твою зрелость и богатство знаний. В общем, тебя признали достойным получить диплом на звание свободного художника и даже наградили серебряной медалью.
Петр облегченно выдохнул – он справедливо боялся, что Рубинштейн не спустит ему нахальную выходку. Но обошлось.
Увы, критика не была к нему столь благосклонна. Несколько дней спустя, сидя в кафе и листая «Санкт-Петербургские ведомости», Петр наткнулся на статью некоего Цезаря Кюи, которая гласила:
«Консерваторский композитор г. Чайковский – совсем слаб. Правда, что его сочинение (кантата) написана в самых неблагоприятных обстоятельствах: по заказу, к данному сроку, на данную тему и при соблюдении известных форм. Но все-таки если бы у него было дарование, то оно хоть где-нибудь прорвало консерваторские оковы».
Прочитав этот ужасный приговор, Петр почувствовал, как у него потемнело в глазах и закружилась голова. В смятении он выскочил из кафе и бросился бежать, не отдавая себе отчета в том, что делает. Только спустя несколько часов бесцельных блужданий по петербургским улицам в голове немного прояснилось. Было не просто обидно – статья вызвала леденящий душу страх: а вдруг прав Кюи, вдруг он действительно всего лишь посредственность, и нет у него будущего?
Когда Петр поделился своими сомнениями с Германом, тот сначала посмотрел на него недоуменно, а, убедившись, что он совершенно серьезен, принялся страстно его разубеждать:
– Да что ты слушаешь этого Кюи! Можно подумать, сам он великий композитор. Если хочешь знать, он всего лишь профессор фортификации, а туда же – берется чужие творения оценивать! Твоя кантата – самое большое музыкальное событие в России после «Юдифи». Она неизмеримо выше «Рогнеды» – и по вдохновению, и по работе. Ты величайшее дарование современной России, единственная надежда нашей музыкальной будущности. И не смей сомневаться в своем таланте!
Эти слова пролились бальзамом на раненное сердце, и в душе родилось упрямое желание доказать суровым критикам, что они глубоко заблуждаются.
Петр окончательно решился принять приглашение Николая Григорьевича Рубинштейна. Перед ним открывался новый путь, неизвестный и немного пугающий, но такой желанный.
Глава 7. Москва – новый мир, новая жизнь
В начале января Петр Ильич выехал в Москву. Последние дни перед отъездом настроение у него было отвратительным: мучила хандра при мысли о расставании – и надолго – с родными, а особенно с Модей и Толей. Он старался казаться веселым, чтобы не огорчать братьев, но получалось плохо. А уж на вокзале, когда они чуть ли не со слезами обнимали его, пришлось приложить колоссальные усилия воли, чтобы все-таки сесть в поезд, оставив их на платформе. Такими одинокими.
Всю дорогу до Москвы он грустил и думал о братьях.
В Первопрестольную прибыли вечером, когда уже стемнело. Выйдя из вагона, Петр Ильич зябко поежился, кутаясь в подаренную недавно Лелей Апухтиным шубу: самому купить ее было не на что. На привокзальной площади галдели извозчики, пристававшие к богатым пассажирам, сновали носильщики, торопились новоприбывшие, пытались высмотреть в толчее знакомые лица встречающие, шумно фыркали и перебирали ногами извозчичьи лошади. Тысяча воробьев и голубей, храбро шныряя у них под ногами, клевали овес. Морозный воздух пах навозом, шерстью, свежей выпечкой и кофе из трактира неподалеку. Шум, гам, ругань сливались в общий гул.
Петр Ильич растерянно огляделся, пытаясь понять, в какую сторону ему идти. К нему тут же подскочил извозчик: старик в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи:
– Вам куды, барин?
– Кокоревская гостиница, – неуверенно ответил Петр Ильич.
Старик не внушал особого доверия. Как и его пузатая мохнатая лошаденка, запряженная в пошевни14. С другой стороны, извозчик поприличнее ему наверняка не по карману.
– Забирайтесь. Прокачу с ветерком! – старик лихо запрыгнул на свою дощечку, приглашая пассажира устраиваться. – Всего за двадцать копеек.
Вздохнув – для него и этого было немалым расходом, – Петр Ильич забрался в сани.
На следующий день он с утра отправился к Рубинштейну на Моховую. Николай Григорьевич принял его с распростертыми объятиями и тут же велел перебираться жить к нему. Как Петр Ильич не отнекивался и не говорил, что это неудобно и что он сам может о себе позаботиться, Рубинштейн не желал ничего слушать. В итоге он сам не заметил, как согласился и обещал завтра же переехать. С одной стороны, он чувствовал смущение от того, что стесняет человека, но с другой – был глубоко благодарен за заботу: ведь средств на гостиницу ему хватило бы ненадолго. Квартира Рубинштейна была удобна и тем, что Музыкальные классы располагались в том же здании.
В любом случае, противоречить Николаю Григорьевичу было совершенно невозможно: нечто сильное и жесткое в нем невольно подчиняло всех окружающих. Хотя Петр Ильич был младше всего на пять лет, из-за властности Рубинштейна разница казалась гораздо больше.
Петр Ильич занял небольшую комнатку рядом со спальней хозяина. Разделены они были тончайшей перегородкой, и это заставляло бояться, что скрипом пера он помешает соседу спать. А с другой стороны – какой у него был выбор?
Рубинштейн сразу же провел младшему коллеге небольшую экскурсию по зданию Музыкальных классов, после чего привел в свой кабинет. Там в удобных креслах расположились двое мужчин, сосредоточенно изучавших какие-то бумаги.
– Господа, наш новый профессор композиции Петр Ильич Чайковский. Прошу любить и жаловать, – представил его Николай Григорьевич.
– Карл Карлович Альбрехт, – мужчина с небольшой бородкой и в пенсне поднялся и протянул руку. – Профессор теории и хорового пения.
Пожимая его ладонь, Петр Ильич присмотрелся к коллеге: добродушное выражение лица, приветливый взгляд темных глаз – он сразу внушал симпатию.
– Петр Иванович Юргенсон, – продолжил представления Николай Григорьевич. – Владелец ното-издательской фирмы.
Второй мужчина – с серыми глазами и зачесанными назад темно-русыми волосами – в свою очередь встал, приветствуя Петра Ильича. Если Альбрехт казался простым и даже свойским, то Юргенсон производил впечатление человека значимого, делового. Хитро прищурившись, Рубинштейн добавил:
– Петр Иванович, возьмите на заметку этого молодого человека: уверен, в скором времени он принесет доход вашей фирме.
Юргенсон едва заметно улыбнулся, внимательнее приглядываясь к новому знакомому. Петр Ильич даже немного смутился. Однако, несмотря на важный вид, Юргенсон сразу ему понравился. К тому же иметь в знакомых и – кто знает? – может, даже в друзьях владельца издательской фирмы – это весьма неплохое начало. Николай Григорьевич явно старался завязать для своего протеже нужные знакомства, за что Петр Ильич был ему безмерно благодарен.
Более того, зная, насколько он ограничен в средствах, Николай Григорьевич устроил его к Альбрехту пансионером на завтраки и обеды. Таким образом, Петр Ильич быстро стал у него домашним человеком, подружился с его женой – милой гостеприимной женщиной – и детьми. Детей он вообще любил и относился к ним с умилением.
На следующий день знакомства продолжились. На этот раз Рубинштейн привел прямо в квартиру высокого молодого человека с неправильными, но симпатичными чертами чисто русского лица.
– Николай Дмитриевич Кашкин, – представился он, приветливо улыбаясь. – Я так много о вас слышал, Петр Ильич, и счастлив познакомиться, наконец, лично.
– Взаимно, – искренне ответил тот, пожимая ему руку.
Зная друг друга заочно через посредство Лароша, они встретились совершенно как старые товарищи. Николай Дмитриевич тут же предложил вместе пообедать, и за обедом они разговорились, точно были знакомы много лет. Петр Ильич редко ощущал себя настолько свободно с новыми людьми – обычно они вызывали у него робость, и он рта не мог раскрыть в их присутствии. Чувствовавший себя в чуждой Москве, как в огромной голой степи – безлюдной, угрюмой и холодной – он обрел в Кашкине поистине своего человека.
Очень быстро Петр Ильич понял, что зря боялся побеспокоить Николая Григорьевича ночными бдениями: зачастую Рубинштейн появлялся дома только под утро. Чуть ли не каждую ночь он играл в Английском клубе; отдохнув пару часов, уходил в классы на уроки, а потом весь день занимался административными делами и бесконечными визитами: Николай Григорьевич поддерживал знакомство со всей Москвой – великосветской, административной, коммерческой, литературной, ученой и художественной. Он был одним из местных тузов и регулярно приглашался на всякого рода общественные торжества. А ведь оставалась еще проверка работ учеников, концерты и подготовка к ним. Как можно существовать в таком бешеном ритме и быть таким бодрым и полным сил, Петр Ильич просто непостигал.
***
Начала занятий Петр Ильич ждал с ужасом: как он будет стоять перед толпой учеников или – еще хуже – учениц и пытаться им что-то объяснить?
И вот состоялась пробная лекция. Петр Ильич страшно волновался, входя в класс. А при виде количества студентов, среди которых было множество хорошеньких девиц, смутился окончательно. Ему понадобились колоссальные усилия воли, чтобы провести урок. Торопливой походкой, сложив руки за спиной в попытке унять дрожь, вошел он в аудиторию, сконфуженный и оттого слегка раздраженный. Дабы совсем не впасть в панику, Петр Ильич наклонил голову, глядя сосредоточенно прямо перед собой и стараясь не смотреть на учеников.