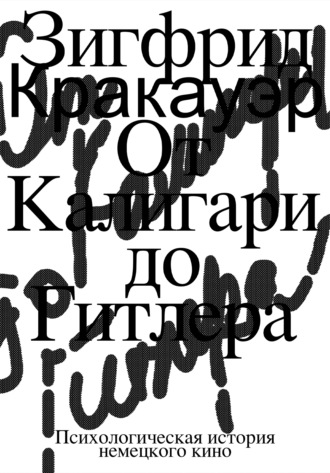
Полная версия
От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино
Оба искусственных кинематографических персонажа точно так же реагируют на свою психологическую неполноценность. Душевные толчки Гомункулуса, обусловливающие его действия, совершенно очевидны. В нем сочетаются страсть к разрушению и садомазохистские склонности, сказывающиеся в метаниях между кротким повиновением и мстительной яростью. Чересчур нежная дружба с Роденом прибавляет фильму гомосексуальную окраску, которая завершает образ. Современные психоаналитики правильно видят в подобных извращениях способ убежать от тех специфических страданий, которые мучают Гомункулуса. Оба фильма останавливают внимание на этих психологических отдушинах, свидетельствуя, что известная часть немцев бессознательно тянулась к ним.
Став жестокими тиранами, Голем и Гомункулус умирают смертью столь же противоестественной, как и их происхождение. Гибель Гомункулуса представляется особенно странной: ведь его могли без труда убить в результате акта возмездия или правосудия. Отличая Гомункулуса от всего человеческого рода, его смерть, как и гибель «Пражского студента», изобличает желание мелкой немецкой буржуазии прославить независимость своих социальных требований, а также возвеличить свою гордость добровольно избранным одиночеством. Подобно самоубийству Болдуина, смерть обоих монстров выдает мрачные предчувствия, жившие в мелкобуржуазной душе.
Четвертым фильмом архаического периода, отмечавшим то же психологическое беспокойство, был «Другой» режиссера Макса Мака – реалистический двойник трех вышеописанных фантасмагорий. На экраны он вышел в 1913 году, и в основе его лежала одноименная драма Пауля Линдау, где история доктора Джекила и мистера Хайда разворачивалась в чопорной буржуазной среде. Доктор Джекил на сей раз выступает под видом образованного берлинского адвоката Галлерса, который на домашней вечеринке встречает скептическим смешком рассказ о раздвоении личности. Такое бы с ним никогда не произошло, самодовольно заявляет он. Но однажды, переутомившись на службе, Галлерс падает с лошади. Из-за ушиба он становится лунатиком и выходит из дому в обличье «другого». Но этот «другой» – бродяга, который вместе с вором-уголовником пытается ограбить собственный дом. Появившаяся полиция арестовывает вора. На допросе его сообщник внезапно засыпает и пробуждается доктором Галлерсом, который уверяет представителя закона, что никакого преступления он не совершал. Когда же ему приводят неопровержимые доказательства вины, он падает в обморок. У этой истории счастливый конец. Галлерс избавляется от сомнамбулической болезни и женится; он выступает прототипом гражданина, который может справиться с любой психологической травмой[95].
Приключение Галлерса заключает в себе особый смысл: каждый, подобно Болдуину, может стать жертвой расколотого сознания и вследствие этого превратиться в такого же отщепенца, как Гомункулус. В фильме «Другой» доктор Галлерс – типичный мелкобуржуазный немец. Поскольку он духовный близнец вымышленных персонажей «Голема» и «Гомункулуса», последних тоже правомерно отнести к представителям мелкой буржуазии. Фильм «Другой» не подчеркивает этого фамильного родства, а, напротив, преподносит его как временное явление. Ведь от раздвоения личности доктора Галлерса можно избавить лечением, и к трагическим последствиям оно не приводит. Галлерс возвращается в гавань обыкновенной жизни. Такое преображение, должно быть, происходит из-за перемены перспективы. Если в фантастических фильмах непосредственно отражались психологические установки, свидетельствующие о беспокойстве коллективной души, лента «Другой» рассматривает те же самые установки с позиций банального мелкобуржуазного оптимизма. Под влиянием этого оптимизма «Другой» преуменьшает существующее беспокойство: оно символически выражается в форме заурядного несчастного случая, который, естественно, не мог ослабить веру мелкой буржуазии в незыблемость собственного положения.
Глава 3
Рождение UFA
Национальный немецкий фильм отчасти родился еще и потому, что власти по-новому организовали кинопроизводство. Эта реорганизация произошла по двум причинам, с которыми немцам пришлось поневоле посчитаться в годы Первой мировой войны. Во-первых, они значительно больше узнали о влиянии антигермански настроенных фильмов на зарубежную публику. Это обстоятельство тем более их поразило, что сами они еще не понимали, какой заразительной силой обладает киноискусство. Во-вторых, они признали недостаточность и скудость собственной кинопродукции. Чтобы удовлетворить огромные нужды кинорынка, неопытные продюсеры наводнили его фильмами, достоинства которых были значительно ниже картин, поступающих из-за рубежа[96]. Немецкий кинематограф не отличался пропагандистским запалом, который пронизывал картины союзников.
Осознав эту ситуацию, немецкие власти решили изменить ее и вмешаться в дела кинопроизводства. В 1916 году при поддержке экономических, политических и культурных обществ правительство основало Deulig (Deutsche Lichtspiel-Gesellschaft). Этот кинематографический концерн должен был выпускать документальные фильмы в Германии и за ее пределами[97]. В начале 1917 года на свет появилась BUFA (Bild- und Filmamt). Выступая рупором правительства, BUFA организовала систему передвижек на фронте, а также выпуск документальных фильмов, отображающих военные события[98].
Это были, однако, лишь первые шаги. Когда Соединенные Штаты вступили в войну и американские фильмы заполонили мир, немцы возненавидели их особенно, так как они одинаково впечатляли врагов и нейтрально настроенных иностранцев. Тогда немецкие руководящие круги сошлись на том, что лишь новый гигантский киноконцерн в силах воспрепятствовать идеологическому наступлению американцев. Всемогущий генерал Людендорф, взяв инициативу в свои руки, предложил слить отдельные кинокомпании в одну, чтобы они сообща трудились во имя национальных интересов. Его проект был равносилен приказу. В ноябре 1917 года германское военное командование в союзе с крупнейшими финансистами, промышленниками и владельцами корабельных верфей издало постановление, согласно которому при финансовой поддержке нескольких банков MeesterFilm, Union Давидсона и компании, контролируемые фирмой Nordisk, объединялись в новый киноконцерн UFA (Universum Film A. G.). Его акционерный капитал составлял примерно двадцать пять миллионов марок, из которых восемь миллионов принадлежали государству. Официальная миссия концерна UFA заключалась в том, чтобы прославлять Германию согласно правительственным директивам. В обязанности UFA входило заниматься не только откровенной пропагандой с экрана, но и создавать фильмы, которые характеризовали бы в целом германскую культуру и служили целям национального воспитания[99].
Чтобы выполнить поставленные задачи, концерну UFA прежде всего вменялось в обязанность повысить художественный уровень отечественной кинопродукции, чтобы она могла выдержать конкуренцию с зарубежными лентами, проникнутыми пропагандистским духом. О превосходстве над ними пока речь не шла. Вдохновившись высокой целью, UFA воспитала когорту талантливых продюсеров, художников и технических специалистов, а также организовала студию с той тщательностью, от которой зависит успех любой пропагандистской компании. Кроме того, концерну UFA следовало наладить продажу своих изделий, и поэтому он уже в марте 1918 года стал энергично просачиваться на Украину, оккупированную немцами[100].
Стараясь превратить немецкий фильм в мощное орудие пропаганды, правительство не приняло в расчет военного поражения Германии. Несмотря на это, события Ноябрьской революции 1918 года оставили это орудие нетронутым. Исключение составил лишь концерн BUFA, последнее детище кайзеровских чиновников, ликвидированный в конце 1918 года. Новорожденная UFA перешла в другие руки: государство перестало быть пайщиком, а Немецкий банк исподволь скупил все акции, в том числе и принадлежавшие фирме Nordisk[101]. Эти экономические сдвиги, однако, не изменили деятельности UFA. Поскольку ее новые хозяева мало отличались от прежних, они стремились сохранить на экране тип старомодных и националистических фильмов, созданных до революции. Требовалась только минимальная ретушь: c учетом актуальной ситуации страна нуждалась в фильмах, которые бы совершенно ясно показывали, что Германия, о которой грезила UFA, ни имела ничего общего с Германией социалистов.
Превратившись в частную фирму, UFA была вынуждена частично поступиться пропагандистскими установками в угоду коммерческим соображениям, а также экспортным нуждам. Но экспорт тоже служил пропагандистским целям. Поэтому в интересах экономического процветания прежняя необходимость совершенствовать немецкий фильм оставалась в силе. Ведь его хотели навязать мировому рынку, а тот с неудовольствием взирал на эту перспективу. Немецкие послевоенные картины встретились с мощным международным бойкотом, рассчитанным на несколько лет. Чтобы выйти из блокады, сразу после войны UFA стала проникать на прокатные рынки Швейцарии, Скандинавии, Голландии, Испании и многих других стран. Deulig, действовавший и при республиканском режиме, разделял политику UFA и налаживал экономические контакты на Балканах[102].
История образования UFA свидетельствует о том, что авторитарный дух кайзеровской Германии был очень силен. Во время войны правительства всех вовлеченных стран обладают фактически неограниченной властью, но применяют ее по-разному. Когда немецкие военные магнаты приказали основать концерн UFA, они развернули такую деятельность, которая в обычных условиях возникает лишь под давлением общественного мнения. И как ни воздействуй на это общественное мнение, оно всё-таки предотвращает известный произвол в действиях, и это обстоятельство любое демократическое правительство должно иметь в виду. Когда в войну вступила Америка, ее антигерманские фильмы обрели официальную поддержку, но, выпуская их, власти ориентировались на психологические установки зрителей[103]. Эти фильмы действительно отражали их настроения и чувства. Кинематографическая политика в Германии сложилась иначе – она не учитывала массовых психологических установок и существовала независимо от них. Из-за военных затруднений эта политика опиралась исключительно на суждения политических и военных руководителей. Германские власти были совершенно убеждены в том, что общественное мнение можно отлить в любую угодную для них форму. И примечательно вот что: немцы настолько привыкли к авторитарному правлению, что даже в пропагандистских фильмах вражеских стран видели лишь происки их правительств.
Но всякое организационное начинание должно иметь опору в жизни. Немецкое кино родилось не только потому, что основали концерн UFA – оно возникло на волне интеллектуального возбуждения, прокатившегося по Германии в послевоенные годы. Тогдашние психологические настроения немцев лучше всего определяются словом Aufbruch[104]. В ту пору это понятие заключало в себе емкое содержание – оно предполагало отречение от вчерашнего разметанного мира и устремление к завтрашнему дню, возведенному на твердом фундаменте революционных идей. В этих настроениях причина того, что экспрессионистское искусство приобрело большую популярность в Германии, как, впрочем, и в Советской России[105]. Люди внезапно прониклись смыслом авангардистской живописи и видели отражение своих душ в пророческих драмах, которые предлагали гибнущему человечеству новое евангелие всеобщего братства.
Вдохновленные этими радужными, но эфемерными перспективами, интеллигенты, студенты, художники полагали, что время призвало разом решить все политические, социальные и экономические проблемы. Они читали «Капитал» или цитировали Маркса, не заглядывая в него; они верили в международный социализм, пацифизм, коллективизм, в вождей из аристократов, в религиозное братство жизни и национальное возрождение, а чаще всего преподносили эту путаную смесь разноречивых идеалов в качестве нового символа веры. Впрочем, что немцы ни проповедовали, всё казалось им универсальной панацеей от любых зол, особенно в тех случаях, когда до своих откровений они доходили не разумом, а по наитию. Когда на одном собрании после перемирия крупный немецкий ученый и демократ Макс Вебер поносил унизительные условия мира, предлагаемые союзниками, некий местного значения скульптор патетически воскликнул: «Пускай ради спасения мира Германия даст себя распять другим странам». Запал, с которым скульптор изрек эту тираду в духе Достоевского, был весьма характерен. По всей Германии распространялись манифесты и воззвания, и самая маленькая зала для заседаний содрогалась от шумных и горячих дискуссий. То был один из редких моментов, когда душа целого народа как бы рвала свои узы с традицией.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Später J. Siegfried Kracauer. Eine Biographie. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2017. S. 450.
2
Robinson D. Das Cabinet des Dr. Caligari. London: Palgrave Macmillan, 2013. S. 9–29.
3
Später J. Op. cit. S. 457.
4
Ibid. S. 455.
5
Quaresima L. Introduction to the 2004 edition: Rereading Kracauer // S. Kracauer. From Caligari to Hitler. A psychological history of the German film. New York: Princeton University Press, 2004. P. xlvii–xlix.
6
Koch G. Siegfried Kracauer zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag, 2012. S. 123.
7
Ibid. S. 117.
8
Adorno T. W. Siegfried Kracauer ist tot // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1.12.1966. Цит. по: Heller H. B. Massenkultur und ästhetische Urteilskraft. Zur Geschichte und Funktion der deutschen Filmkritik vor 1933 [1990] // Die Macht der Filmkritik: Positionen und Kontroversen / hrsg. von N. Grob, Norbert, K. Prümm. München: edition text + kritik, 1990. S. 25.
9
Kracauer S. Über die Aufgabe des Filmkritikers [1932] // S. Kracauer. Kino. Essays, Studien, Glossen zum Film / hrsg. von K. Witte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974. S. 11.
10
Moltke J. von., Rawson K. Affinities: Introduction to «Siegfried Kracauer’s American Writings» // Siegfried Kracauer’s American Writings. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 2012. P. 2.
11
Письма к Эрвину Панофскому (2.5.1947) и Герберту и Гертруде Левиным (15.10.1942). Цит. по: Später J. Op. cit. S. 457.
12
Koch G. Op. cit. S. 104.
13
Quaresima L. Op. cit. P. хix–xx.
14
Witte K. Nachwort des Herausgebers [1974] // S. Kracauer. Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2021. S. 605.
15
Später J. Op. cit. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2017. S. 457–458.
16
The Film To-Day. Sommer, 1947. Цит. по: Später. Op. cit. S. 459.
17
Weinberg H. G. The Film Humanity // Sight and Sound. Nr. 16, Sommer 1946. Цит. по: Koch G. Siegfried Kracauer zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag, 2012. S. 123.
18
Später J. Op. cit. S. 415.
19
См.: Stiegler B. Editorische Vorbemerkung // S. Kracauer. Totalitäre Propaganda. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2013. S. 7.
20
Später J. Op. cit. S. 429.
21
Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М.: Искусство, 1977.
22
Киноведческие записки. № 10. 1991. C. 100–125.
23
Kracauer S. Von Caligari bis Hitler: ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Films. Hamburg: Rowohlt, 1958.
24
Kracauer S. Cinema tedesco. Milano: A. Mondadori, 1954.
25
Kracauer S. Cinema tedesco. «Dal Gabinetto del dottor Caligari». Milano: A. Mondadori, 1977.
26
Kracauer S. Von Caligari zu Hitler Eine psychologische Geschichte des deutschen Films. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1979. Подробнее об истории переводов книги Кракауэра см.: Witte K. Op. cit. S. 611–614.
27
Росси Э. Сорок лет на сцене / пер. Г. Шувалова. Л.: Искусство, 1976.
28
Дело по изданию рукописи «Кракауэр З. „От Калигари до Гитлера“. Перевод с английского Г. Г. Шмакова» хранится в РГАЛИ в фонде 652 «Государственное издательство „Искусство“ (Москва, Ленинград, 1935–2005)». Оп. 14. Ед. хр. 1558.
29
Исторический фильм Любича «Мадам Дюбарри», первый немецкий фильм, предназначенный для экспорта в США, был показан в Нью-Йорке поздней осенью 1920 года. В апреле 1921 года состоялась нью-йоркская премьера «Кабинета доктора Калигари». – Здесь и далее под цифрами даются авторские примечания из оригинального издания. В квадратных скобах ссылки на русские переводы.
30
Rotha P. Film Till Now. P. 178.
31
Amiguet F.-P. Cinéma! Cinéma! P. 37.
32
Rotha P. Film Till Now. P. 177–178. Barry I. Program Notes. Series I, program 4; Series III, program 2. Potamkin H. A. Kino and Lichtspiel. P. 388 // Close Up. Nov. 1929. Vincent C. Histoire de l’art cinématographique. P. 139–140.
33
Barry I. Program Notes. Series I, program 4.
34
Jahier V. 42 Ans de Cinema // Le Rôle intellectuel du Cinéma. P. 86.
35
Rothа Р. The Film Till Now. London, 1930. P. 177. – Надо сказать, что Рота разделяет точку зрения на немецкое кино французских и английских критиков эстетической ориентации, хотя прозорливостью и глубиной оценок его книга значительно превосходит многие другие.
36
Bardèche M., Brasilliach R. The History of Motion Pictures. S. 258 ff.; Vincent. Histoire de l’art cinématographique. S. 161–162; Rotha P. Film Till Now. S. 176–177; Jeanne R. «Le cinéma allemande». L’art cinématographique. VIII. S. 42 ff.
37
Pudovkin V. Film Technique. P. 136. [Цит. по русскому оригиналу: Пудовкин В. Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М.: Искусство, 1974. С. 129.]
38
Balázs B. Der Geist des Films. S. 187–188.
39
Cм. анализ этих фильмов в Приложении.
40
См.: Farrell J. T. Will the Commercialization of Publishing Destroy Good Writing? // New Directions. 1946. No. 9. P. 26.
41
В догитлеровской Германии кинопромышленность была гораздо более рассредоточена, чем в США. Среди кинокомпаний выделялась UFA, но и она не отличалась всемогуществом. Маленькие фирмы существовали рядом с большими. Это обеспечивало разнообразие кинопродукции, что укрепляло способность немецкого кино отражать настроения общества.
42
Panofsky E. Style and Medium in the Moving Pictures // transition. 1937. P. 124–125. [Панофски Э. Стиль и средства выражения в кино / пер. А. Дорошевича // Вопросы эстетики и теории зарубежного кино. М.: НИИ истории и теории кино ГОСКИНО СССР. Информационный сборник. № 12. 1977. С. 16–17.]
43
Lewis L. Erich von Stroheim of the Movies // New York Times. 22 June 1941.
44
Kallen H. M. Art and Freedom. Vol. II. P. 809.
45
Deming B. The Library of Congress Film Project: Exposition of a Method // Library of Congress Quarterly. 1944. P. 20.
46
Такие уподобления остаются, конечно, на уровне поверхностного сходства. Строго говоря, внешние обстоятельства нигде не дублируют друг друга полностью, и, какую бы психологическую тенденцию они ни порождали, она существует лишь в контексте других тенденций, которые окрашивают ее смысл.
47
Cр.: Rosenberg A. Geschichte der Deutschen Republik; Schwarzschild L. World in Trance; и др.
48
Особенно примечательны в этом отношении аналитические работы Хоркхаймера (Horkheimer M., ed. Studien über Autorität und Familie; см. особенно: Theoretische Entwürfe über Autorität und Familie. S. 3–76.)
49
Neumann F. L. Behemoth. P. 18–19, 25. [Нойманн Ф. Л. Бегемот: cтруктура и практика национал-социализма 1933–1944 / пер. В. Ю. Быстрова. СПб.: Владимир Даль, 2015. C. 45, 52.]
50
Fromm E. Escape from Freedom. P. 281. [Фромм Э. Бегство от свободы / пер. Г. Ф. Швейника, общ. ред. П. С. Гуревича. М.: Прогресс, 1990. C. 233.]
51
Ср.: Kracauer S. Die Angestellten. [Кракауэр З. Служащие. Из жизни современной Германии / пер. О. Мичковского. Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2015.]
52
Olimsky F. Filmwirtschaft. P. 20; Kalbus O. Deutsche Filmkunst. Vol. I. P. 11.
53
Olimsky F. Filmwirtschaft. P. 20; Kalbus O. Deutsche Filmkunst. Vol. I. P. 12.
54
Ганс Рихтер показал этот фильм на своей лекции в Нью-Йорке 25 мая 1948 года.
55
Messter O. Mein Weg. P. 98; Boehmer H. von, Reitz H. Film in Wirtschaft und Recht. P. 4–5.
56
Cм.: Messter O. Mein Weg.
57
Эта сцена вошла в фильм С. Лико «Сорок лет кино», построенный по принципу «поперечного сечения». См. также: Messter O. Mein Weg. S. 98.
58
Ackerknecht E. Lichtspielfragen. P. 151; Zaddach G. Der literarische Film. S. 14–16; Messter O. Mein Weg, S. 64–66, 78–79.
59
Zimmereimer К. Filmzensur. S. 27–28; см. также: Altenloh E. Soziologie des Kinos.
60
Bardèche M., Brasillach R. History of Motion Pictures. P. 42.
61
Boehmer H. von, Reitz H. Film in Wirtschaft und Recht. S. 5; Davidsohn P. Wie das deutsche Lichtspieltheater entstand // Licht Bild Bühne. S. 7–8; Diaz P. Asta Nielsen. P. 34–35; Zaddach G. Der literarische Film. S. 23.
62
Kalbus O. Deutsche Filmkunst. Vol. I. S. 13.
63
Jahre Filmatelier // 25 Jahre Kinematograph. S. 66.
64
Здесь и далее Кракауэр указывает год премьеры либо производства. – Примеч. ред.
65
В 1912–1913 годы Макс Рейнхардт поставил следующие фильмы: «Венецианская ночь» (1913), «Остров блаженных» (1913), «Чудо» (1912–1913). В тексте неточности: «Посторонняя девушка» («Незнакомка») (1913) – шведский фильм, реж. Мориц Стиллер; «Игра в любовь» (1914) – датский фильм Августа Блома и Хольгер-Мадсена. «Ева» (1913) Курта А. Штарка – действительно немецкий фильм. – Примеч. ред.
66
О фильмах художественной и литературной направленности и кинореформаторах cм.: Zaddach G. Der literarische Film. S. 17, 22–29, 30–33.
67
Приключенческие романы, печатавшиеся в газетах из номера в номер. – Примеч. пер.
68
Jahier V. 42 Ans de Cinema // Le Rôle intellectuel du Cinéma. P. 26.
69
Kalbus O. Deutsche Filmkunst. Vol. I. S. 39.
70
Jason A. Zahlen sehen uns an // 25 Jahre Kinematograph. S. 67.
71
Olimsky F. Filmwirtschaft. S. 21.
72
Möllhausen B. Aufstieg des Films // Ufa-Blätter.
73
Häfker H. Der Kino und die Gebildeten. S. 4.
74
Boehmer H. von, Reitz H. Film in Wirtschaft und Recht. S. 5; Kalbus O. Deutsche Filmkunst. Vol. I. S. 23.


