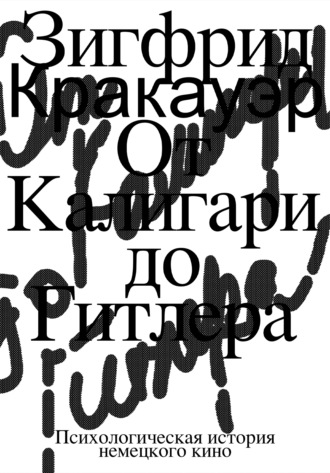
Полная версия
От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино

Зигфрид Кракауэр
От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино
Siegfried Kracauer
From Caligari to Hitler
A Psychological History of the German Film
Перевод: Геннадий Шмаков; Ольга Улыбышева («Пропаганда и нацистский военный фильм», «Структурный анализ»)
Редакторы: Ольга Улыбышева; София Корсакова («Пропаганда и нацистский военный фильм», «Структурный анализ»)
Дизайн: Анна Сухова
© Princeton University Press 1947 All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin
© О. Улыбышева, предисловие, 2025
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
⁂
Предисловие редактора
«От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» (1947) – самый известный труд Зигфрида Кракауэра, теоретика культуры и кинематографа, кинокритика, социолога. После прихода Гитлера к власти Кракауэр бежал из Германии и в 1941 году наконец обрел приют в Америке. Эта книга – итог размышлений эмигранта о причинах катастрофы, которая постигла Германию и Европу в ХХ веке. Благодаря историку искусства Эрвину Панофскому издательство Принстонского университета обратило внимание на рукопись, над которой Кракауэр, занимавший должность ассистента куратора кинобиблиотеки нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA), работал c 1943 года. Название «От Калигари до Гитлера» – идея автора. Кракауэр убедил издателей его оставить, несмотря на опасения, что упоминание Гитлера оттолкнет читателя[1]. Другая отсылка в названии – к «Кабинету доктора Калигари», визитной карточке немецкого киноэкспрессионизма. Книга Кракауэра внесла свой вклад в создание мифологического ореола вокруг этого фильма. Рассказывая о «Кабинете доктора Калигари», Кракауэр опирался на неопубликованные воспоминания сценариста Ганса Яновица, написанные им в годы эмиграции в Америке. Позже было установлено, что версия Яновица о рождении фильма – во многом плод его воображения[2]. Тем не менее оба произведения – фильм о Калигари и книга Кракауэра – «взаимодействуя друг с другом в мире теней, ‹…› непостижимого, ‹…› послужили борьбе с демонами» и изменили наш взгляд на мир[3].
Несмотря на подзаголовок «история», эта книга – едва ли энциклопедия национальной кинематографии, компендиум знаний о кино Веймарской Республики, социологический или искусствоведческий – в каноническом смысле – труд. «От Калигари до Гитлера» – скорее длинное эссе[4], очень важный жанр в творчестве Кракауэра, в прошлом многолетнего автора и редактора Frankfurter Zeitung. Самое главное в этой книге, которая, помимо воспоминаний Яновица, cсылается и на другие автобиографические мифы, например, созданный Лени Рифеншталь[5], – то, что «От Калигари до Гитлера» расшифровывает фильмы как социально-психологические иероглифы[6] и предлагает думать об истории (и современности) через призму медиа. Во многих местах книги Кракауэр исследует не только немецкие фильмы, но кино как феномен[7].
По словам Теодора Адорно, Кракауэр «поднял кинокритику на новый уровень благодаря тому, что увидел в кино шифры общественных тенденций, идеологического контроля и господства»[8]. За год до прихода к власти нацистов Кракауэр писал, что «настоящий кинокритик – всегда критик общества»[9]. И хотя в эмиграции кинокритика перестала быть его главным делом, критика общества – немецкого общества – в «От Калигари до Гитлера» выходит на первый план. Для Кракауэра, как и для многих немецких интеллектуалов, эмигрировавших в США, исследование нацизма было способом выживания – в том числе физического, ведь для того, чтобы получить визу, нужно было, помимо прочего, найти работу, заказы и гранты – и одновременно сведением счетов с жестокой родиной и попыткой установить причины катастрофы и стадии падения. Книга Кракауэра заложила модель критического похода, который рассматривал национальное кино в контексте глубинных cоциально-политических смыслов[10]. Он писал друзьям: «Во время работы над книгой мне казалось, что я похож на врача, который проводит вскрытие и препарирует кусок собственного, теперь уже окончательно умершего, прошлого…». «История немецкого кино – своего рода „биография нашего поколения“. ‹…› Ведь именно кино вытаскивает на поверхность то, что наполовину забыто, но остается неотъемлемой частью прожитой нами жизни»[11].
Свою первую американскую книгу Кракауэр писал сразу по-английски. Он буквально поселился в кинобиблиотеке МoMA, построив вокруг себя башню из книг[12] и пересматривая фильмы из коллекции музея[13]. В качестве методологической основы «От Калигари до Гитлера» Кракауэр упоминает аналитические работы одного из основателей Франкфуртской школы Макса Хоркхаймера, а также психоанализ в трактовке Эриха Фромма. Кроме того, он ссылается на книгу Ф. Л. Нойманна «Бегемот. Структура и практика национал-социализма» и собственную социологическую работу 1930 года «Служащие. Из жизни современной Германии», а также цитирует историка и теоретика искусства Эрвина Панофского, чей текст «Стиль и средства выражения в кино» очень важен и для «Теории кино» Кракауэра.
Книга «От Калигари до Гитлера» принесла Кракауэру мировую известность, при этом диапазон читательских реакций простирался от критики в адрес эмигранта, которого обвиняли в симпатии к левым идеям[14] и жажде мести[15], до восторженных отзывов. Особенно тепло «От Калигари до Гитлера» приняли в Великобритании. Документалист Пол Рота писал, что предложенный автором подход «можно применять и к американским, британским и французским фильмам»[16], а Герман Вайнберг в рецензии для журнала Sight and Sound отмечал, что особенной остроты аналитический метод Кракауэра достигает в исследовании 1942 года «Пропаганда и нацистский военный фильм», которое было опубликовано как приложение к «От Калигари до Гитлера»: «Анализируя немецкие пропагандистские фильмы, [Кракауэр] впервые предлагает научный метод для определения кинопропаганды. Он прибегает к своего рода „расщеплению атома“ ‹…›, словно растворяя в „кислоте“ замаскированную ложь и искажения нацистских кинематографистов, показывая их истинное лицо…»[17]
Это исследование стало первой американской работой Кракауэра, к которой он приступил в июле 1941 года, спустя несколько месяцев после прибытия в Америку[18]. Перед этим в 1936–1937 годах по заказу франкфуртского Института социальных исследований в изгнании он написал на немецком работу «Тоталитарная пропаганда», которая не была опубликована при его жизни[19]. Американское исследование «Пропаганда и нацистский военный фильм» получило гриф «секретно» и в виде брошюры было передано некоторым государственным ведомствам – прежде всего Госдепартаменту и Управлению стратегических служб США, а также в Отдел научного изучения пропаганды и военной коммуникации при Библиотеке Конгресса[20]. Этот текст впервые публикуется на русском языке в полном объеме. На этапе редактуры он был исключен из советского издания «Психологической истории немецкого кино»[21] и впервые опубликован в журнале «Киноведческие записки»[22] в переводе А. М. Деменка с немецкого (без части «Структурный анализ»). Последняя интересна тем, что являет собой редкий пример «микроанализа» в творчестве Кракауэра и отчасти перекликается со стоящей особняком главой «Диалог и звук» его «Теории кино». Оставаясь выдающимся эссеистом, Кракауэр завершает основной текст «Пропаганды и нацистского фильма» поэтическим пассажем о том, что рано или поздно реальность непременно уличает тоталитарную пропаганду в манипуляции. Тем самым он предлагает отрицательное определение реальности – понятия, к которому он обращался на протяжении всего своего творчества – как того, что противостоит пропаганде и вопреки всему прорывается сквозь тоталитарные искусственные конструкции.
Как было сказано выше, советское издание «От Калигари до Гитлера» 1977 года было неполным. Помимо приложения «Пропаганда и нацистский военный фильм» из текста была частично удалена оценка политической ситуации в Германии и России, отдельные комментарии по поводу советских фильмов и кинематографистов и ряд подробностей из истории Веймарской республики. Схожей была судьба первого немецкого издания книги, с еще более значительными сокращениями вышедшего в 1958 году под названием «От Калигари до Гитлера. Вклад в историю немецкого кино»[23]. В первом итальянском издании 1954 года[24] также отсутствовало приложение «Пропаганда и нацистский военный фильм». На итальянском языке полный текст книги был опубликован в 1977 году[25], на немецком – в 1979 году[26].
Кроме того, в отечественном издании «От Калигари до Гитлера» не было указано имя переводчика. Однако в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилось дело по изданию книги, из которого ясно, что ее перевел Геннадий Григорьевич Шмаков, известный переводчик, балетный критик и синефил. Он инициировал публикацию «От Калигари до Гитлера» на русском языке и предлагал включить в издание отдельные статьи Кракауэра, посвященные социальным, психологическим и эстетическим проблемам немецкого кинематографа. Шмаков приступил к работе над книгой в 1971 году, а в 1975 году эмигрировал в США, страну, в которой Кракауэр за двадцать восемь лет до этого написал «От Калигари до Гитлера». Несмотря на то, что в 1973 году рецензировавший книгу искусствовед Е. С. Громов рекомендовал издать ее «без каких-либо внутренних купюр» и «сократить лишь приложение», в 1976 году верстка книги была отправлена на «специальное редактирование», а перевод, который до этого оценивался как «в главном – удачный, профессиональный и – за редкими исключениями – киноведчески грамотный», подвергся дополнительным исправлениям и пересмотру. Просьба Шмакова опубликовать перевод под псевдонимом Г. Шувалов, под которым в ленинградском отделении издательства вышел том мемуаров Эрнесто Росси[27], была проигнорирована, и в «От Калигари до Гитлера» имя переводчика не было указано. Узнав о выходе книги, Шмаков написал в 1977 году из Нью-Йорка в издательство «Искусство»: «Несмотря на безжалостную и произвольную редактуру ‹…› это после одобрения ‹…› текст перевода остается моим, а не редакторским»[28].
Настоящее издание возвращает Г. Г. Шмакову авторство перевода. Текст советского издания сверен с английским оригиналом и минимально отредактирован. Немногочисленные фрагменты основного текста, сокращенные в 1977 году, приводятся в моем переводе. Приложение «Пропаганда и нацистский военный фильм», включая часть «Структурный анализ», переведено мною с английского оригинала. Также восстановлены в полном объеме постраничные сноски, включенные Кракауэром в оригинальное американское издание, которые, помимо библиографических ссылок, содержат комментарии автора.
В тексте Кракауэра присутствует ряд незначительных неточностей, прежде всего они касаются года выхода и информации о сохранности некоторых фильмов. В отдельных случаях даны пояснительные сноски. В «Указателе фильмов» приводятся годы выхода фильмов, сверенные с базой данных filmportal. de (подразделение Немецкого института и музея кино (DFF) во Франкфурте-на-Майне), которые иногда могут расходиться с датировками Кракауэра.
В сочетании с монографией «Теория кино» (1960), полное русское издание которой вышло в издательстве Ad Marginem в 2024 году, «От Калигари до Гитлера» дает возможность полифонического взгляда на кинематограф, одно из главных искусств ХХ века, через которое мыслитель и социолог Зигфрид Кракауэр смотрел на мир.
Ольга Улыбышева
От автора
Меня вовсе не интересует немецкое кино как таковое. Эта книга должна обогатить наши представления о догитлеровской Германии.
Я считаю, что анализ немецкого фильма поможет охарактеризовать глубинные психологические процессы в сознании немцев с 1918 года по 1933-й. Нельзя не видеть связи массовой психологии с развитием исторических событий обозначенного периода. Этот факт не следует сбрасывать со счетов в исследовании послегитлеровского времени.
У меня есть все основания полагать, что примененный мною метод анализа фильмов можно успешно использовать при изучении модели массового поведения в Соединенных Штатах и других странах. Я также думаю, что подобные исследования смогут помочь планировать кинопроизводство, не говоря уже о прочих средствах коммуникации, и ускорят достижение культурных целей, стоящих перед Организацией Объединенных Наций.
Я безмерно благодарен Айрис Барри, куратору кинобиблиотеки Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, без которой этой книги не было бы – она предложила мне взяться за это исследование и всячески содействовала его реализации. Я признателен фонду Рокфеллера, который позволил мне приступить к этому труду, и в первую очередь Джону Маршаллу – за неугасающий интерес к моей работе. Также хочу выразить глубокую благодарность фонду памяти Джона Симона Гуггенхайма, дважды удостоившему меня стипендии, и Генри Аллену Моэ, генеральному секретарю фонда, который поддерживал все мои начинания.
Среди тех, кому я особенно признателен за помощь и постоянные консультации по поводу композиции и стиля, я должен отметить Барбару Деминг, бывшего эксперта Библиотеки Конгресса в области кинопроектов, а также сотрудников MoMA Маргарет Миллер, Рут Олсон и Артура Розенхаймера-младшего. Кроме того, хочу выразить искреннюю благодарность главному библиографу MoMA Бернарду Карпелю и его сотрудникам, которые терпеливо и со знанием дела консультировали меня всякий раз, когда я в этом нуждался, благодаря им я чувствовал себя в этой библиотеке как дома и мог пользоваться ее бесценными возможностями для изучения кино. И наконец, я должен упомянуть мою жену, которой я неизменно благодарен. Как всегда, она помогала мне в работе, и ее способность чувствовать самое важное и проникать в самую суть вещей были для меня неоценимы.
Зигфрид Кракауэр
Нью-Йорк
май 1946 года
Введение
IНачиная с 1920 года, когда немецкие фильмы прорвали блокаду, устроенную союзниками своему бывшему противнику, зрители Нью-Йорка, Лондона и Парижа были потрясены удивительными, но в то же время озадачивающими достоинствами немецкого кинематографа[29]. Прототип всех послевоенных немецких фильмов, «Кабинет доктора Калигари», вызвал повсеместно ожесточенные споры. Пол Рота назвал его «первой значительной попыткой выразить творческий дух кинематографическими средствами»[30], швейцарский критик Амиге, напротив, писал, что картина «отдает крашеной древесиной, оставляя во рту привкус золы»[31]. Послевоенные немецкие фильмы, обнажавшие движение немецкой души, задавали всем немало загадок. Ужасающие, мрачные, болезненные – такими эпитетами они чаще всего награждались.
Со временем немецкое кино переменило свои темы и способы их художественного выражения. Но вопреки всем переменам оно сохранило особенности своего удивительного старта, которые можно обнаружить и после 1924 года, признанного началом затянувшегося и явного упадка. В оценке этих особенностей американские и европейские критики достигли полного единодушия. Больше всего их пленял талант, который со времен «Калигари» проявлялся в пластическом мастерстве немецких кинорежиссеров – в невероятной чуткости в подборе впечатляющих декораций, в виртуозно построенном действии и мастерской работе со светом. Особо отмечали искусное использование камеры, которую немцы впервые наделили движением, несущим драматургическую функцию. Больше того, почти каждый искушенный критик отмечал особенную выстроенность фильмов, которая обеспечивала как непрерывность сюжетного развития, так и чудесную гармонию света, декораций и актеров[32]. Благодаря таким уникальным достоинствам немецкий кинематограф оказал серьезное влияние на мировую кинематографию, в особенности после того, как полностью изменились методы работы в павильоне и появилась свободно движущаяся камера в «Последнем человеке» (1924) и «Варьете» (1925). «Это были немецкие „операторские произведения“ (в полном смысле этого слова) – они и поразили Голливуд», – писала американский критик Айрис Барри[33]. Своеобразным знаком уважения немецкому кино явилось то, что Голливуд переманил всех немецких режиссеров, актеров и многие съемочные группы. Франция тоже не была глуха к кинематографическим новациям соседей по ту сторону Рейна. Да и классические русские фильмы испытали благотворное воздействие «принципов освещения» немецкого кинематографа[34].
Восхищение и подражание вовсе не предполагают глубину понимания. О немецком кино написано очень много – не раз пытались анализировать его исключительные достоинства и по мере сил решить волнующие проблемы, связанные с сущностью немецких картин. Но эта, главным образом эстетическая, литература рассматривала фильмы только в качестве автономных структур. К примеру, вопрос о том, отчего именно в Германии камера обрела редкостную свободу движения, даже не ставился. Эволюция немецкого фильма тоже не прослеживалась. Пол Рота, лучший критик английского киножурнала Close Up, первым признал художественные достоинства немецкого кино, однако ограничился краткой хронологической схемой: «Всё немецкое кино с конца Первой мировой войны и до возникновения американского звукового фильма, – говорит он, – можно грубо разделить на три периода. Первый – театральные, историко-костюмные фильмы. Второй – студийные художественные фильмы. Третий период, ознаменованный упадком немецкого фильма, соседствует со временем расцвета американского немого кино»[35]. Однако почему эти группы сменяли друг друга, Рота даже не пытается объяснить. Такие внешние построения стали правилом, а приводят они к критическим кривотолкам вокруг фильма. Связывая упадок немецкого кино после 1924 года с отъездом в Голливуд крупнейших деятелей немецкого киноискусства, а также с вмешательством Америки в немецкую кинопромышленность, большинство критиков называет немецкие картины того времени «американизированной» или «интернациональной» продукцией[36]. Как я в дальнейшем покажу, пресловутые «американизированные фильмы» были в действительности подлинным отражением тогдашней немецкой жизни. Я попробую показать, что изобразительную сторону фильма, его сюжет и эволюцию можно понять только в тесной связи с социально-психологическими процессами, которые преобладали в нации в соответствующий период.
IIНациональное кино отражает психологию своего народа более прямым путем, нежели другие искусства. Происходит это по двум причинам.
Прежде всего, кинематограф – творение не единоличное. Русский кинорежиссер Пудовкин подчеркивает коллективный характер кинопроизводства, объявляя его тождественным промышленному производству. «Руководящий инженер не сможет сделать ничего без мастеров и рабочих. И их совместные усилия не приведут к хорошему результату, если каждый работник ограничится лишь механическим исполнением своей узкой функции. Коллективизм – это то, что делает каждую, даже самую незначительную часть работы живой и органически связанной с общей задачей. Кинематографическая работа такова, что чем меньшее количество людей принимает в ней непосредственное органическое участие, чем разрозненнее их работа, тем хуже получится окончательный продукт производства – кинокартина»[37]. Крупные немецкие кинорежиссеры разделяли эту точку зрения и поступали в полном согласии с Пудовкиным. Наблюдая за съемками фильма, которые осуществлял Пабст на французской студии Joinville, я видел, как он охотно прислушивался к советам членов съемочной группы и ко всему, что касалось установки декораций и света в павильоне. Пабст говорил мне, что считает такого рода советы бесценными. Поскольку любая кинопостановка воплощает в себе единство, где сплавлены различные интересы и вкусы, общее сотрудничество на киноплощадке тяготеет к исключению чьего-либо господства при создании кинофильма, подчиняя индивидуальные особенности чертам, присущим большинству[38].
Во-вторых, фильмы сами по себе адресуются к массовому зрителю и апеллируют к нему. Стало быть, можно предположить, что популярные фильмы, или, точнее говоря, популярные сюжетные мотивы, должны удовлетворять массовые желания и чаяния. Критики нередко отмечали, что Голливуд умудряется продавать такие фильмы, которые не дают массам то, что они хотят. Выходит, что Голливуд дурачит и обманывает публику, которую лишь собственная пассивность да оглушительная реклама гонят в кинотеатр. Однако губительное влияние голливудского массового киноразвлечения не стоит переоценивать. Фокусник зависит от природных качеств используемого материала. Даже нацистские военные фильмы, эта чистейшей воды пропагандистская продукция, отражали некоторые особенности национальной психологии, которые не могли быть придуманы нарочно[39]. То, что справедливо по отношению к пропагандистской продукции, еще лучше прилагается к коммерческим фильмам. Голливуд не мог не принимать в расчет непосредственную реакцию публики. Всеобщее недовольство фильмом сразу же оборачивается скудными кассовыми сборами, и кинопромышленность, живо заинтересованная в прибыли, принуждена по мере сил приноравливаться к капризам зрительской психологии[40]. Конечно, американская публика получает то, что Голливуд хочет ей навязать, но в конечном счете вкусы зрителей определяют природу голливудских фильмов[41].
IIIФильмы отражают не столько определенные убеждения, сколько психологические настроения, те глубокие пласты коллективной души, которые залегают гораздо глубже сознания. О господствующих тенденциях социальной психологии можно, конечно, многое узнать из популярных журналов, радиопередач, бестселлеров, рекламы, модной лексики и других образчиков культурной жизни народа. Но кинематограф во многом превосходит эти источники.
Благодаря разнообразному использованию кинокамеры, монтажу и другим специфическим приемам фильмы могут, а стало быть обязаны пристально вглядываться в целостную картину видимого мира. Результатом его освоения является то, что Эрвин Панофский назвал «динамизацией пространства»: «В кино ‹…› зритель ‹…› занимает постоянное место, но только физически. ‹…› Эстетически он находится в постоянном движении, поскольку его глаз идентифицирует себя с объективом кинокамеры, которая постоянно меняет объект и угол зрения и подобно тому, как меняет свое положение зритель, меняется и пространство, демонстрируемое ему. Не только тела перемещаются в пространстве, но перемещается и само пространство, приближаясь, отодвигаясь, переворачиваясь, растворяясь и снова кристаллизуясь…»[42]
Завоевывая пространство, фильмы художественные и документальные в равной мере запечатлевают бесчисленные компоненты мира, который они отражают: огромные человеческие толпы, случайные сочетания человеческих тел и неодушевленных предметов, а также бесконечную вереницу повседневных явлений. Как правило, экран имеет дело с этими текучими явлениями, на которые в жизни и не обратишь внимания. Опередив другие кинематографические приемы, крупный план появился у колыбели кино и продолжает успешно утверждаться на протяжении всей его истории. «Когда я берусь за фильм, – говорил Эрик фон Штрогейм журналистам, – то работаю днем и ночью. Не ем, иногда не сплю, стараюсь выверить каждую деталь, представить себе даже выражения лиц моих героев»[43]. В этом отыскивании и фиксации повседневных мелочей и заключается миссия фильма, обусловленная его фотографической природой.
Душевная жизнь проявляется в различных элементах и сочетаниях внешнего мира, особенно в тех почти неприметных беглых явлениях, которые составляют суть их любого экранного воплощения. Воспроизводя зримый мир – текучую живую реальность или воображаемый микрокосм, – фильм дает ключ к скрытым от глаз психологическим процессам. Хорэс М. Каллэн, исследовавший эпоху немого кинематографа, подчеркивал в свое время специфическую функцию крупного плана: «Случайные движения – бессознательная игра пальцев, сжатие и разжимание рук, которые роняют носовой платок, забавляются с явно ненужным предметом, становятся зримыми иероглифами незримой динамики человеческих отношений»[44]. Фильмы в этой связи особенно содержательны, поскольку их «зримые иероглифы» дополняют самое сюжетную историю. Пронизывая фабулу и зрительный ряд фильма, «незримая динамика человеческих отношений» более или менее характеризует внутреннюю жизнь нации, из которой возникают ленты.
То обстоятельство, что фильмам, успешно отвечающим массовым желаниям и чаяниям, выпадает на долю огромный кассовый успех, кажется совершенно естественным. Пользующийся массовым успехом кинобоевик может, однако, угождать одному из многих сосуществующих требований и вовсе не обязательно самому важному. В своей заметке о принципах отбора фильмов, хранящихся в Библиотеке Конгресса, фильмограф Барбара Деминг развивает такую мысль: «Если даже знаешь ‹…› какие фильмы были самыми популярными, может оказаться, что, сохраняя их в первую очередь, ты сохраняешь одну и ту же грезу на целлулоиде ‹…› и теряешь другие грезы, которые не появились в самых популярных картинах больших мастеров, но запечатлены в более дешевых и менее знаменитых лентах»[45]. В этом замечании речь идет не столько о статистически выверенной популярности фильмов, сколько о популярности их изобразительных и сюжетных мотивов. Постоянное возникновение в лентах этих мотивов свидетельствует о том, что они – внешние проявления внутренних побуждений. Эти мотивы несомненно заключают в себе социально-психологические модели поведения, если проникают в популярные и непопулярные фильмы, в картины категории «Б» и грандиозные кинопостановки. Предлагаемая читателю история немецкого кино – это история его мотивов, которые цепко держались в фильмах независимо от их эстетического уровня.


