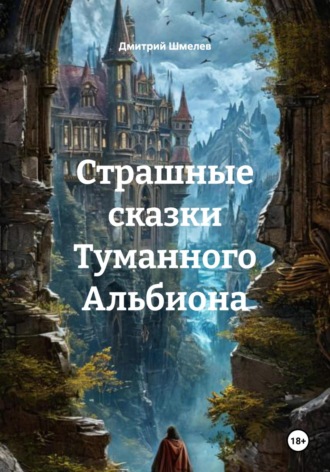
Полная версия
Страшные сказки Туманного Альбиона
Страшные сказки Туманного Альбиона: Глас черни
Туман был не просто явлением погоды в графстве Винчестер; он был душой этих мест, вечной и неизменной. Он стлался по низинам меж холмов, как молочная река, вытекавшая из самого сердца Темзена. Он забирался в щели домов, пропитывал одежду, впитывался в кожу и, казалось, проникал в самые мысли и души обитателей деревушки Энвик. Он был густ, непрозрачен и полным тихих шепотов, рождавшихся в его сырой мгле.
Именно в таком тумане, холодным и влажным утром, юный Оуэн, сын кузнеца, нашел свое единственное убежище. Запах в хлеву старой Мэйбл был единственным, что мог перебить эту всепроникающую сырость. Здесь пахло жизнью – терпким, душистым сеном, парным молоком и теплым, животным дыханием козы Беатрис. Для одиннадцатилетнего Оуэна этот хлев был и крепостью, и королевским замком, а старая, добрая коза – его верным боевым конем.
«Ну, поехали, мой скакун!» – прошептал он, вскарабкиваясь на ее широкую, костистую спину.
Беатрис лишь лениво блеяла, продолжая жевать свою жвачку. Оуэн усаживался по-турецки, вцепившись пальцами в ее грубую шерсть, и представлял себя доблестным рыцарем Короля Артура, сэром Ланселотом, что скачет через зачарованный лес Броселианд. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь щель в стене, превращался в его воображении в сияющий Экскалибур, а облака пыли, взметавшиеся от каждого движения Беатрис, – в клубы дыма от дыхания дракона.
Но сегодня его рыцарские грезы были недолгими. Сквозь приоткрытую дверь хлева доносились приглушенные, но настойчивые голоса. У калитки, на грубо сколоченной дубовой лавочке, сидели, как изваяния, три фигуры. Три ворона в цветастых платьях и белых чепцах. Это были главные летописцы и судьи Энвика – Гиневра, жена мельника, Элдис, вдова старого пастуха, и Моргана, чей муж где-то плавал на корабле короля. Они не просто сидели; они вершили суд. Их языки, быстрые и острые, были их оружием, а уши, скрытые под намитками, – огромными, как лопухи, впитывающими каждую крупицу слухов и сплетен, что носились в туманном воздухе.
Оуэн, как истинный рыцарь, поначалу пытался игнорировать этот «глас черни». Но сегодня их шепот был особенно ядовит и настойчив. Он лип к сознанию, как влажная паутина. Он оказался слаб. Его детское любопытство, подогретое таинственностью их речей, пересилило рыцарский кодекс чести. Он тихо сполз с Беатрис и прильнул к щели в стене хлева, превратившись из Ланселота в простого подслушивающего пажа.
«…и ведь я ей говорила, еще до венца, не ходи за него, – шипел голос Гиневры, густой, как овсяная похлебка. – Род его нечист. Помните, его дед, старый Хьюго, по ночам с волками выл на луну? Кровь – она ведь не вода, она свое возьмет».
«Возьмет, еще как возьмет, – подхватила Элдис, качая своей седой головой. – Вот и взяла. После свадьбы-то его, Томаса, словно подменили. Сначала замкнулся, молчал, а потом… потом совсем с ума спятил. Бегал по деревне в одной рубахе, кричал, что в колодце живет король Фейри и зовет его к себе».
Оуэн замер. Они говорили о его крёстном! О Томасе Кузнеце, сильном и веселом мужчине, который всего полгода назад подбросил его, маленького, до самой крыши своей мастерской и смеялся таким громким, раскатистым смехом. Томас был женат на Элинор, женщине с глазами цвета лесного ореха и тихой, ласковой улыбкой. Оуэн обожал их обоих.
«А бедная Элинор, – всхлипнула Моргана, но в ее голосе не было и капли жалости, лишь сладострастное любопытство. – От стыда чуть не повесилась на собственном поясе! Спас ее сосед, вовремя подвал дверь. Вот такая беда, горюшка-то».
«Теперь-то она с ним делает?» – спросила Гиневра, и в ее голосе прозвучала плохо скрываемая надежда на самые ужасные подробности.
«А что делает честная жена? – с важным видом ответила Элдис. – Муж – ее крест и долг. Не бросить же его. Вот и содержит. Но не в доме, конечно. Грех под одной кровлей с безумным спать. Держит его в грязном хлеву, на краю огорода. На цепи, слышали? На цепи, как бешеного пса! И кормит, чтобы не помер, сеном да отрубями, будто скотину. И ведь заслужил, окаянный! Своим бесчинством опозорил род до пятого колена».
У Оуэна перехватило дыхание. Картина, которую рисовали их слова, была настолько чудовищной, что не укладывалась в голове. Его крёстный, могучий Томас, чьи руки могли согнуть подкову… в хлеву? На цепи? Кормят сеном? Нет, это была ложь. Гнусная, отвратительная ложь этих старых карг!
Он хотел выбежать и крикнуть им это, заткнуть их гнусные рты комьями земли. Но ноги не слушались. Что, если это правда? Мир, такой прочный и понятный, вдруг дал трещину, и из нее на Оуэна хлынул леденящий душу ужас.
Весь тот день он был сам не свой. Не помогал отцу в кузнице, не пошел с мальчишками к реке. С наступлением сумерек он не выдержал. Туман сгустился, превратившись в сизую, почти осязаемую стену. Оуэн, как тень, скользнул между домами, направляясь к одинокому домику на окраине, где жили Томас и Элинор.
Он притаился за старым, полуразвалившимся плетнем, с которого свисали колючие ветки ежевики. Огород Элинор был ухожен, но на самом его краю, в стороне от дома, стоял небольшой, покосившийся хлев. И в нем горел свет. Неяркий, колеблющийся свет масляной лампы или свечи. Он колыхался за крошечным, забранным решеткой окошком, словно испуганное сердце.
И тогда Оуэн увидел это. Дверь хлева открылась, и в прямоугольнике света появилась фигура Элинор. Она была закутана в темный плащ, а лицо ее было бледным и осунувшимся. Она несла в руках миску. Оуэн замер. В следующее мгновение он услышал глухой лязг металла. Из темноты хлева протянулась рука – бледная, грязная, с обломанными ногтями. Она схватилась за железное кольцо двери, и Оуэн увидел, как на запястье блеснул толстый, тяжелый замок, прикованный к массивной цепи.
Элинор поставила миску на землю и, не глядя на того, кто был внутри, отступила на шаг. Цепь звякнула еще раз, и рука исчезла в темноте, увлекая за собой миску. Элинор тяжело вздохнула, ее плечи сгорбились. Она посмотрела на туманное небо, и Оуэн показалось, что по ее щеке скатилась слеза. Затем она захлопнула дверь, и Оуэн услышал, как щелкнул большой висячий замок.
Сердце мальчика упало и разбилось о камни ужаса. Это была правда. Вся, до последней мерзкой детали. Его крёстный, его герой, был зверем в клетке, а его прекрасная крёстная – его тюремщицей. Мир перевернулся. Добро и зло смешались в отвратительную, непонятную кашу.
Он бежал домой сквозь туман, и ему казалось, что из каждой тени на него смотрят безумные глаза Томаса, а из каждой лужи доносится лязг той проклятой цепи.
На следующее утро, подавленный и испуганный, Оуэн снова оказался у хлева Мэйбл. Но сегодня запах сена и молока не приносил утешения. Он искал хоть какого-то подтверждения, что мир не сошел с ума окончательно. И старухи, словно чувствуя его смятение, были тут как тут. Их сплетничный стан работал без устали.
«…а старуха Марта, что в домике за рекой, – говорила Гиневра, понизив голос до зловещего шепота, – так та и вовсе ведьма. Говорят, перед тем, как отправиться на покой, трех своих зятьев заколола! Не ножиком, нет… а своей деревянной клюкой! Представляете? Говорят, глаза у нее слепые, молочные, а видит она куда больше зрячих. Видит самую суть человека, его грехи».
Оуэн смотрел через реку, на другой берег, где в чаще старого леса стоял покосившийся домик Марты-Ткачихи. Он всегда боялся того места. Теперь же страх стал конкретным.
«Самый старший, Бартоломью, – подхватила Элдис, озираясь по сторонам, – был найден у своего же станка. Сидел, прислонясь к стене, а насквозь пронзен был ее посохом. Говорят, клюка вошла в грудь так, что острие вышло с другой стороны и вонзилось в дубовую балку. Пригвоздил его, словно бабочку коллекционер. И выражение на лице… будто он увидел саму смерть, прежде чем она пришла».
Оуэн сглотнул. Он ясно представил эту сцену: темная изба, трепетный свет огня, отбрасывающий пляшущие тени, и неподвижная фигура мужчины, пришпиленная к стене, как насекомое. А перед ним – высохшая, слепая старуха с безразличным, молочным взором.
«Это что! – фыркнула Моргана, перебивая его жуткие мысли. – А слышали про парнишку, что на ферме у лорда работает? Уилл Здоровяк? Так тот, слышь, взрослого быка поднимает! За заднюю ногу – и на дыбы! Это ж надо, какой лихой! Нет его крепче во всем графстве!»
И снова воображение Оуэна услужливо нарисовало картину: могучий парень с ухмылкой брал под мышку ревущую корову и нес ее, как охапку сена. Это был образ простой, понятной силы, в противовес извращенной силе старухи-убийцы и жуткой слабости его крёстного.
Но самый странный персонаж появился в их беседе последним.
«Все это цветочки, – таинственно произнесла Моргана. – А ягодка – это наш лесник, старый Кадог. Нет того, кто б в селе его не знал. Только вот чудака никому из людей не понять!»
«И не говори, – кивнула Гиневра. – Он зверей собирал, говорил, играл с ними на своей дудке деревянной. Утверждал, будто понимает их язык. И считал их… равными нам. Говорил, мол, нет разницы меж волком и человеком, меж зайцем и купцом. Может, дескать, самое простое существо облик человеческий принять, если душа его того захочет!»
«Бредни старого помешанного», – отмахнулась Элдис.
Но для Оуэна эти слова не были бреднями. После вчерашнего он был готов поверить во что угодно. Лесник Кадог был единственным, кто не вызывал в нем чистого ужаса. Он вызывал жгучую, щемящую любопытство. Если Томас олицетворял падение человека в зверя, а старуха Марта – зло в человеческом обличье, то Кадог, казалось, стирал грань между мирами. Он был мостом. И Оуэн жаждал пройти по этому мосту.
В его голове, распаленной страхом и сплетнями, родился план. Он должен был сам все увидеть. Увидеть танцующих зверей и волшебство старого Кадога. Только это, как ему казалось, могло исцелить разорванную ткань его реальности.
Следующей ночью, когда луна, бледная и размытая, висела в туманном небе, Оуэн покинул свой дом и отправился в лес. Он шел на ту самую поляну, о которой, по слухам, старик водил свои хороводы. Сердце его колотилось, но не только от страха – от предвкушения чуда.
Он не ошибся. Добравшись до опушки, он замер. На середине поляны, освещенной лунным светом, пробивавшимся сквозь дымку, стоял старый Кадог. Он был высок и сух, как древний дуб, а его длинные седые волосы сливались с туманом. В руках он держал тростниковую дудку, из которой лилась странная, завораживающая мелодия – ни веселая, ни печальная, а просто… иная. Звериная.
И вокруг него двигались фигуры. Лис с острыми мордами водил хоровод с барсуком; пара молодых волков степенно вышагивала по кругу; даже пугливый олень стоял неподвижно, слушая музыку. Оуэн затаил дыхание. Чудо было реальным.
И тогда он увидел Зайца. Он сидел на задних лапках у самых ног Кадога, его длинные уши подрагивали в такт музыке. И вот, под звуки дудки, с ним стало происходить нечто.
Сначала его фигура стала распрямляться, вытягиваться. Передние лапы, опиравшиеся на землю, удлинились, суставы их с хрустом изменили положение, превращаясь в подобие рук с длинными, костлявыми пальцами. Задние лапы стали массивнее, приняв на себя весь вес тела, и также изменили форму, став похожими на худые, кривые человеческие ноги. Шерсть на его груди и спине слегка отступила, обнажив кожу странного, землисто-серого оттенка. Голова зайца откинулась назад, и морда его начала укорачиваться, скулы выдвигаться вперед, формируя нечто, отдаленно напоминающее лицо. Но глаза… глаза оставались прежними – огромными, выпуклыми, стеклянно-пустыми, полными векового заячьего испуга, сидящими по бокам этой новой, уродливой головы.
Оно – существо – встало на свои новые, нетвердые ноги. Оно было чуть ниже человека, сутулым, с длинными, волочащимися по земле руками. Оно повернуло свою жуткую голову с боковыми глазами в сторону Оуэна. И ухмыльнулось. Ухмыльнулось широко, безгубым ртом, обнажив длинные, желтые, идеально заячьи зубы.
Это не было превращением в человека. Это была пародия, кошмарная карикатура, сотканная из самых пугающих черт обоих миров. В этом существе не было ни человечности, ни природной грации зверя. Была лишь мерзкая, противоестественная помесь.
Крика, который рванулся из груди Оуэна, никто не услышал. Он застрял у него в горле, превратившись в беззвучный, давящий ком. Он отшатнулся, споткнулся о корень и побежал. Бежал без оглядки, сквозь колючие кусты, сквозь хлещущие по лицу ветки, сквозь густой, всепроникающий туман.
Он бежал, и в ушах у него звучала та проклятая дудка, а перед глазами стояло это существо – не человек и не заяц, а нечто третье, рожденное на стыке реальностей. И его мозг, уже надломленный предательством крёстной, жестокостью старухи и невыносимой тяжестью мира, нашел последний, самый простой выход. Он смешал все воедино.
Теперь, глядя на свою мать, он видел в ее глазах молочную пелену старухи Марты. Сильная рука отца, раздувающая мехи в кузнице, казалась ему рукой Уилла Здоровяка, способной поднять быка. А в каждом шорохе за калиткой ему чудился мягкий, крадущийся шаг того, человекоподобного зайца с безгубым ртом и стеклянными глазами.
Но самым страшным, самым ярким видением, преследовавшим его без устали, был тот самый колеблющийся свет в грязном загоне и бледная рука, сжимающая звенья холодной, железной цепи. Его крёстный. Зверь. Или человек? А может, и то, и другое? Может, все люди на самом деле лишь носят маски, а под ними скрываются такие же чудовища?
Оуэн сидел в углу своего дома, качаясь взад-вперед. Он что-то бормотал, обращаясь к теням. Он смеялся тихим, безрадостным смехом и плакал без слез. Мир, который он знал, рассыпался, и на его месте возник другой – полный ужаса, чудес и лжи, переплетенных так тесно, что уже невозможно было отличить одно от другого.
Бедняга Оуэн свихнулся с ума. Не из-за одной сплетни, не из-за одного ужасного зрелища, а из-за чудовищного груза, обрушенного на его хрупкие плечи: предательство тех, кого он любил, безжалостная жестокость мира и окончательное крушение всех границ, отделяющих возможное от невозможного. И туман, вечный туман Альбиона, сомкнулся над его потерянной душой, унося ее в свои бесконечные, безмолвные и равнодушные объятия. Сказки Туманного Альбиона продолжали твориться, впитывая в себя еще одну искалеченную судьбу.
Страшные сказки Туманного Альбиона: Алое солнце над болотами Линли
Сырость в графстве Кембриджшир была не просто отсутствием сухости; она была самостоятельной стихией, древней и безжалостной. Она поднималась из самой толщи Топких низменностей, просачивалась сквозь щели в бревенчатых стенах, въедалась в шерсть овец и в легкие людей. Она несла с собой не запах, а сущность – тяжкое дыхание гниющего тростника, споры плесени и что-то еще, невыразимо чумное. В деревушке Линли-на-Болотах эта сырость выедала души задолго до того, как черная язва добиралась до тел. Дождь, ливший не переставая третью неделю, был лишь ее орудием, монотонным и безжалостным барабанным боем, отбивавшим такт угасанию.
Трактир «Заблудший путник» в такую пору был не пристанищем, а последней ловушкой. Воздух внутри был густым и спертым, пахшим кислым пивом, влажной шерстью и страхом. Пламя в очаге едва боролось с наступающим мраком, отбрасывая на стены беспокойные тени, в которых чудились шепоты и призраки. Эзра, трактирщик, чье тело всегда было влажным и липким, словно у речного слизня, обтирал одну и ту же кружку тряпкой, его взгляд был пуст и обращен вовнутрь, в тупик собственного отчаяния.
Дверь не скрипнула. Она просто отворилась, впустив порыв ледяного воздуха, от которого пламя в очаге съежилось и припало к полену. На пороге стоял он.
Высокий, до костей пропитанный темнотой, закутанный в плащ, чернота которого казалась глубже самой ночи. Капли дождя не задерживались на ткани, стекая с нее, как со скальной породы. Его лицо было маской из старой, пожелтевшей слоновой кости – резкие, неподвижные черты, лишенные и тени живой теплоты. Но главное – глаза. В глубоких орбитах тлели два крошечных уголька, излучавших не свет, а его подобие – багровый, болезненный отсвет, словно раскаленные докрасна иглы, вонзившиеся в жирную ткань ночи. В них не было ни любопытства, ни презрения, лишь холодная, всеобъемлющая констатация факта, с какой геометр взирает на ошибочную чертеж.
– Вино, – прозвучал его голос. Он был низким, сухим, лишенным тембра, похожим на скрежет надгробия, сдвигаемого с места.
Эзра замер, затем бросился к бочонку, его пальцы дрожали, расплескивая мутную жидкость. Он протянул кубок, и незнакомец принял его рукой в черной перчатке. Он не сделал ни глотка, просто держал сосуд, словно это был не напиток, а некий ритуальный атрибут, чье назначение ему одному ведомо.
Тишина в трактире стала тягучей и звенящей. Ее нарушил старый пастух Джосайя. Он сидел у огня, безучастно глядя в пламя, и вдруг беззвучно сполз со скамьи на грязный пол. По его виску стекала струйка черного, липкого пота, а на шее, под редкой бородой, зияло темное, расползающееся пятно. Чума. Она была здесь, среди них, дышала в затылок.
Поднялась молчаливая паника. Двое дровосеков, братья Годвины, отшатнулись, прижимаясь к стене. Эзра, бормоча что-то несвязное, отполз за стойку. Лишь один человек не дрогнул – Калеб, коренастый, широкоплечий мужчина с лицом, изрытым оспинами и вечной неприязнью. Он сидел в углу, и его глаза, узкие и колкие, изучали незнакомца с мрачным любопытством.
– Выносите его, – проскрежетал Калеб. – Пока он не надышал на всех свою погибель.
Братья Годвины, не глядя друг на друга, ухватили тело Джосайи и потащили к выходу. Эзра бросился запирать дверь.
Незнакомец наблюдал за этой суетой, и тонкие, бледные губы на его каменном лице дрогнули, вычертив нечто, отдаленно напоминающее улыбку. Улыбку хищника, видящего, как мечутся мыши.
– Как трогательно, – его голос прозвучал громко в гробовой тишине. – Вы дрожите перед невидимым миазмом, но слепы к хищнику, что стоит у вас за спиной. Ваш страх – это запах, что сзывает на пир тех, для кого ваша агония – еда и зрелище.
Калеб медленно поднялся.
– А ты кто такой, чтобы вещать? Лекарь-шарлатан? Или гонец смерти?
– Я – Альстон. И я свидетель. Свидетель того, как низко может пасть творение, наделенное некогда волей и разумом.
Он отставил кубок, не притронувшись к вину.
– Эта деревня обречена. Но не чумой. Ее сожрут изнутри те, кого вы сами, в своем ослеплении, примете за избавителей.
Дверь с силой распахнулась. На пороге стояли братья Годвины, их лица были белы как мел.
– Эзра! Калеб! Идите… гляньте…
Все высыпали наружу. Дождь стих, и луна, бледная и больная, пробивалась сквозь рваные облака, заливая мир мертвенным светом. Тело Джосайи лежало в грязи. А напротив, в тени столетнего вяза, стояла другая фигура – высокая, иссохшая, закутанная в рваный плащ. Лица не было видно, но от него веяло такой немой, абсолютной угрозой, что даже Калеб почувствовал, как по спине пробежали ледяные мурашки.
Фигура медленно подняла руку, костлявый палец указующе протянув в сторону Альстона. Раздался звук – не то шипение, не то хриплый, беззвучный смех – и призрак растворился во тьме.
– Это он! Чумной доктор! – зашептал младший Годвин. – Его видят на болотах! Он насылает мор!
Альстон вышел из трактира. Его багровые глаза были прикованы к пустоте, где только что стояла фигура.
– Не доктор, – произнес он тихо, и слова его падали, как капли стынущего олова. – И не смерть он несет. Он несет нечто худшее. Осквернение. И ваш страх – это та плодородная грязь, в которой произрастает его власть.
Он повернулся к Калебу.
– Ваше поселение стало полем брани для существ, чьи имена вам лучше не ведать. И если вы хотите увидеть еще один восход, вы будете слушать.
Альстон занял чердак над старой амбарной постройкой на отшибе. Место было сухим, заброшенным, пропитанным пылью и забвением. Оттуда, сквозь круглое, похожее на бойницу окно, открывался вид на все поселение и уходящие за ним в бесконечность топь и трясину. Калеб, против своей воли, стал его тенью и проводником. Что-то в ледяном спокойствии этого существа, в его неестественной, нечеловеческой силе, внушало ему, отпетому цинику, не доверие, но смутную надежду и животный, первобытный ужас.
Когда деревня погрузилась в тревожный, чумной сон, Альстон стоял у окна. Луна скрылась, и тьма сгустилась, став почти твердой. Он не нуждался в свете. Его зрение пронзало мрак, различая не формы, а саму суть вещей – тепловые следы жизни, холод смерти и багровые пятна разгорающегося безумия.
Из глубины чердака, из сгустка теней, отделилась другая фигура. Молодая женщина, ее кожа была того же мраморного оттенка, что и у Альстона, а глаза – огромные, глубокие, казались черными озерами в ее худом лице. Элеонора. Когда-то ее звали иначе, но то имя сгорело в лихорадочном жаре чумного барака в Лондоне, вместе с теми, кого она любила. Альстон нашел ее на краю вечности и предложил иную дорогу – не в небытие, а в вечную ночь. Она выбрала ночь.
– Он здесь, учитель, – ее голос был шелестом сухих листьев. – Я чую его смрад. Он пахнет разложившейся плотью и цветущей чумой.
– Мортимер, – имя сорвалось с губ Альстона, словно проклятие. – Один из тех, кого я в минуту слабости счел достойным продолжения. Он всегда жаждал власти над смертными, но теперь… теперь он возжелал стать их богом. Богом чумы и отчаяния.
– Он обращает их, – продолжила Элеонора. – Слабых, глупых, отчаявшихся. Он дает им силу, но лишает последних остатков воли. Он создает не собратьев, а рабов. Покорное стадо.
– Он оскверняет саму суть нашего бытия. Он превращает нас, стражей ночи, в шутов в помойном цирке. И его представление должно закончиться.
В дверь постучали. Вошел Калеб. Он выглядел так, будто на него взвалили неподъемный груз.
– Еще одна. Дочь мельника. Сара. Нашли у ручья. Белая, как бумага… вся кровь ушла. А на шее… два прокола. Тонких, как иглы.
– Не иглы, – поправил Альстон. – Клыки. Ведите меня.
Тело лежало у старого, сгнившего мостика. Толпа сельчан, вооруженная вилами и косами, стояла поодаль. Их страх, долго копившийся в сырых хижинах, наконец переродился в злобу. И эта злоба искала виноватого. Увидев Альстона и Элеонору, они зароптали.
– Это они! Порчу навели! – завопила какая-то женщина.
– Демоны в человечьем обличье!
Калеб попытался что-то крикнуть, но его голос потонул в общем гуле. Толпа, ведомая слепым инстинктом стада, начала сходиться. Альстон стоял недвижимо. Он смотрел не на людей, а поверх их голов, выискивая в толпе тех, на чьих лицах не было страха, а лишь тупое, хищное ожидание.
– Вы ищете того, кто пьет вашу кровь? – голос Альстона прорвал гул, как лезвие – плоть. – Так посмотрите же на тех, кто уже присоединился к пиру!
Он двинулся не на толпу, а в сторону, к трем братьям Кроули, местным отбросам, чья жестокость была притчей во языцех.
– Ты, Томас, – Альстон остановился перед самым старшим. – Вчера ты едва волочил ноги. Сегодня от тебя исходит сила. Гнилая, чужая, как запах с болот.
Томас, детина с тупым, жестоким лицом, осклабился. В его улыбке блеснули длинные, заостренные клыки.
– А ты кто такой, костлявый призрак, чтобы указывать? Настали новые времена! Сильный – тот, кто не боится укусить!
Он бросился на Альстона с ревом. Движение его было быстрым, но грубым, звериным. Альстон не сделал ни шага. Он просто поднял руку, и Томас замер в двух шагах от него, словно врезался в невидимое стекло. Его лицо исказилось от изумления и бессильной ярости.
– Ты получил дар, который не заслужил, и обратил его в орудие глупости, – голос Альстона был тихим, но каждый слог вонзался в сознание, как раскаленный гвоздь. – Ты – сор, который необходимо вымести.
Он сжал пальцы в кулак. Томас Кроули с хрипом рухнул на колени, давясь собственным дыханием. Его двое братьев, видя это, с безумными криками ринулись в атаку. Но тут в дело вступила Элеонора. Она метнулась вперед, как тень, порождение самого мрака. Ее движения были стремительны и смертоносны. Один из нападавших отлетел назад с разорванным горлом, второй с грохотом упал, его нога была сломана с таким хрустом, что у толпы вырвался общий стон.
– Господи помилуй… – прошептал кто-то. Они видели не людей. Они видели силы, о которых не смели и помыслить.
Альстон подошел к корчащемуся Томасу.
– Где твой повелитель? Где Мортимер?
Томас, захлебываясь кровью, просипел:
– На старом кладбище… у часовни… он ждет… говорит… охота начинается…
Альстон кивнул. Он обвел взглядом остолбеневших сельчан.
– Запритесь в домах. Не гасите свет. Что бы вы ни слышали – не смотрите. Эта ночь не принадлежит вам.
Он повернулся и пошел по тропе, ведущей в сердце болот. Элеонора последовала за ним, беззвучная, как призрак. Толпа молча расступилась, провожая их взглядами, в которых ужас смешивался с почти религиозным трепетом.




