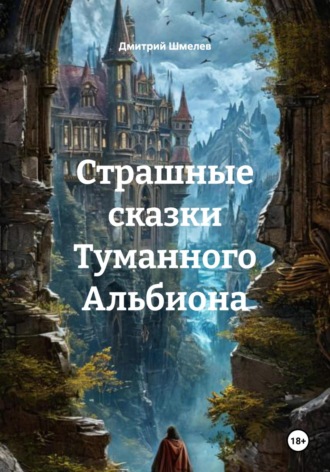
Полная версия
Страшные сказки Туманного Альбиона

Дмитрий Кармидт
Страшные сказки Туманного Альбиона
А если стал порочен целый свет, То был тому единственной причиной Сам человек: лишь он – источник бед, Своих скорбей создатель он единый
❞Данте Алигьери. "Божественная комедия"ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга родилась из шепота, что пробивается сквозь трещины в камнях старых городов, и из ритма, что отбивают сердца, заточенные в темнице собственных страстей. Она собрана из обрывков разговоров в придорожных тавернах, из баек, что рассказывают у костра, и из странных баллад, чьи мелодии забываются, а слова врастают в память, как старые раны.
Мне довелось услышать истории, которые не пишут в летописях. Их не читают – их поют шепотом или кричат в бурю. Они передаются из уст в уста, обрастая невероятными подробностями, но сердцевина их остается неизменной: яростной, горькой и прекрасной. Я стал лишь проводником, пытаясь перенести на бумагу ту магию, что живет в ритме и строчке, превратить услышанный напев в зримый образ, а чужую боль – в общечеловеческую притчу.
Не ищите в этих страницах строгой правды. Ищите огонь в очаге лесника, тень на стене замка и тот самый смех, что звучит там, где должно быть лишь эхо рыданий. Эти истории – эхо чужих судеб, ставшее для меня вдохновением. Теперь я передаю его эхо вам.
Приготовьтесь. Впереди – странное и удивительное путешествие.
Страшные сказки Туманного Альбиона: Пивная «У Висельного Дерева»
Дым от глиняной трубки стелился густой пеленой, цепляясь за низкие, закопченные балки потолка. В воздухе витал тяжёлый дух прокисшего эля, влажной шерсти и человеческого пота. «У Висельного Дерева» была не тем местом, где ищут утешения. Сюда приходили, чтобы забыться, утопить в хмельном тумане вину, страх или отчаяние. Или же, как Томас Харгрейв, чтобы попытаться сбежать от призраков, что звенели в ушах тише, чем звон кружек, но куда настойчивее.
Томас сидел в углу, вдавив свои широкие плечи в стену, словно пытаясь стать её частью, раствориться в штукатурке и тени. Его кружка была полна, но он не притрагивался к ней. Взгляд, обычно твёрдый и пронзительный, как лезвие топора, был устремлен в никуда, в какую-то точку на липком от пролитых напитков столе. Он был палачом Йоркшира. Человеком, чьё имя заставляло содрогнуться самых отпетых негодяев и набожно креститься добропорядочных горожан. Его руки, лежавшие на столешнице ладонями вниз, были испещрены шрамами и покрыты старыми мозолями – немыми свидетелями бесчисленных казней.
Бармен, старый Джосайя, сгорбленный, как высохший корень, наблюдал за ним исподлобья. Он знал Томаса давно, видел его после самых мрачных «работ» – усталым, замкнутым, иногда выпивающим лишнюю пинту, но всегда сохраняющим незыблемый стержень, ту самую веру в Закон и Порядок, что делала его инструментом воли Господа и Короны. Но сегодня в палаче было что-то сломанное. Не тело – душу.
Подойдя к столу, Джосайя поставил перед ним свежую кружку, хотя старая была нетронута.
– Не привык я таким тебя видеть, приятель, – хрипло проговорил он, садясь на скамью напротив. – Твоё место – у плахи, а не тут, в тени, с лицом, будто на похоронах побывал. Что стряслось? Говори. Клянусь крестом и чёртом, лишь сам дьявол мог так тебя извести.
Томас медленно поднял голову. Его глаза, серые, как зимнее небо перед бурей, встретились с взглядом трактирщика. В них не было ни злобы, ни привычной суровости. Только пустота, за которой клубилась такая бездонная боль, что Джосайя едва не отшатнулся.
– Я был слепым псом на цепи, Джос, – голос Томаса был тихим и разбитым, словно он целый день кричал. – Верил, что мои руки – это руки Закона, карающие зло. Что я… очищаю этот мир от скверны.
Он замолчал, сглотнув ком в горле. Его пальцы сжались в кулаки, костяшки побелели.
– Но теперь я увидел, что скверна – в самом основании Закона. И места мне в этой системе больше нет. Она выжжена из меня, как калёным железом.
– Что ты несешь, Томас? Казнь была сегодня? Кого? – Джосайя нахмурился. Новости в городе расползались быстро, но о сегодняшней казни он не слышал.
– Не казнь, Джос. Казнь была три дня назад. А сегодня… сегодня умерла Элинор. Моя подруга детства. Та, что должна была стать… моей женой.
Слово «жена», вырвавшееся из уст палача, повисло в воздухе нелепым и страшным призраком. Джосайя замер, не веря ушам. Он знал Элинор. Милую, тихую девушку с глазами цвета весеннего неба, дочь аптекаря. Она иногда заходила в таверну, чтобы купить лечебных трав для отца. И она всегда, всегда с лёгкой, нежной улыбкой здоровалась с угрюмым Томасом. Все думали, она просто добрая. Слишком добрая.
– Господи помилуй… Как? – прошептал трактирщик.
Томас снова уставился в стол. Слёз не было. Они высохли три дня назад, выжженные пламенем костра.
– Они назвали её ведьмой. А я… я был её палачом.
И под свинцовым небом Англии, в удушливой атмосфере страха и религиозного фанатизма, Томас начал свой рассказ. Рассказ о трёх днях, которые навсегда разделили его жизнь на «до» и «после».
Часть Первая. День Гнева
Всё началось с доноса. Ревнивая соседка, чей муж засматривался на юную Элинор, указала на неё пальцем, обвинив в колдовстве. Мол, навела порчу на корову, та перестала доиться; а ещё шептала что-то над колодцем, отчего вода в нём стала горчить. Времена были такие: одно лишь слово «ведьма» вызывало в людях первобытную ярость и жестокость, прикрытую личиной благочестия. Элинор схватили на рассвете, когда она собирала росу для отцовских снадобий.
Томас находился в своей каморке при тюрьме, точа лезвие секиры, когда дверь распахнулась и в помещение ввалился сэр Эдмунд Кроули, местный судья, худой и костлявый, как сама Смерть, с вечно влажными губами и горящими фанатичным огнём глазами.
– Харгрейв, дело важное, – просипел он. – В городе ведьма. Дочь аптекаря, Элинор Рид. Признания нужно добиться. Церковь требует.
Услышав это имя, Томас уронил точильный камень. Он звякнул о каменный пол, и этот звук отозвался в его душе ледяным эхом.
– Элинор? Это ошибка, сэр. Она… благочестивая христианка. Она не способна на такое.
– Дьявол хитер, Харгрейв! Он прячется под ликом невинности! – Кроули ударил костяшками пальцев по столу. – Твоя задача – вырвать у неё признание. Прояви усердие. Город смотрит на нас.
– Сэр, я не могу, – голос Томаса дрогнул. – Я знаю её. Это лишит меня беспристрастности.
Кроули медленно приблизился, и его лицо исказила уродливая ухмылка.
– Не можешь? Понимаю. Чувства. Жалость. Очень хорошо. Тогда я поручу это дело Малкольму.
Сердце Томаса похолодело. Годрик Малкольм – палач из соседнего графства, чья жестокость была притчей во языцех. Говорили, он получает садистское наслаждение от своей работы, что для него пытки – не средство, а цель. Он растягивал допросы на недели, превращая их в изощрённое театрализованное действо боли.
– Малкольм, как я слышал, привез с собой новые инструменты, – продолжил Кроули с притворной небрежностью. – Что-то с вращающимися лезвиями и крючьями. Он будет рад попрактиковаться. А тебя, Харгрейв, как сообщника и отступника, мы, конечно, отправим на костёр следом за твоей ведьмой. Церковь не потерпит сочувствия к слугам Сатаны.
Угроза была как удар обухом по голове. Отказ означал не просто смерть. Он означал, что Элинор попадет в руки маньяка, который будет мучить её дни напролет, превратив её последние часы в ад на земле. А его собственная казнь станет позорным финалом, вычеркнув всё, чему он служил.
Перед ним стоял невыносимый выбор: стать её мучителем самому или отдать её на поругание чудовищу. Он выбрал меньшее из двух зол. Или, как ему тогда казалось, выбрал.
– Я… я сделаю это, сэр, – выдавил Томас, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног.
– Вот и славно. Не подведи меня.
И вот её привели в камеру предварительного допроса. Каменный мешок с единственной свечой, чадящей под потолком. Томас стоял, прислонившись к стене, стараясь придать своему лицу привычное каменное выражение, когда дверь открылась.
Она вошла, ведомая двумя стражниками. Её платье было порвано, волосы, цвета спелой пшеницы, растрепаны. Но в её глазах не было страха. Была лишь растерянность и глубокая, бездонная печаль. Увидев Томаса, она чуть заметно вздрогнула, и в её взгляде на мгновение мелькнула надежда. Надежда, которая резанула его острее любого ножа.
– Обвиняемая Элинор Рид, – начал Кроули, развалившись в кресле. – Ты обвиняешься в сношениях с дьяволом, наведении порчи и отречении от святой церкви. Признаёшь свою вину?
– Я невиновна, сэр, – её голос был тих, но твёрд. – Я лишь помогала отцу готовить лекарства. Я христианка.
– Лекарства? Или зелья? – Кроули усмехнулся. – Мы найдём правду. Мастер Харгрейв, продемонстрируй обвиняемой серьёзность её положения.
Томас сделал шаг вперёд. Его ноги были ватными. Он чувствовал на себе взгляд Элинор. Взгляд, который знал его душу. Как он мог поднять на неё руку? Но долг… Страх за неё… Судья наблюдает.
– Элинор… – его голос сорвался. Он очистил горло, пытаясь вернуть ему металлическую твердость. – Признавайся. Это облегчит твою участь.
– Я не могу признаться в том, чего не совершала, Томас, – она назвала его по имени, и Кроули поднял бровь. Эта фамильярность была для него лишь подтверждением её греховности.
Палач взял со стола плеть – короткую, из жёсткой кожи, с девятью хвостами. Инструмент его ремесла. Орудие боли, которое он держал тысячу раз. Но сейчас оно жгло ему ладонь, как раскалённое железо.
– Повернись, – скомандовал он, и в его голосе прозвучала чужая, страшная нота.
Элинор медленно повернулась к стене, сжав кулаки. Её плечи напряглись. Томас занёс плеть. В его памяти всплыли картины: они вдвоем бегут по полю, она смеётся, её смех звенит, как колокольчик… Он замахнулся.
Свист рассекаемого воздуха. Резкий хлопок по спине. Она вскрикнула – коротко, сдавленно, и прикусила губу. На её простом платье проступила первая алая полоса.
«Я люблю её», – пронеслось в голове Томаса.
Второй удар. Третий. Он бил механически, отработанным движением, но каждый хлёст отдавался в его собственном сердце мучительной болью. Он видел, как её спина покрывается кровавыми рубцами, как она дрожит, но не плачет, лишь тихо стонет после каждого удара. Он бил её, девушку, которую считал лучше всех на свете, чище утренней росы. Он бил свою мечту, свою любовь, своё будущее.
«Какой же это закон? Какое правосудие?» – эта безумная мысль, как молот, била в его сознание. Он, служитель порядка, пытал невиновную. Где же здесь святость? Где правда?
После десятого удара Кроули поднял руку.
– Довольно на сегодня. Отведите её в камеру. Подумает над своим упорством. Завтра мы продолжим.
Стражники грубо схватили Элинор за руки. Она пошатнулась. Проходя мимо Томаса, она подняла на него глаза. И в них не было ненависти. Было что-то худшее: понимание. И бесконечная, всепрощающая жалость. Она видела его муку. Видела, как он страдает. И это сломало его окончательно.
Когда дверь захлопнулась, Томас рухнул на колени и его вырвало в углу камеры. Он рыдал, бился головой о холодный камень, сжимая в кулаках окровавленную плеть. Он был палачом. Но в тот день он понял, что заслуживает казни больше, чем любой из тех, кого он когда-либо отправлял на виселицу.
Часть Вторая. День ОтчаянияВторой день прошёл в тумане. Томас почти не спал. Призрак Элинор с её израненной спиной и полным прощения взглядом преследовал его. Утром Кроули мимоходом бросил: «Малкольм уже в городе. Интересуется, когда сможет приступить. Говорит, у него есть идея, как работать с женскими пальцами». Эти слова заставили Томаса содрогнуться. Нет. Только не это. Он должен был продолжать. Он был её единственным шансом на относительно быстрый конец.
Её привели в ту же камеру. Она выглядела бледнее, двигалась медленно, с видимой болью. Кроули был доволен.
– Ну что, дитя моё, готова ли ты очистить душу признанием?
– Мне не в чём признаваться, – прошептала она. Её силы были на исходе.
– Ошибаешься. Мастер Харгрейв, сегодня мы будем использовать «Дщепку». Девушке нужно помочь вспомнить о её грехах.
«Дщепка» – это были тиски для сдавливания пальцев. Простой, но чудовищно эффективный инструмент. Томас взял его с полки. Железо было холодным и бездушным.
Он подошёл к Элинор. Их глаза встретились. Он видел в её взгляде мольбу. Не о пощаде, нет. Она уже поняла, что пощады не будет. Она молила его о силе. О том, чтобы он выдержал это, не сломался.
– Дай руку, – сказал он, и его голос был шепотом.
Она медленно, с невероятным усилием, положила свою тонкую, изящную руку с длинными пальцами, умелыми для смешивания трав, в желобок тисков. Томас стал закручивать винт. Первый щелчок. Она вздрогнула. Второй. Её пальцы побелели. Третий. Хруст костей.
Она закричала. Коротко, пронзительно, а потом стиснула зубы, стараясь заглушить стон. Слёзы ручьём потекли по её грязным щекам. Томас смотрел на её искажённое болью лицо и чувствовал, как сходит с ума. Он помнил, как эти же пальцы перебирали струны лютни, как нежно касались его щеки, как собирали цветы.
– Признаёшься? – голос Кроули звучал сладострастно.
– Нет… – выдохнула она.
Винт был закручен ещё на два оборота. Кости фаланг треснули с отчётливым, сухим звуком. Её крик превратился в истошный, животный вопль. Она потеряла сознание, обмякнув в руках стражников.
Томас стоял, не в силах пошевелиться. Он смотрел на её искорёженную руку, на свою руку на винте. Он был не инструментом правосудия. Он был орудием пытки. Мучителем. И он делал это во имя Бога? Какой Бог мог требовать такого?
Её откачали, приведя в чувство. Допрос продолжили. Теперь использовали «испанский сапог» – устройство для дробления голеней. Томас затягивал ремни, он слышал, как скрипит и трещит дерево, сдавливая её ноги. Её крики стали тише, хриплее. Она уже не могла говорить, лишь кивала или мотала головой в ответ на вопросы Кроули. Но упрямо, с поразительным мужеством, она продолжала отрицать свою вину.
И тут Томас заметил нечто странное. Несмотря на ужасные травмы, кровотечение было удивительно скудным. Когда он затягивал ремни «испанского сапога», он видел, как кожа на её голенях должна была бы порваться, но она лишь багровела и отекала, сохраняя целостность. А в её глазах, в самые моменты наивысшей боли, мелькала не просто стойкость, а нечто иное – глубокое, древнее знание, словно она смотрела сквозь боль, в какую-то иную реальность. Однажды, когда Кроули вышел, а стражники отвернулись, Томас уловил её шепот. Не молитву, а странные, гортанные слова, не похожие ни на один язык, который он слышал. И на мгновение ему показалось, что пламя свечи на столе изменило цвет с жёлтого на зловещий изумрудно-зелёный.
В перерывах он оставался с ней наедине под присмотром стражи. Он не мог говорить. Но однажды, подавая ей воду, его пальцы ненадолго коснулись её пальцев. И он почувствовал едва заметное ответное движение. Это был краешек платка, который она вышивала ему в подарок. Это была их тайная клятва в вечном саду. Это было «я помню».
Он понял, что она прощает его. И от этого прощения ему хотелось разорвать свою грудь и вырвать оттуда это чёрное, грешное сердце. Она скрывала от него свои мучения, стараясь не кричать слишком громко, чтобы не причинять ему ещё больше боли. А он, чёрт возьми, он её пытал!
К концу дня Элинор была живым трупом. Она не могла ходить, её уносили на руках. Но она не призналась. Её дух, казалось, был сделан из стали, которую не могли сломать никакие железные орудия.
Томас же был сломан. Вера, которая вела его всю жизнь, рухнула, рассыпалась в прах. Он видел в глазах Кроули не праведный гнев, а садистское удовольствие. Он слышал за дверью толпу, которая уже жаждала зрелища. Людям было нужно кровавое представление, агония, чтобы ощутить своё превосходство и благочестие. Закон превратился в театр жестокости.
Часть Третья. День НенавистиТретий день. Последний акт трагедии. Элинор принесли на допрос на носилках. Она была в бреду, её тело было одним сплошным синяком, губы потрескались, глаза ввалились. Но когда Кроули снова задал свой вопрос, она прошептала: «Невиновна».
Судья разозлился. Его планы рушились. Обычно к третьему дню все ломались. А эта девчонка…
– Харгрейв! Колесование! Покажи ей, что такое настоящая боль!
Томас онемел. Колесование… Он должен был растянуть её тело на специальной раме и железным ломом переломать кости, сустав за суставом. Сделать из человека окровавленную тряпичную куклу. Сделать это с Элинор. Он не мог. Он физически не мог.
– Я… не могу, сэр, – выдавил он.
– Что?! – Кроули вскочил. – Ты отказываешься исполнять свой долг? Может быть, она и тебя околдовала? Может, ты её сообщник? Я позову Малкольма! Он займётся вами обоими!
Эти слова подействовали, как удар хлыста. Угроза была очевидна. Если он откажется, они казнят его вместе с ней. И её страдания окажутся напрасными. Её жертва – бессмысленной. А Малкольм получит две игрушки вместо одной.
Томас посмотрел на Элинор. И в последний раз их взгляды встретились. И в её взгляде он прочитал всё. Любовь. Прощение. И… просьбу. Сделай это. Покончи с этим. Освободи меня.
Это был самый страшный момент в его жизни. Он понял, что её сила иссякла. Она не могла больше терпеть. И её последней надеждой на избавление от мук был… он.
Ненависть, чёрная, как смола, поднялась из глубины его души. Ненависть к Кроули. К церкви, которая допускает такое. К городу, который жаждет зрелища. Ко всему этому миру лжи, жестокости и лицемерия. Ненависть к самому себе за свою слабость, за свою слепоту, за то, что он когда-то поверил в эту чудовищную систему.
С рычанием, в котором смешалась вся его боль, он схватил лом и подошёл к колесу.
– Признавайся, ведьма! – завопил Кроули.
Томас работал. Он делал это с холодной, отточенной яростью. Хруст костей под ломом был ужасен. Он ломал её руки, ноги. Каждый щелчок, каждый хруст отдавался в его черепе. Он не смотрел на её лицо. Он не мог. Он смотрел на свои руки, на лом, на кровь на камнях. Он ненавидел. Ненавидел так, как никогда прежде. Он ненавидел весь мир, который довёл его до этого. Он ненавидел Бога, который допустил это. Он ненавидел Закон, которому служил.
Элинор не кричала. Она уже не могла. Лишь тихий, прерывистый стон вырывался из её груди в момент каждого перелома. И когда он закончил, на его лице не было ни капли человеческого. Он стал воплощением той ненависти, что пожирала его изнутри.
Кроули, наконец, остался доволен. Признания не было, но зрелище было столь впечатляющим, что толпа на площади определённо получит своё.
– Готовьте её к казни. На завтра. Огласите приговор: сожжение на костре.
Часть Четвёртая. Казнь и ОткровениеУтро казни встретило город неестественной темнотой. Свинцовые тучи нависли так низко, что, казалось, цеплялись за шпили соборов. Воздух был тяжёл и неподвижен, пахнул грозой и прелой листвой. Ни одна птица не пела. Площадь перед собором была запружена народом, но на этот раз возбуждение толпы было смешано с тревогой. Природа будто затаила дыхание.
Томаса в его официальном плаще и с капюшоном на голове провели через толпу. Он должен был совершить казнь. Это была его работа. Его последняя, самая страшная работа.
Элинор привезли на телеге. Её, сломанную, окровавленную, уже полумёртвую, волоком подняли на костёр и привязали к столбу. Её голова безвольно упала на грудь. И тогда Томас, а вместе с ним и все собравшиеся, увидели это.
С северо-востока, от леса, надвинулась чёрная, живая туча. Это были вороны. Сотни, тысячи чёрных птиц. Они с громким карканьем уселись на крыши окружающих домов, на карнизы собора, заполонили всё свободное пространство, уставившись на костёр своими блестящими бусинками-глазами. Воздух наполнился зловещим шумом их крыльев и хриплыми криками.
Толпа зашепталась, заволновалась. Даже Кроули, стоявший на трибуне, выглядел встревоженным.
Священник, стараясь перекричать карканье, зачитал приговор. Его голос дрожал. Он торопливо закончил и отступил.
Кроули с трибуны, побледнев, кивнул Томасу.
Томас подошёл к костру с факелом в руке. Он поднял голову и посмотрел на Элинор. В этот момент она, словно почувствовав его взгляд, подняла глаза. И он увидел в них не боль, не страх, а нечто иное. Покой. И любовь. И… силу. Древнюю, нечеловеческую силу. И тогда он всё понял. Она и правда была ведьмой. Не той, о которых кричали в страхе и ненависти священники. Она была чем-то иным. Дочерью древней крови, хранительницей знаний, которые церковь стремилась уничтожить. Её стойкость, её странные шёпоты, вороны… Всё это было правдой.
Он понял, что должен сделать. Он не мог позволить огню мучить её. Он не мог допустить, чтобы она горела заживо. Он вспомнил старую, тёмную милость, которую палачи иногда оказывали самым отчаявшимся: «милосердная петля». Но как? Её тело было привязано. И тогда он вспомнил о другом способе. Быстром и безжалостном.
Он поднёс факел к основанию костра. Солома вспыхнула с сухим треском. Пламя рванулось вверх. Толпа завопила, но её крики потонули в оглушительном хоре воронья, который стал пронзительным, почти человеческим.
В этот момент с небес обрушилась стена воды. Ливень был яростным, библейским. Но странное дело – он не гасил костёр. Пламя, вместо того чтобы потухнуть, стало цветным – синим, зелёным, багровым, оно било вверх с шипением и треском, игнорируя потоки воды.
Томас отступил на шаг, выхватил из-под плаща небольшой, отточенный кинжал – свой личный, не служебный. И быстрым, точным движением, пока дым и странное пламя скрывали его от большинства зрителей, он метнул его. Лезвие вонзилось Элинор прямо в сердце.
Её тело дёрнулось один раз, и затем наступила полная расслабленность. Её страданиям пришёл конец.
И тогда случилось последнее. В момент, когда её душа покинула тело, тысячи воронов разом взмыли в небо с оглушительным криком, закрыв собой и без того тёмное небо. Ветер, которого не было секунду назад, ударил с такой силой, что срывал с людей шляпы, опрокидывал ларьки. А из пылающего, разноцветного костра вырвался один-единственный ослепительно-белый огонь, который, извиваясь, как змея, устремился к трибуне и ударил в самого судью Кроули.
Судья не закричал. Он просто замер, его глаза выкатились от ужаса, а рот открылся в беззвучном вопле. Через секунду он рухнул замертво, на его лице застыла маска нечеловеческого страха. Белый огонь исчез так же быстро, как и появился.
На площади воцарилась паника. Люди в ужасе бросились прочь, давя друг друга. Костёр догорал под проливным дождём, теперь уже обычным, быстро превращаясь в кучу чёрного, мокрого пепла.
Томас стоял и смотрел, как горит его любовь, его невеста, его Элинор. Он смотрел, как её плоть обращается в пепел. Он видел гибель Кроули. И он понял окончательно. Она не была невинной жертвой. Она была могущественной колдуньей, которая до последнего мига сдерживала свою силу, чтобы не навредить ему, и которая обрушила свою посмертную месть на истинного виновника её страданий. Она сберегла для него, своего палача, лишь прощение.
Он верил в Закон. Но теперь в нём не было ему места. Его вера сгорела вместе с Элинор на этом проклятом костре, и он остался один на один с ужасающей правдой и всепоглощающей ненавистью ко всему миру.
Эпилог. В ТавернеРассказ Томаса оборвался. В таверне стояла гробовая тишина. Даже привыкший ко всему Джосайя не мог вымолвить ни слова. Он смотрел на палача, на этого могучего человека, сжавшегося в комок боли, и видел не служителя закона, а самого потерянного и несчастного грешника на свете, ставшего орудием в борьбе сил, которых он даже не понимал.
– И её душа… – прошептал наконец трактирщик. – Она была…
– Она была той, кого они называли ведьмой, – перебил его Томас, поднимаясь. Его лицо снова стало каменным. Но теперь это была маска, скрывающая не силу, а вечную, незаживающую рану. – И она оказалась сильнее их всех. Она улетела в иной мир, оставив после себя бурю и смерть. А я… я остался здесь. Со своей ненавистью. Со своей разбитой верой. С знанием, что я пытал и убил самое сильное и чистое существо, которое когда-либо знал.
Он бросил на стол несколько монет, хотя ничего не пил, и, не глядя на Джосайю, направился к выходу. Дверь таверны захлопнулась за ним, и старый бармен долго ещё смотрел на пустой стол, словно пытаясь разглядеть в потёмках призрак той девушки с глазами, полными древней силы, и того палача, чьё сердце разбилось вместе с ней на площади, в дыму костра, под карканье воронов и ярость стихии.
Снаружи пошёл дождь. Холодный, пронизывающий, английский дождь. Но Томас его не чувствовал. Он шёл по пустынным улицам, и в его ушах стоял не шум дождя, а тихий, прощальный шёпот: «Я люблю тебя, Томас». И он знал, что до конца своих дней этот шёпот будет для него и благословением, и проклятием. И он нёс в своей душе не только боль утраты, но и леденящий ужас от прикосновения к тому тёмному и настоящему, что скрывалось за пеленой привычного мира.


