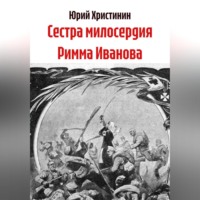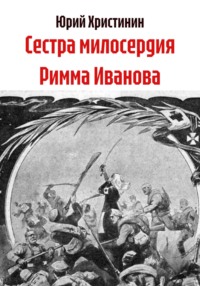Полная версия
Ставропольский «дядя Гиляй»: история Ставрополья в художественной и документальной публицистике Юрия Христинина
– В чем же дело, давайте сбросимся! – воскликнул Москаленко. – Бог с ним, с тем золотом, речь о судьбах человеческих идет. Я вот сам, к примеру, семь золотых припрятал. Но ничего, дело наживное, потом еще подсоберу. Давайте, Генрих Иванович, я сам с матросами поговорю.
Вечером Пяну, внимательно выслушав просьбу команды «Ставрополя», задумчиво и долго смотрел на положенную у его ног небольшую кучку золотых и серебряных монет. Потом неожиданно спросил, повернувшись к Алексееву:
– Твоя блат есть?
– Он, видимо, интересуется, имеешь ли ты брата, – попытался расшифровать странный вопрос капитан. – Зачем ему это?
И Грюнфильд сам ответил за помощника:
– Имеет он брата, Пяну. Старше его лет на пять.
– Твоя тоже белет с блата золотой за доблый дело?
– Ну уж! – возмутился Алексеев от одного подобного предположения. – Еще чего старик выдумал! Разве с брата за услугу деньги берут?
Пяну снисходительно улыбнулся и, кивнув понимающе головой, отодвинул осторожно деньги от себя подальше. Потом встал и торжественно произнес:
– Чавчу и лусский, – он ткнул морщинистой рукой в грудь сначала себя, а потом Алексеева, – и есть блатья. Моя – твоя блат, твоя – моя блат! Моя не белет от блат деньги. Моя дает блата собак, дает налты, дает еда, дает пловодник. А золото моя не белет…
Алексеев порывисто сделал шаг вперед и обнял старика, который был на две головы ниже его самого:
– Спасибо тебе, брат! Огромнейшее спасибо!
И все чукчи, как завороженные, смотрели на эту необычную сцену. Никогда еще ни один белый не обнимал ни одного чукчу, не целовал его, не называл своим братом!
…Провожали маленькую экспедицию торжественно, с троекратным ружейным залпом.
– Бог вам в помощь, друзья, – сказал на прощание краткую речь Грюнфильд. – Думаю, что придет время – еще встретимся. У русских говорят: мир тесен…
Исчезли в мгновение ока в снежном тумане быстрые собачьи упряжки, затихли вдали звонкие крики проводников. И, смахнув с ресниц налипший снег, капитан повернулся к Алексееву:
– Скоро уж и подвижка льда, надо полагать, начнется. Весною вовсю пахнет. Надо бы нам начинать готовиться в обратный путь.
«Мы честно выполнили поставленную перед нами задачу, – записал тогда капитан в рейсовом отчете. – Думаю, что, если не сейчас, то впоследствии не только команда, но и морские власти Норвегии будут признательны их российским коллегам за оказанную «Мод» бескорыстную помощь, более коей сделать мы уже не в силах».
***
Как зачарованные слушали матросы удивительный рассказ радиотелеграфиста.
– Да, – вздохнул во время одной из пауз Рощин, – вон она, паете, как закончилась эта история.
И, конечно, ни Рощин, ни сам Целярицкий не могли даже предполагать тогда, что придет время, минут годы, и история эта получит свое продолжение. Какое именно?
В книге В. Г. Гниловского «Занимательное краеведение» есть несколько строк, рассказывающих об этом. Вот они.
«В 1928 году в девятый раз «Ставрополь» отправился в колымский рейс и прошел мимо места своей исторической стоянки. А годом раньше Амундсен посетил Владивосток, чтобы еще раз выразить свою благодарность морякам «Ставрополя». На владивостокском вокзале к Амундсену подошел советский моряк и заговорил с ним по-английски. Моряк был не кто иной, как тот самый радист со «Ставрополя», который в памятную зимовку в Ледовитом океане сконструировал знаменитое колесо для связи с Америкой.
– Помните ли вы «Ставрополь» и русских моряков, оказавших вам помощь в 1919 году, и что передал вам тогда о колесе капитан Вистинг?
Амундсен, вспомнив о случае с колесом, обрадованно заулыбался и ответил, что Вистинг ему все рассказал.
– Я очень рад, – сказал в заключение Амундсен, – что мне лично удалось встретить и поблагодарить в вашем лице экипаж «Ставрополя», оказавшего мне неоценимые услуги в 1919 году.
Амундсен на прощанье крепко пожал руку моряку. Ни советский радист, ни великий норвежец не знали, что это была их последняя встреча. Через год Руаль Амундсен погиб при поисках полярной экспедиции Нобиля…
Так было потом. Но тогда в тесном кубрике «Ставрополя» никто об этом ничего не знал, да и знать не мог.
***
Некоторое время после рассказа Целярицкого все молчали. А потом вдруг кто–то сказал, поглядев на притихшего Москаленко:
– Да, боцман, мы тебя человеком считали. А ты… такую невесту упустил!
– Все он правильно рассказал, Володька-то. А вот насчет невесты, этой самой Рану, и меня тоже – приврал, черт этакий!
– Вот те крест святой! – под общий хохот торжественно перекрестился Целярицкий. – Чем хотите, братишки, поклянусь: все так и было…
Снова Цзян
Прибывший на джонке полуголый китаец доставил с берега записку из управления портом, в которой сообщалось о том, что завтра поутру на борт пожалует с визитом уже хорошо знакомый команде Цзян. Капитан, ознакомившись с этой вестью, вызвал к себе кока Корчагина:
– Вот что, Владимир Васильевич, – сказал он, – большой гость в нашу сторону движется. В другое время руки бы ему не подал, но в нашем положении друзей выбирать не приходится. Не мешало бы сообразить на завтрак что-нибудь более или менее китайское, из риса, к примеру. Несколько килограммов у нас найдется? Вдруг, того и гляди, китаец растрогается да что-нибудь хорошее для нас сделает, какое-нибудь послабление в режиме. Кстати, как идет торговля с лодками?
– Слава богу, Генрих Иванович, пока ничего, чтоб не сглазить. Спичек у нас с Колымы осталось много, с голоду, если так и дальше пойдет, помереть не должны…
На ужин команде выдали подгоревшую овсяную кашу со свининой.
– Корчагин занят, – пояснил буфетчик Матвеев. – Ему сейчас не до вашей поганой каши. Китайцу завтрак готовит. Всю ночь, говорит, будет работать.
И не зря старался Корчагин. Когда утром жирного Цзяна усадили за стол, перед участниками завтрака появились какие-то поистине сказочные блюда! К отварному рису было подано восемь самых удивительных и непохожих друг на друга соусов. Особенно хорош был один из них под названием «кэрри». На его приготовление кок убухал все более чем скромные наличные запасы гвоздики, красного перца, мускатного ореха и кардамона.
Цзян восторженно щурил глаза, делаясь от этого похожим на большого домашнего кота, которого сытно накормили, а теперь в придачу ласково гладят по спине. От ложки он отказался, достал из кармана предусмотрительно привезенные с собой палочки.
– Вери гуд! – громко хвалил он произведения Корчагина. – Ошень, ошень карашо!
Но главное свое внимание, надо сказать, китаец уделил все-таки не еде, а поданной к столу в пузатом и потном большом хрустальном графине водке. Он то и дело подливал смирновскую в свою рюмку и пил с видимым наслаждением, довольно быстро хмелея. Захмелев, Цзян попытался «по-отечески» выговорить капитану за незаконные торговые связи с местным населением, но, начав, быстро забыл о своих намерениях, едва лишь ему самому было преподнесено несколько коробок спичек, завернутых в папиросную бумагу.
– Сейчас комендант порта уехал в Цзинань по делам, – сказал он неожиданно, – и пробудет там очень долго. А главным в Чифу остался я! И я разрешаю русским начальникам один раз в неделю, в воскресенье, съезжать на берег. Только в городе надо вести себя очень и очень хорошо! Понимаете меня?
– Завтра как раз воскресенье, – великодушно добавил Цзян. – Вы можете съехать хоть всей командой, а я дам команду в гостиницу на берегу, чтобы вас приняли и разместили как следует!
Трудно сказать, какую радость испытали моряки при этих словах чиновника. Для того, кто долго плавает, нет большего наслаждения, чем снова ощутить, после долгих недель и месяцев, проведенных в море, под ногами твердую и надежную почву вместо зыбкой палубы.
Грюнфильд с чувством пожал руку китайцу, тепло поблагодарил его. А чиновник делался с каждой минутой все щедрее и щедрее.
– Я пришлю к вам к шести вечера свой катер, – пообещал он. – Вы сможете наведаться в клуб моряков, выпить виски, побаловаться с хорошенькими девочками. Там найдут их на все вкусы – от японок до русских. Весело и совсем недорого! – расхохотался Цзян, наполнив рюмку вновь. – Вам не придется жаловаться на наших красавиц, господа русские моряки!
…Матросы не успели еще извлечь из своих сундучков парадные форменки, как на борт «Ставрополя» явился еще один гость – это был Лаврентьев. Свежевыбритый, пахнущий одеколоном, он обнял капитана.
– Рад видеть вас сегодня в добром здравии и хорошем настроении, – просто сказал он. – Вижу, что с питанием у вас дела несколько наладились. Китайцы за спички, самосад и водку отдадут не только что украденного поросенка, но даже и папу с мамой в придачу.
Алексей Алексеевич засмеялся, довольный своей осведомленностью.
– Что верно, то, пожалуй, верно, – согласился капитан. – С мясом и водой у нас сейчас полный порядок. Вот с овощами – беда, по-прежнему нет, а китайцы не привозят. Команду кормим бульонами даже без картошки.
– А ведь я как раз и приехал, чтобы оказать вам небольшое содействие именно в этом вопросе, – заулыбался Лаврентьев. – Помните, мы ведь как-то на эту тему уже говорили, и я пообещал вам подыскать посредника на предмет закупки овощей? Так вот: я его нашел. Но… есть ли у вас деньги, господа?
– С деньгами плохо, – признался откровенно Грюнфильд. – В рублях около тысячи, а в долларах и фунтах – почти совсем ничего. Юаней же, как говорится, и вообще кот наплакал.
– Давайте же мне поскорее эти ваши доллары, юани и фунты, – решительно сказал гость. – Все давайте. В таком случае завтра вы получите на них картофель и зелень. Посредник, скажу вам правду, ждет меня уже сейчас на берегу.
Скромно выслушав благодарность капитана и положив в карман деньги, гость достал блокнот и вырвал из него листок бумаги.
– Позвольте написать расписку, – сказал он. Но Грюнфильд остановил его.
– К чему эти условности, Алексей Алексеевич? – вздохнул он. – Наша с вами дружба стоит намного дороже всех этих юаней и долларов, и я не допускаю даже мысли, что вы можете употребить их без пользы для нас. Да и, кроме всего прочего, что мы сможем сделать и в худшем случае с вашей распиской? Ровным счетом ничего. Само небо послало вас нам, дорогой Алексей Алексеевич!
Лаврентьев молча наклонил седую голову, как наклоняет ее человек, принимающий давно заслуженную им благодарность…
После его отъезда ликование на судне приняло поистине всеобщий размах. По поручению Копкевича боцман составил список желающих съехать завтра на берег. Оказалось, желают все до единого!
– Придется все-таки человек шесть-семь оставить, – сказал капитан Шмидту. – Для порядка, конечно, для проформы, никак не более. Вы сами-то, Август Оттович, поедете?
– Как вы, не знаю, – неторопливо ответил второй помощник. – А я, Генрих Иванович, не поеду.
– Почему же, дорогой мой? – изумился от всего сердца Грюнфильд. – Столько времени без суши и не поедете. Я – капитан, мне положено остаться на борту. А вы бы могли немножко развлечься.
– Нет, Генрих Иванович, – упрямо тряхнул головой Шмидт, – и не уговаривайте, не поеду. Уж больно, доложу я вам, не понравился мне разговор с этим самым Цзяном. С чего это он нам такую честь оказывает? Откуда любовь такая?
– Право же, Август Оттович, – досадливо поморщился капитан, – вы с Копкевичем во всех и всюду видите нечто подозрительное! Просто-напросто водка развязала китайцу язык, и он решил как-то нас облагодетельствовать. Ежели вы твердо решили не съезжать на берег, то тогда оставайтесь за старшего, а я с удовольствием проведу вечер в клубе моряков.
– Хорошо, – кивнул согласно Шмидт. – Только я попрошу оставить на борту не менее дюжины матросов.
Грюнфильд удивленно посмотрел на него:
– Уверяю вас, Август Оттович, что подобная мера предосторожности совершенно излишняя. Впрочем, береженого бог бережет. Будь по-вашему…
Тревожная ночь
Ночь с субботы на воскресенье выдалась на редкость тихой и очаровательной. Абсолютный штиль успокоил море, сделав его ласковым и приветливым. Угомонились на берегу голосистые, шумливые китайцы, прижались к причалам яркие джонки.
Многие матросы приспособились на своих сундучках писать письма родным и близким в Россию, которые надеялись завтра в городе сдать на почту. Первое в жизни письмо написал домой, в Одессу, печатными буквами кочегар Кожемякин: от нечего делать кто–то выучил его читать и писать. Целярицкий устроил для матросов нечто вроде историко-географического кружка, а Шмидт в свободное время занимался с ними корабельной теорией.
Запечатал в серый конверт свое послание во Владивосток и Иван Москаленко. Откинул назад голову, и невольно задумался. Вспомнился вдруг с поражающей отчетливостью Приморский бульвар, вспомнилась красивая девушка Ксюша, которой он говорит: «До завтра!». И она отвечает ему: «До завтра, Вань!..» Как же давно все это было, четыре с лишним месяца назад! Он долго еще колебался, а потом все-таки решился: выпросил у радиотелеграфиста листок красивой глянцевитой бумаги. Тот удивленно уставил глаза на боцмана:
– У тебя же, кроме матери, писать больше некому.
– Да так, – смутился Москаленко, – есть еще одно дело. Человеку одному, понимаешь, черкнуть хочу…
Боцман смущенно закашлялся и поспешно вышел из радиорубки: любопытный какой радист этот!
Закрыв огромной ладонью листок от глаз любопытных, он надписал на конверте адрес:
«Во Владивосток
в лавку Фрола Прокопыча Берендеева
его дочери Ксане в собственные руки».
И вдруг чернильница, стоявшая на крышке матросского сундучка, подпрыгнула, перевернулась в воздухе и покатилась вниз, щедро заливая фиолетовым своим содержимым и только что надписанный конверт, и почти новую белую холщовую робу автора несостоявшегося письма. Все в кубрике мгновенно вскочили на ноги: корпус судна дрожал, словно его лихорадило, и кренился поочередно на оба борта. «Штиль ведь на море, – мелькнуло в голове боцмана, – что за диво такое!»
Но особенно раздумывать было некогда: на палубе раздались тревожные голоса, все, словно горох из прорванного мешка, враз выбежали наверх. Еще пять минут назад совершенно спокойная вода за бортом кипела, словно в котле. На горизонте, недавно темном, мерцала тревожным заревом какая-то светлая полоска, все время меняющаяся в размерах.
На ходу застегивая китель, на мостик взбежал капитан:
– Всем по местам!
Обратился к Копкевичу:
– Не везет нам, да и только. Кажется, моретрясение. С рейда нам не уйти – машины застопорены, топки погашены. Якоря, полагаю, поднимать не следует, иначе может выбросить на берег. Будем надеяться, что, на наше с вами счастье, новых толчков не последует.
Но еще два, правда, не таких сильных, толчка морякам все-таки пришлось пережить. Сдерживаемое якорными цепями судно, то проваливалось по самые верхушки мачт между исполинскими волнами, то вздымалось на их гребнях, словно щепка. Но мало-помалу море успокоилось, таинственная полоска на горизонте погасла. Грюнфильд, облегченно вздохнув, сразу же ушел к себе в каюту, а Шмидт, видя явственный испуг на многих лицах, спустился в кубрик к матросам – рассказать об этом удивительном природном явлении.
Но, едва только он начал говорить о землетрясениях и моретрясениях, у него вдруг объявился «содокладчик» в лице конопатого кочегара второго класса Тимофея Шимко.
– Это что! – пренебрежительно воскликнул он, подняв маленькие круглые глаза к потолку. – Я лично и не такое диво дивное видел, братишки. Сегодня так, пустяки, и бояться было нечего.
– Ишь ты, храбрец какой выискался! – раздался иронический голос. – Тебе там, окромя твоего антрацита, ничего просто не видно. Ты и море-то, надо понимать, нечасто видишь!
Кочегар обиженно шмыгнул носом:
– И вовсе не в энтом дело, – ответил он деловито. – А вот только в восьмом году служил я действительную на крейсере «Цесаревич» нашего Российского военного флота. Мы тогда в самый раз в Италию ходили. И там, в Мессинском проливе, такое же вот безобразие и приключилось. Так город ихний, Мессина называется, за минуту развалило! Наша эскадра, значит, в полном своем составе – линкор «Слава», мы да еще крейсера «Богатырь» и «Адмирал Макаров» – туды сразу. Сам я людей откапывал из земли. Потянешь за ногу, ан глядь – а нога-то того…
– Чего «того»?
– Того самого. Без человека-то нога! Сама по себе нога-то…
Глаза у кочегара округлились еще больше:
– Денно и нощно работали, братишки. Вот те крест, не вру. Много людей откопали, и живых тоже много. Но мертвых больше. Раз во сто покойников больше было, чем живых.
– Заливает, – решительно вмешался в разговор кочегар Стороженко. – Я его, братцы, хорошо знаю. Он любит поперед себя иногда тюльку прогнать! Нашли, право слово, кого слушать-то! Пущай уж лучше Август Оттович нам все по правде расскажет.
Но Шмидт и сам с нескрываемым интересом слушал сумбурный рассказ Шимко.
– Погодите, право, – обратился он к матросам. – И ничего, доложу я вам, Тимофей поперед себя не гонит. Коли он служил в девятьсот восьмом году на «Цесаревиче», то каждое его слово – чистая правда. «Цесаревич», «Слава», «Адмирал Макаров» и «Богатырь» тогда действительно помогали несколько дней итальянцам в ликвидации последствий землетрясения. За сорок секунд не стало города Мессины, из двух тысяч уцелело всего около трех десятков домов. И на помощь горожанам пришли наши моряки. Они работали, точно, день и ночь, как самые настоящие герои, как могут работать россияне!
Он встал и с чувством пожал кочегару руку:
– Не знал, что вы с «Цесаревича». Примите по этому поводу мои искренние поздравления и восхищение.
Стороженко, всего минуту назад столь агрессивно нападавший на своего коллегу, хлопнул теперь его по плечу:
– Вот так дело! Я ведь знал, что ты с «Цесаревича». А что такой герой, извини, Тимофей, не думал. Ну-ка, друг, закури!
И он сунул в руки кочегару огромную фанерную табакерку.
Вдохновленный общим признанием, Шимко вдруг раскрыл сундучок и достал с самого дна бережно сложенную вчетверо газету.
– Вот, – торжествующе сказал он. – В этой самой газете про нас написано!
Михаил Иванович нацепил на нос очки.
– Да ведь тут, паете, ничего не понять нельзя. Не по-нашему написано.
Шмидт взял газету в руки:
– Это «Эль Джорно», неаполитанская газета за 20 декабря 1908 года.
Он читал вслух, запинаясь и останавливаясь, а потом переводил.
– Писательница Матильда Серао рассказывает тут обо всем… Сначала о землетрясении пишет. А потом… пишет, – что «появились неведомые люди, в глазах их светилось сострадание и сочувствие. Эти люди пришли с моря… Они были моряками: офицерами и простыми матросами, сынами иного народа, детьми иной земли. И они были первыми, кто пришел на помощь страдающей Мессине. Спасая заживо погребенных, эти люди так боялись причинить им боль, что разбирали камни не кирками, а руками, сдирая с них кожу, обагряя камни своей кровью…»
Довольно скоро о моретрясении забыли, начали говорить о другом, и Шмидт по пути к себе постучал в капитанскую каюту.
– Не спите, Генрих Иванович?
– Нет, заходите, ради всего святого.
С минуту посидели молча. Потом капитан встал, вынул из настенного шкафчика бутылку «Мадеры», разлил по рюмкам:
– Давайте за то, что мы здесь уже пережили. Если бы толчки оказались посильней – беда нам с погашенными топками. Ну, с богом!
Выпив, снова молчали.
– Так вы завтра на берег едете? – поинтересовался Шмидт на прощание.
– Решил съездить, Август Оттович, коли уж вы на судне остаетесь. Побудьте, батенька, сами за старшего. А в следующий раз – ваш черед, я останусь.
Шмидт молча кивнул и, натянув на самые глаза потрепанную фуражку, ступил на порог.
На берегу
Едва только моряки «Ставрополя» сошли на берег, навстречу им быстрыми шагами направился человек в белом безрукавом костюме и тропическом пробковом шлеме.
– Смотрите, Генрих Иванович, – Копкевич тихо тронул капитана за рукав, – никак сам Лаврентьев нас встречать изволит?
Человек, подойдя поближе, и вправду оказался Лаврентьевым. Сердечно раскланявшись со всеми и осведомившись о здоровье, он скороговоркой доложил Грюнфильду:
– Деньги на овощи переданы посреднику, все будет в полном порядке. Узнав о том, что вам разрешен выход в город, я решил предложить вам свои услуги в качестве гида. Матросы могут идти в гостиницу, места я заказал. А вас, господа, приглашаю совершить небольшую прогулку по городу. Я уже кое-что узнал здесь, и вполне могу поделиться этими знаниями с вами. Чифу – совсем крохотный, и вы быстро его запомните. А вечером нас ждет к себе наш общий друг Цзян. Вы ведь не пробовали еще настоящего китайского обеда? Нет? О, тогда все складывается как нельзя более великолепно. Но… – он окинул присутствующих быстрым взглядом. – Но почему вас так мало, господа? А где господин Шмидт? Или остальные приедут вторым рейсом?
– Остальных вместе с Августом Оттовичем мы оставили для охраны судна, – пояснил Грюнфильд. – На всякий, как говорится, случай…
– О, господа, ведь это совершенно излишняя предосторожность! – воскликнул, даже переменившись от огорчения в лице, Лаврентьев. – Давайте пошлем за ними катер. Поверьте совести: китайские морские пираты – это всего лишь выдумка богатых на фантазии моряков! Я очень советую привезти на берег хотя бы еще десяток матросов, мы ведь можем из-за пустых подозрений и ненужных предосторожностей лишить их прекрасного отдыха. А силы людей – вещь очень и очень ценная. Я… – Лаврентьев суетился, не договаривал предложения до конца и почему-то умоляюще смотрел в глаза капитану. – Я думаю, что морякам надо съехать на берег, – закончил он тихо.
На помощь заколебавшемуся было Грюнфильду, довольно бесцеремонно перебив не в меру словоохотливого соотечественника, пришел Копкевич.
– Это не вы наших матросов лишаете удовольствия, – безапелляционно заявил он, – это мы их лишаем, Алексей Алексеевич. И мы делаем это данной нам властью без каких-либо угрызений совести. Так что всякие разговоры на подобную тему считаю излишними.
Грюнфильд сконфуженно и как-то виновато улыбнулся:
– Вы уж не сердитесь, Алексей Алексеевич. Мой помощник – человек прямолинейный.
Лаврентьев было нахмурил сердито брови, но сдержался – вновь на лице его появилась вежливая улыбка, хотя гладко выбритые щеки и покрылись красными пятнами.
– Вы совершенно правы, господа, – сказал он. – А я напротив: сунулся явно не в свое дело, за что и получил вполне заслуженный щелчок по носу. Но, честное слово, я не сержусь за него на господина Копкевича!
И он повел их по узкой улочке к центральной части города, мимо возвышающегося среди безалаберных некрасивых построек довольно стройного двухэтажного особняка.
– Комендатура, что ли? – спросил Грюнфильд, но тотчас осекся и конфузливо замолчал, углядев сидящих прямо на подоконниках размалеванных полуодетых девиц с кислыми минами на лицах. Они с явным интересом и нескрываемой надеждой смотрели на приближающихся русских.
– О, – засмеялся Лаврентьев, – вы, милостивый государь, почти угадали! Это, конечно, комендатура, но несколько иного рода. Я бы сказал, комендатура нравов… Здесь, действительно, как и положено, отмечаются все прибывающие в порт матросы. Сейчас у девушек – отдых: жара, как видите, несусветная. А вот к вечеру, как только матросики налижутся по кабакам, так и повалят сюда, словно мухи на мед. Манящий свет красного фонаря, знаете ли, со всех концов городка заметен. Но пока – сами понимаете…
Грюнфильду ничего не оставалось, как только удовлетворенно кивнуть головой. И, желая сменить тему разговора, он указал на выходящего из дверей тощего как спичка пошатывающегося китайца.
– Кстати, о кабаках, господин Лаврентьев, – сказал он. – Может быть, мы заглянем туда, откуда только что вышел сей красавец? Пить очень уж хочется. По бокалу холодного шампанского, полагаю, нам нисколько не может помешать, а?
И снова Лаврентьев улыбнулся:
– Я вновь вынужден вас разочаровать, господин капитан. Это не чайхана, а курильня, в которой туземцы курят опий. Вы, разумеется, об этом наслышаны. Но, честно говоря, я бы советовал вам заглянуть сюда хотя бы на минуту…
Моряки прошли под мрачными сводами длинного коридора в довольно просторную невысокую комнату, битком набитую лежащими прямо на полу людьми, в основном мужчинами. Все они были страшно худы, с высохшими и сморщенными, как смятый пергамент, лицами. Трудно было определить их возраст – все они, казалось, приближались годам к семидесяти. Несколько женщин, оказавшихся в этом вертепе, возлежали в самых неприличных позах, от чего казались еще более омерзительными, чем представители «сильной» половины человечества.
– Почему здесь одни только старики? – поинтересовался вполголоса капитан. – Почему, Алексей Алексеевич?