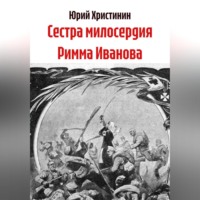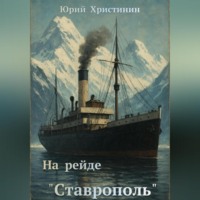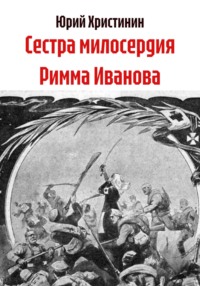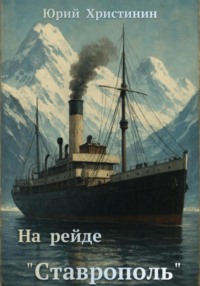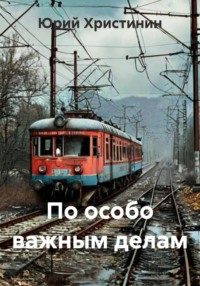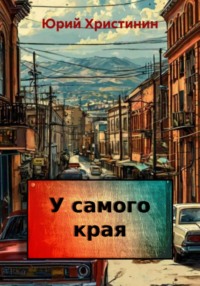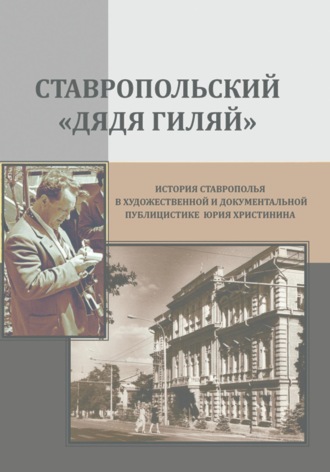
Полная версия
Ставропольский «дядя Гиляй»: история Ставрополья в художественной и документальной публицистике Юрия Христинина

Юрий Христинин
Ставропольский "дядя Гиляй": история Ставрополья в художественной и документальной публицистике Юрия Христинина
Юрий Николаевич Христинин
Современная Википедия в ответ на эту фамилию сразу же выдает несколько страниц убористым шрифтом – вначале «российский журналист, публицист, краевед и писатель», годы жизни 1942 – 2008, затем сравнительно короткая биография. А дальше – длиннющий перечень журналистских расследований, которые завершались очерками в центральных и местных газетах, а также книгами и документальными фильмами…
Юрий Николаевич Христинин родился 14 февраля 1942 года в семье военного. Отец был штурманом-бомбардировщиком, мать – дочь священника, невинно расстрелянного в 1933 году, на пике репрессий духовенства на Северном Кавказе. Так сложилось, что духовным развитием Юрия занимались преимущественно бабушка и тётя – Ольга Николаевна Бернасовская, заслуженный учитель РСФСР, в прошлом заведующая ГорОНО г. Невинномысска, директор школы №6, человек удивительной скромности и глубочайшей культуры. Детство Юрий провел в кубанской станице Беломечётской, где жила вся многочисленная семья по линии матери. От бабушки – представительницы потомственного священнического рода, получившей образование в Петербурге и преподававшей в начале века русский язык и литературу в Тифлисском епархиальном Иоанникиевском женском училище, Юрий унаследовал врождённую грамотность, любовь к чтению, да и сами книги, которые, несмотря на все тяготы времени, кочевали с семьей по всему Кавказу. Чтение формировало разносторонние интересы Юрия, но более всего он мечтал стать путешественником, странствовать по городам и весям, быть первопроходцем…
С переездом семьи в Невинномысск Юрий поступает в школу. Именно там он начинает писать свои первые юнкоровские заметки в школьную и городскую газеты. Удивительный факт: при том, что литература и русский язык давались мальчику легко и были любимыми предметами, оценки по ним были едва ли не удовлетворительными – познания подростка уязвляли самолюбие учительницы, потому как серьезно превышали ее личный профессиональный уровень.
После окончания школы Юрий пошел работать монтажником электромонтажного управления и сразу же стал внештатным корреспондентом «Невинномысского рабочего». Можно сказать, что профессия его нашла в самом начале взрослой жизни – в 19 лет он стал корреспондентом городской газеты. Впрочем, ненадолго.
В 1962 году пришла повестка из военкомата, и его отправили служить в Группу советских войск в Германии. Юрий не бросал «марать бумагу» даже во время службы: за активную и плодотворную военкоровскую деятельность он был отмечен благодарностью Главкома ГСВГ генерала армии И. И. Якубовского. Надо сказать, что с армейской службы у журналиста сохранилось какое-то особое отношение к военным – будь то ветераны Великой Отечественной, или обычные ребята, прошедшие афганскую или чеченскую войну, генералы или простые солдаты. Забегая вперед, скажем, что через несколько лет по инициативе Юрия и под его патронажем в «Ставропольской правде» возникнет рубрика «Факел» объемом на всю газетную полосу, ее героями станут именно они – люди в военной форме.
…Уже спустя многие годы, в начале 90-х, журналист Александр Загайнов возвращался как-то с Христининым из командировки: «…Радиоприемник в нашем «уазике» громко транслировал репортаж о крахе Берлинской стены. Юрий Николаевич отчего-то погрустнел и неожиданно вспомнил: «Ты знаешь, Саша, а я ведь эту стену строил…». От моих предложений продолжить воспоминания тогда он наотрез отказался, мудро заметив: «Вот подожди, пройдет еще лет 30, и увидишь, какие стены появятся там, в Европе. Да и на наших границах… И их строители тоже будут верить, как и мы тогда в 62-м, что делают очень нужное, почти святое дело». Я ему тогда не поверил, а вот теперь почему-то вспомнил эти слова. Ведь он оказался в итоге прав: Берлинскую тогда растащили на сувениры, а сколько еще новых стен понастроили! И у них, в Европе и Америке, и на наших границах…»1.
Непродолжительное время Юрий Николаевич работает в Горкоме комсомола Невинномысска. Здесь он знакомится со своей будущей супругой – Жанеттой Васильевной Никитенко, работником образования, с которой и пройдет по жизни 40 лет через все житейские испытания.
В 1966 году Ю. Н. Христинин поступает на филологический факультет Ростовского государственного университета, с 1976 года учится во Всесоюзном государственном институе кинематографии (сценарный факультет), оканчивает партийную школу. В ряды КПСС Христинин вступил еще в армии, и из партии так и не вышел – несмотря на произошедшие перемены в стране, на развязавшуюся в начале 90-х травлю «правых» по отношению к «левым», на все связанные с этим житейские и рабочие трудности. По словам друга Юрия Николаевича, писателя Вадима Чернова, «мимикрией он не страдал; и, хотя далеко не все одобрял в политике партии, уж очень ему претила гибкость «кузнецов счастья» – на изломе эпох он предпочел остаться самим собой»2.
С середины 60-х гг. в стране начинается масштабное движение по изучению и сохранению памятников Отечества – инициирует его Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Еcли человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране». Эти слова академика Д. С. Лихачева, обращенные к краеведам всей страны, были в полной мере созвучны профессиональной и чисто человеческой позиции Ю. Н. Христинина.
Основной темой творчества журналиста становится историческая: на протяжении всей своей жизни Юрий Николаевич интересовался судьбами людей, так или иначе связанными со Ставропольем. В эти годы на газетных полосах «Молодого ленинца», а потом и «Ставропольской правды» (ей Христинин отдал почти четверть века) появлялись исторические очерки, многотысячными тиражами печатались его книги в Ставрополе и в Москве. «День моего города» (в соавторстве с А. Екимцевым), «Два века» (в соавторстве с В. Гниловским и В. Госданкером), «На рейде «Ставрополь»», «Сестра милосердия», «На сорок пятой параллели» (в соавторстве с В. Госданкером) – это далеко не полный перечень его книг. Совместно с главным редактором «Ставропольской правды» А. Л. Попутько в 1982 году Ю. Н. Христинин пишет одну из лучших своих книг «Именем ВЧК», за которую в 1982 году авторам присуждаются Почётные дипломы Комитета государственной безопасности СССР «За лучшие произведения литературы и кино о чекистах и пограничниках». После выхода этой книги «краеведам и историкам стало еще более очевидным: огромные пласты фактов и событий, связанных с ликвидацией контрреволюционных сил и подвигом чекистов, еще ждут своего часа и своих исследователей»3.
Настоящей сенсацией стал материал Христинина о Михаиле Калинкине – нашем земляке из Георгиевска, изображенном на знаменитой фотографии военных лет, известной под названием «Политрук продолжает бой». Теперь этот факт на занятиях по истории ставропольской журналистики преподносят как легенду. Но вначале легендой стал этот снимок забинтованного офицера с лейтенантскими погонами и перекошенным от боли лицом, который поднимает в атаку своих солдат. Он был опубликован во многих отечественных и зарубежных изданиях, стал экспонатом военных музеев. А через много лет после войны в редакцию «Ставропольской правды» пришла пожилая женщина и, протянув фотографию журналисту, сказала: «Это мой брать Миша Калинкин». К счастью, тогда еще был жив автор снимка – фронтовой фотокорреспондент Иван Шагин. Но он мало что вспомнил: снимок сделал в 1944 году, когда шли бои под Ригой, фамилию офицера тогда не спросил. Христинин поднял архивы, потом обратился к столичным криминалистам. После долгого изучения снимков последовал однозначный ответ: на снимке запечатлен именно М. И. Калинкин. Потом еще несколько лет Юрий Николаевич работал в архивах и музеях, встречался с земляками и родственниками героя. В итоге вышло несколько публикаций в газетах, чуть позже – документальная повесть и фильм, благодаря чему имя героя стало известным и вошло в историю.
Алгоритм поисковой работы журналиста был почти всегда один и тот же: со страниц местных и центральных печатных изданий он обращался к читателям всей страны, разыскивая свидетелей, участников тех или иных событий. Параллельно рассылал запросы в самые различные архивы и музеи, ведомства и фонды. Задача этого этапа была предельно ясной – собрать как можно более полную документальную базу. Спустя какое-то время полученная информация постепенно начинает оформляться в отдельные заметки, очерки, интервью, и лишь спустя годы – складывается замысел художественного произведения, и документальные источники обретают литературную форму.
Кропотливо, подолгу, по крупицам Христинин восстанавливал неизвестные страницы нашей истории. Писал о судьбе вольнодумца Захара Мишина – депутата от ставропольских крестьян I-й Государственной думы 1906 года. Отыскал интересные факты о судьбе члена тайного революционного общества «Земля и воля» Григория Попко, Германа Лопатина. Героями его очерков стали также сподвижник лейтенанта Шмидта Никита Антоненко, «железный» Феликс Дзержинский, дипкурьер Алексей Корчагин и многие другие люди, оставившие след в истории страны.
Среди его открытий также судьба единственной в России женщины, награжденной военным орденом Святого Георгия IV-й степени, – Риммы Михайловны Ивановой. Ю. Н. Христинин перелистал сотни архивных материалов того времени, смог отыскать солдат и прапорщиков царской армии, принял участие в установлении подлинного места захоронения Р. М. Ивановой. Он потратил несколько лет и посетил многие города, прежде чем смог написать повесть о жизни и подвиге выпускницы ставропольской Ольгинской гимназии, ставшей в годы Первой мировой войны легендарной сестрой милосердия.
В обширном архиве журналиста до сих пор хранятся подборки материалов по каждому такому «делу»: вырезки из газет, фотографии, запросы в архивы и полученные оттуда ответы и документы, письма и отзывы читателей. И именно эта систематичность, с которой Юрий Николаевич подходил к своей работе, позволила подготовить к изданию посмертный сборник его документальных очерков – «Без права на забвение: история Ставрополья в лицах и документах» (2017).
Впрочем, исторические очерки были отнюдь не единственным жанром, которым владел журналист. Как и все профессиональные репортеры, он мог писать статьи на самые разные темы. Из-под пера «неудобного Христинина» частенько выходили критические и проблемные публикации, затрагивающие запретные темы. Свое мнение журналист выражал всегда смело и открыто, невзирая на чины и ранги. После некоторых из них «доставалось» главному редактору – к счастью, главреды «Ставропольской правды» той поры, бывшие фронтовики Павел Иосифович Дубинин и Андрей Лаврентьевич Попутько умели, что называется, брать огонь на себя и отстаивали правоту «ершистого» журналиста в очень высоких крайкомовских кабинетах.
Особый и неподдельный интерес Юрия Николаевича вызывала работа людей, чья профессия была связана с выполнением служебного долга и сопряжена с каждодневной опасностью – милиционеров, работников прокуратуры, пограничников. Христинин изучает специфику их работы буквально изнутри, работая в тесном контакте с представителями всех перечисленных служб. Серии судебных очерков в газетах и журналах, статьи, написанные на основе раскрытых уголовных дел, со временем оформляются в повести – «По особо важным делам», «У самого края» и сборник очерков «При исполнении служебного долга» (совместно с В. Ходаревым).
Отчасти сбывается и заветная детская мечта Юрия Николаевича о путешествиях, правда, воплощается она своеобразно – в бесконечные служебные командировки по краю, стране и за ее пределы (Польша, Чехословакия, ГДР). Особенной страницей жизни становится «болгарская» история. В Болгарии Юрий Николаевич был трижды: с 1969 года города Ставрополь и Пазарджик становятся побратимами – подписывается Договор о партнерско-дружеских отношениях между ними. Особенно активно деловые и культурные связи развиваются в 70–80-е годы. В эти годы задачей журналиста стало неформальное освещение в прессе этапов и итогов этого сотрудничества, знакомство ставропольчан с традициями, историей и культурой братской страны. При непосредственном участии Ю. Н. Христинина издаются сборники очерков и статей «Дорогами дружбы», «Навеки вместе».
Новая, дотоле неизвестная творческая ипостась журналиста раскрывается в период подготовки к полномасштабному празднованию тысячелетнего юбилея принятия христианства на Руси. В СССР – атеистическом государстве, где религия с 20-х годов не имела политического и общественного веса и преследовалась (семьи Юрия Николаевича это коснулось напрямую) – этот праздник впервые за всю историю страны приобрел поистине государственный размах. Христинину, хорошо знающему историю православия, свободно разбирающемуся в библейских и евангельских сюжетах, поручают освещение в прессе наиболее значимых религиозных мероприятий, интервью с виднейшими представителями Русской Православной Церкви на Северном Кавказе – с архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием (Завгородним), позднее – с митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (Докукиным). С этих пор встречи с духовенством в рабочем графике Юрия Николаевича станут регулярными.
За свой более чем сорокалетний стаж Ю. Н. Христинин работал в «Ставропольских губернских ведомостях», «Северо-Кавказских известиях», в газетах «Вечерний Ставрополь», «Юг», «Южный экспресс», «Северный Кавказ», «Красное знамя» (Ростов-на-Дону), регулярно публиковался в центральной прессе («Журналист», «Правда», «Глобус», «Вокруг света», «Памятники Отечества»), являлся внештатным корреспондентом «Известий» (Москва).
В лихие 90-е, когда жизнь в стране перевернулась вверх дном, Юрию Николаевичу перевалило уже за 50, но он по-прежнему был молод душой, жадно интересовался всем, что происходило вокруг. Он бывал и на погранзаставах, и в «горячих точках», где лилась кровь. Ему нужно было увидеть все собственными глазами, разобраться во всем на месте, поговорить с очевидцами событий, чтобы потом поделиться своими впечатлениями с читателями. «Помню, летом 1995 года, в разгар первой чеченской войны, – вспоминает Станислав Касперский, он принес мне (я тогда был редактором «Ставропольского казачьего вестника») свою острую проблемную статью «Россия – России: «Иду на вы». В ней беспристрастно была показана эта война, где россияне воюют с россиянами. Я без колебаний поставил ее в очередной номер. Публикация имела большой общественный резонанс. Вообще смелые публикации Христинина на злобу дня всегда вызывали живой отклик благодарных читателей. Там была правда»4.
Военкор «Ставропольской правды» Алексей Лазарев поражался необычайной выдержке и поистине олимпийскому спокойствию этого «деда», который даже в насквозь прокуренной и полутемной армейской палатке продолжал заниматься своим делом: «расшифровывал» записи бесед с солдатами и офицерами и писал в своем блокноте материалы из Аргунского ущелья, чтобы потом продиктовать их по телефону стенографисткам своей редакции5.
Он шел в ногу со временем, откликался на злобу дня, обладал счастливым даром находить интересных людей и интересно о них рассказывать. «Одним из главных качеств журналиста, на мой взгляд, – заметит как-то в одном из интервью Юрий Николаевич, – должна быть способность удивляться, видеть в жизни все наиболее яркое и красивое. Если журналист перестает удивляться, ему надо просто садиться и писать заявление об уходе, подыскивая себе занятие попроще и подоходнее»6.
А что же так называемая личная жизнь, была ли она вообще при таком рабочем ритме и профессиональной востребованности? Действительно, времени на семью – росли две дочери – практически не оставалось. Весь быт, все хлопоты, связанные с образованием детей и обустройством «гнезда», целиком легли на плечи супруги – человека, также заметного в крае, только на ниве дошкольного образования. Жанетта Васильевна была тем пресловутым тылом, благодаря которому и было возможным так жить и работать Юрию Николаевичу. Ей нередко приходилось печатать его тексты, быть первым и беспристрастным цензором его материалов.
Шли годы, и уже появлялись внуки. Возиться с детьми Христинин никогда не умел, да и не пытался. Только когда они начинали подрастать, его живой родительский, а потом и дедовский интерес вызывали, например, «пушкинские баталии»: кто больше знает стихотворений классика – он или внучка? И каков же был его, уже серьезно больного человека, восторг, когда ему первому из всей родни сообщили, что внучка Юля блестяще поступила на факультет журналистики Московского государственного университета. «Ура-а-а!!!» – разразилось из телефонной трубки, покрывая расстояние между Ставрополем и Москвой.
Он любил песни, сам пел неплохо. Скорее отвлекался, чем всерьез относился к урожаю на крохотном дачном участке, пытался однажды даже вырастить там персик и арбуз. Любил просто посидеть компанией с коллегами «по перу». Не гнушался розыгрышами, особенно удачные из которых до сих пор передаются из уст в уста. А в общем, был вполне обычным человеком с хорошим чувством юмора и самоиронии.
Юрий Христинин никогда не претендовал ни на лавры писателя, ни, тем более, историка. Он – и это он неоднократно повторял сам – был репортером, журналистом. Но главное – он был патриотом, любившим свой край, ценившим его неповторимость и уникальность, отдавшим свое призвание изучению его истории, формируя неразрывную связь настоящего и прошлого не только и не столько словом, сколько конкретным делом.
И всё же, лучше и объективнее, чем кто-либо, о нём скажут друзья и коллеги:
Вадим Чернов, писатель, член Союза писателей России:
…Юрий Николаевич был прирождённым репортёром, разведчиком новых тем. Я шутливо прозвал его ставропольским дядей Гиляем, сравнивая его с московским журналистом и писателем Владимиром Гиляровским, что при его поразительной скромности ему явно нравилось… …Однажды я сказал ему: «Хочешь – могу дать тебе рекомендацию в Союз писателей. Ты ведь автор нескольких книг, не одной сотни очерков…
Он недоуменно посмотрел на меня:
– А зачем? За свой журналистский труд я наградами не обижен. Имею звание Заслуженного работника культуры, дипломы международных конкурсов журналистского мастерства, трижды лауреат премии имени Германа Лопатина7… Спасибо. Я – репортёр и им останусь8.
Станислав Касперский, поэт, член Союза писателей России:
Юрий Христинин был журналистом от Бога. Его жизнь – яркий пример счастливого совпадения природного дара и избранной профессии. Журналистика обрела в нем талантливого, фанатично преданного трудоголика. Он не изменял ей, даже когда писал книги и киносценарии… Юрий никогда не пасовал перед трудностями, преодолевал их, совершенствуя таким образом свое мастерство и набираясь опыта.
Алексей Лазарев, журналист:
…Ни дипломов в красивых рамках, ни грамот на стенах его домашнего рабочего кабинета я не увидел. Но в красном углу бросились в глаза – кавказский кинжал, врученный командованием Северо-Кавказского погрануправления за объективное освещение служебно-боевой деятельности Аргунского пограничного отряда. И старинная шашка с выгравированной по лезвию надписью:«Юрию Христинину на долгую память. В. К. Толмачев». Оказалось, полковник-фронтовик передал холодное оружие и свои награды журналисту, публикации которого с удовольствием читал более двадцати лет. Это ли не признание заслуг?..
НА РЕЙДЕ «СТАВРОПОЛЬ»
Корабли имеют свою биографию. У кораблей могут быть даже свои династии, поскольку по традиции суда, отжившие свой век, передают свои имена новым. И сегодня кораблей под именем «Ставрополь» насчитывается уже шесть. Последний появился совсем недавно: в 2018 году на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького (Республика Татарстан) прошла торжественная закладка малого ракетного корабля, которому, по ходатайству администрации города Ставрополя, присвоено имя Города Креста (на смену пограничному сторожевому судну «Ставрополь»).
Кстати, считается, что корабль, которому дано имя города, является территорией этого города. Более того, долгое время команды набирались преимущественно из жителей тех городов, чье имя носило судно. Так что «Ставрополь» – будь то маленький пароход или сухогруз внушительных размеров, пограничный сторожевой или малый ракетный корабль – всегда был не просто тезкой, но и самым настоящим «земляком» степного города.
Первым в «династии» таких кораблей стал пароход «Ставрополь», в начале прошлого века он был одним из пионеров освоения Арктики. Именно он положил начало регулярным исследовательским рейсам в устье таинственной тогда реки Колымы, проложил морской путь из Владивостока к устью Лены и Оби. Геодезические походы «Ставрополя» к берегам Камчатки позволили внести серьезные уточнения в очертания полуострова на навигационных картах. В одну из вынужденных зимовок на Чукотском море команда парохода оказала помощь попавшей в беду экспедиции знаменитого полярного исследователя Руаля Амундсена. Команда парохода приняла участие в революционных событиях на Дальнем Востоке в 1919 – 1922 гг.
В начале 1976 года Юрий Христинин размещает в девяти крупнейших газетах Сибири и Дальнего Востока заметку «Пионер Арктики»: он ищет очевидцев событий более чем полувековой давности. И люди откликаются: рабочие Владивостокского морского порта, капитаны дальнего плавания, сотрудники далеких полярных станций, школьники с мыса Шмидта… Почта приносит более двадцати уникальных снимков! Обращение в архивы и музеи страны тоже дает результат: находятся интересные архивные документы – так, например, в фондах Одесского музея морского флота СССР обнаружились записки бывшего капитана парохода «Ставрополь» Августа Шмидта, в подробностях излагающие историю далеких двадцатых годов, что называется, от первого лица.
С той поры тема судов, носящих имя «Ставрополь», становится для Юрия Николаевича одной из ведущих в его журналистской работе. Ведет он ее последовательно и систематично, и даже после выхода в свет документальной повести «На рейде “Ставрополь”» (1981) продолжает работать над историей героического парохода, «подшивая к делу» (именно так он организовывал свой архив) все новые документальные свидетельства. Более двух десятков статей на эту тему были опубликованы им в различных региональных («Ставропольская правда», «Молодой ленинец», «Северный Кавказ») и центральных изданиях («Огонек», «Морской флот», «Красное знамя» и др.).
В данный раздел вошла повесть «На рейде “Ставрополь”». Это ее второе издание, без редактуры и с сохраненным авторским текстом, который сам по себе представляет определенный художественный срез эпохи. Кроме этого, сюда включены очерки, рассказы и статьи, посвященные данной теме и опубликованные в 70–90-х гг. в журнально-газетной периодике. Представленная в них информация, бесспорно, уникальна, достойна внимания и должна быть сохранена: это и записи из бортовых журналов парохода, и докладные записки помощника капитана, и выдержки из писем родных и близких людей экипажа – то есть все то, что послужило в свое время документальной основой повести, но по различным причинам в нее не вошло.
Существенно дополнился иллюстративный ряд: здесь представлены снимки из ранее опубликованных материалов и личного архива журналиста.
Огромную ценность представляют фотографии из фондов Музея Дальневосточного морского пароходства – часть из них знакома нам по первому изданию повести, часть – публикуется впервые. Особую благодарность в этой связи хотелось бы выразить Алексею Николаевичу Субботину, руководителю направления по связям с общественностью Филиала ПАО ДВМП во Владивостоке, и в его лице всем сотрудникам Музея, чье искреннее желание помочь в поиске раритетных фотоснимков и поделиться ими, позволили этому материалу обрести новое документальное звучание.
На рейде «Ставрополь»
Вспыхнул маяк на мысе, пронзив вечерний туман.
«Отдать все рифы на брамселе!» – командовал капитан.
Первый помощник воскликнул: «Но корабль не выдержит, нет!»
«Возможно. А может, и выдержит», – был спокойный ответ.
Роберт Стивенсон
От автора
Трудно сказать, была ли бы написана эта книжка о необычных приключениях парохода Российского Добровольного флота «Ставрополь», но случилось несколько лет назад одно событие. Тогда в город Ставрополь прибыла делегация моряков с одного из лучших в Азовском морском пароходстве теплохода «Ставрополь». Возглавил ее Борис Васильевич Быковский – первый помощник капитана. Он-то и рассказал о плавающем «тезке» орденоносного степного города.