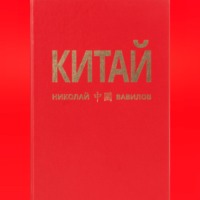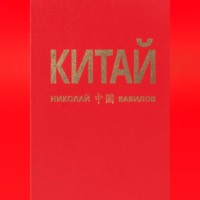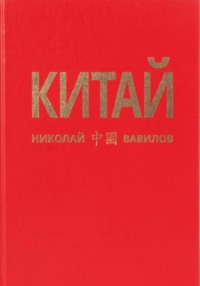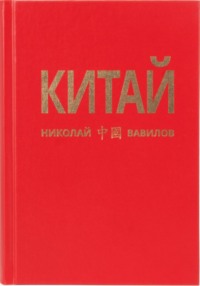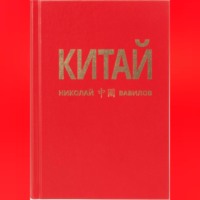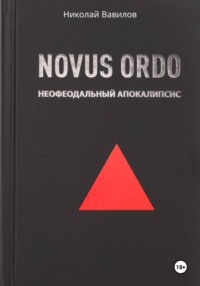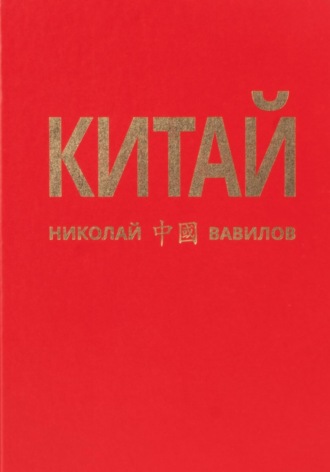
Полная версия
Китай. Первая часть
Социальная дистанция, инфантилизм и самооценка
Долго находящимся в Китае наблюдателям бросается в глаза контраст между каменной сдержанностью и дистанцией китайцев на официальных переговорах и почти нулевым личным пространством, когда китайцы являются давними друзьями или находятся в кругу семьи. Да, среднее расстояние общения между китайцами около полуметра (в Швеции может достигать 2 метров), и в целом китайцы напоминают громких итальянцев, собравшихся за столом во время сиесты, но например, семейная забота, когда из своей тарелки друг перекладывает еду своему товарищу в его тарелку во время еды западному наблюдателю воспринимать откровенно сложно. С другой стороны китайцы не пожимают руки, если речь не идет об адаптированных к западу отдельных представителях: китаец ограничивается поклоном головы и части плеч (не всего корпуса тела, как японцы) и улыбкой без пристального взгляда в глаза. Также китайцы шокированы прилюдно целующимися людьми запада – для них это полноценная начало близости, при этом в общественном пространстве. Для близости существуют закрытые от чужих глаз пространства.
Западному наблюдателю также бросается в глаза детское поведение китайцев, которое сохраняется и весьма распространено у возрастной категории от 30 лет и старше – это настолько привлекает внимание, что некоторые исследователи даже пытались связать это с особым строением мозга китайцев. Автор однако предполагает, что инфантилизм и инфантильное, детское поведение – это свойство больших человеческих общностей, когда детское поведение и сохранение детских особенностей психики делает жизнь человека более приспособленной к избыточному давлению общества. А давление в китайском обществе есть – и еще какое. Мы уже это выяснили выше, китайское общество – это закрытый кипящий котел. Быстрое взросление налагает на человека слишком большой груз ответственности и вводит его в состояние избыточной конкуренции со «взрослыми». В западных или военизированных культурах с меньшим числом населения быстрое взросление означает больше социальных прав и поощряется обществом – взрослый становится боевой единицей, в росте числа которых такие общества заинтересованы.
Любому вступающему в диалог с китайцами, особенно в бизнесе, бросается в глаза желание значительной доли китайцев вступать в «риторический бой» на тему превосходства китайской нации над всеми остальными – детская болезнь бытового национализма не прошла мимо Китая. Особенно это контрастирует с общим новостным фоном дружбы двух стран – китайские партнеры иногда нагло могут заявить, что у вас такая-то сложная ситуация, и у вас нет вариантов, кроме как дружить с ними на их условиях. Поверьте, также китайские партнеры выкручивают руки и японским, и корейским, и европейским партнерам – всем. Это и есть основная китайская бизнес-стратегия – делать предложения, от которых трудно отказаться, потому что условия созданы благоприятными для них – и неблагоприятными для вас. Все, что от вас нужно – делать также: создавать благоприятные условия для вас, и – славить дружбу с лучшими партнерами. Отчасти корни такой наглости в космическом росте китайской экономики – большинство ваших партнеров из 1980-х, 1990-х годов – на их глазах китайская экономика выросла в 40 раз, а только за последние 10 лет (2012-2022) – в 2,5 раза. Голова может закружиться от успехов – амбициозность, которая не выпячивается (это пока с трудом, но сдерживается), современная черта китайцев. Конечно, из-за кризисных явлений она немного притухает, но все равно имеет место быть. Автор считает, что этой амбициозностью надо пользоваться, и принимать со спокойствием врача.
Еще одна черта китайцев – тотальная любовь к гаджетам, отсутствие барьеров к их использованию во всех возрастных категориях – большинство китайцев перешли к новинкам техники 21 века без использования изобретений 20 века, что обусловило отсутствия необходимости переучиваться. Также Китай лидирует в мире по числу издаваемых научно-фантастической литературы и фэнтэзи. В мире Китай известен не только по фильмам жанра «Уся» (романы-боевики с боевыми искусствами), но и по фантастическим фильмам «Блуждающая земля» – автор советует посмотреть этот фильм и сравнить с западными концепциями в фильмах катастрофах: китайцы не сбивают астероиды, они спасают землю через бегство – то есть просто изменяют траекторию движения Земли с помощью высоких технологий. Общество китайцев как-то быстро перепрыгнуло из самого примитивного состояния средневековья в научно-фантастический кибер-панк и это также надо учитывать: ваши собеседники не прожили поколение в стадии размеренной индустриализации Запада или СССР – она прошла здесь одновременно с прыжком в 21-век высоких технологий. Китайцы – это жители деревни, неожиданно для себя попавшие в фантастику 21 века.
Армия, война и ушу
Как и многое из того, что в западном восприятии касается Китая, знание об отношении китайцев к войне и армии у нас – противоречиво и «захламлено» стереотипами. Китайцы – тоже люди, и грех Каина им не чужд – столетиями в Китае бурлили войны, в первую очередь внутренние, а территория Срединных царств только прирастала. Если еще четыре тысячи лет назад то, что можно назвать Китаем умещалось в среднее течение реки Хуанхэ и три современные провинции – Шэньси, Хэнань и Шаньдун, то сегодня это третье, наряду с США, по территории государство мира, раскинувшееся от тайги Маньчжурии до субэкварториальных островов Наньша в Южно-Китайском море, и от гор Тибета – до Японии. Китайская цивилизация постоянно расширялась на юг – еще пару тысяч лет назад территории под Шанхаем занимали племена Юэ, близкие к культуре Вьетнама, а теперь уже в самой Юго-Восточной Азии есть целые моноэтнические китайские центры, такие как Сингапур.
Внутренние войны китайцев между собой можно сравнить с «внутренними войнами» на Европейском субконтиненте – но никто не может отказать европейцам в искусстве воевать и умении сражаться. Конечно, они регулярно проигрывали войны ордам кочевников из глубин континента, но это же можно сказать и о китайцах.
Поэтом недооценивать китайцев, и говорить что им от рождения присуще неумение воевать и главное, реализовывать успешную стратегию внешней политики – в корне неверно. Китайцы умеют и воевать, и побеждать, и закреплять успехи. Правда, не всегда или почти никогда в прямом столкновении.
Выражение, «хорошее железо не идет на гвозди, хороший человек не идет в солдаты» 好铁不打钉,好男不当兵 широко известно в Китае и вводит в заблуждение многих западных обывателей. Примененное в нем слово «солдат» бин 兵 изначально был ближе по смыслу к «наемнику» в охрану крупного феодала – то есть речь идет об охранниках с полицейскими функциями, держимордами, угнетающими народ, зачастую именно свой, или используемый в гражданских войнах против также же китайцев-соседей. Бродячие «рыцари-бины» нанимались за деньги к богатым землевладельцам, исполняя функции охранников и карателей. Действительно, как мы знаем, Китай почти всю историю провел во внутренних войнах и переворотах и армия в первую очередь ассоциируется как сила правителя против других таких же правителей-соплеменников или для удерживания внутренней власти. Практически всегда одна из политических военных сил входила в союз с мощной армией внешних кочевников и устанавливала свою власть над внутренними политическими оппонентами.
Тем не менее, два из четырех главных китайских романа – «Речные заводи» 水浒传 и «Троецарствие» 三国演义 – посвящены войне и политике, «Речные заводи» – отражению внешней агрессии и партизанской войне большой банды, которая воевала вначале с правительством, а потом на стороне правительства с кочевниками, «Троецарствие» – политике во время внутренней войны китайских царств.
Китай имеет классические трактаты о войне, самый известный из них – Суньцзы «Способы войны» 孙子兵法 (часто переводят как «Искусство войны», можно также перевести как «Способы применение войск»), который касается также в первую очередь внутренних войн китайцев между собой.
В трактате во главу угла ставится подготовка к войне, искажение реальности как основной способ ведения войны, а последняя обширная глава посвящена применению шпионов всех видов и родов, чего просто нет в письменном виде у западных авторов на протяжении нескольких тысяч лет – и вполне соответствует вообще всем известным видам шпионажа и использования агентуры влияния – от психологических операций до саботажа. Некоторые обозреватели доходят до того, что приписывают китайцам первым в истории применение бактериологического оружия и распространения чумы.
Война по-китайски выиграется до сражения – и мыслится как война потенциалов – если ваш потенциал на момент начала войны кратно больше, чем потенциал противника, то вы войну уже выиграли и вступать в нее вашему противнику не имеет смысла. Также это война планов или векторов этих потенциалов – если вам удается сломать планы противника – то есть нарушить реализацию его стратегии, направленной против вас, то вы выиграли без войны. Далее идет способ развала союзов противника как кратного сокращения его потенциалов, далее только идет прямое столкновение. Например, современный КНР преследовал цели победить США, разрушив планы сдерживания Китая – например, через декларирование мирной политики Китая, или через мирный отказ США от власти в пользу КНР в качестве притяжения американских же капиталов и элит в Китай. Далее Китай, видя, что США не меняет своих планов, приступил к ослаблению союзников США – развал QUAD и AUKUS (не допущение туда Канады и Японии), вытягивание в нейтралитет Южной Кореи и Японии, нейтрализацию Индии, переманивание Франции и попытки развалить НАТО через поражение на Украине. Если и этот план не сработает Китаю, увы, придется воевать. Но раз уж придется воевать – то воевать придется с применением 13 главы Суньцзы – то есть разваливать противника шпионажем изнутри.
Прямой бой, прямое столкновение – это почти заведомое поражение для китайца или крайне невыгодная ситуация. НОАК превосходит армию США во всем, кроме возможности прямых боевых действий. Тем не менее, Китай готовится создать из своих прибрежных морей – внутренние – стену от потенциального вторжения противника. По расчётам Пентагона – после 2030 года США уже не смогу победить армию Китая, если он будет вести оборонительную войну.
Китай также мастер гибридных и прокси-войн чужими руками – война Китая против США в Корее велась с использованием нескольких миллионов добровольцев без знаков различий, Китай воевал против СССР поставляя оружие и обучая моджахедов в Афганистане. Нет сомнений в том, что могущество Китая как мирового лидера будет строится на использовании целого ряда прокси-сил, во всех непрямых, гибридных формах. Китай начал против США первую мировую криптовойну в истории человечества, и он ее выигрывает. В дипломатии, в интернете, в финансах, в разведсетях, в промышленности и торговле, в прямом саботаже, политическом лоббировании и т.д. Китайцы в реализации своей стратегии однако смотрят на США как на таких же китайцев, и ожидают, что американцы сдадутся, когда потенциал их станет меньше китайского, отрицая сущность военных подходов индо-европейцев, изначально кочевой и военизированной культуры, которые могут и считаю за доблесть сгореть в огне сражения. Китайцы к середине 21 века смогут существенно подточить мощь США и занять место мирового лидера, но растворить до конца, полностью победить западный мир у них не получится, хотя на место, может быть, США придет иная сила.
Все же, несмотря на внушительные успехи Китая в военной области, которая страна проделала в сфере оборонного строительства, говорить о боеспособности китайских войск не возможно объективно: любые войска проверяются только в бою – последняя война, в которой участвовал Китай – это война во Вьетнаме, в начале 80-х годов прошлого века, то есть более чем 40 лет назад. С другой стороны соседи Китая по континенту также не обладают внушительным военным опытом – ни Япония, ни Тайвань, ни Южная Корея не могут похвастаться наличием свежего военного опыта, за исключением миротворческих операций ООН. Но и здесь Китай чемпион: за последние десятилетия свыше 40 тысяч китайцев участвовали в миротворческих операциях по всему миру. Аналогичный китайскому опыт войны – у Индии и Вьетнама. Это рождает большой запрос на западных «специалистов по войне».
Техническая оснащенность армии Китая, официальный военный бюджет которой превысил 230 млрд долл, находится на уровне лучших армий мира. Китай одинаково развивает все виды вооружений, но делает упор на развитие флота, ядерных сил, авиации, особенно военно-транспортной и сил стратегической поддержки – спутниковой группировки, средств связи, радиоэлектронной борьбы и других способов подавления противника. Также по итогам оценки опыта СВО на Украине, в апреле 2024 года Китай создал отдельный род войск – информационной поддержки.
Сухопутную же армию Китай сокращает после прихода Си Цзиньпина к власти – сейчас численный состав собственных частей Народно-освободительной армии Китая (НОАК, PLAN, 中国人民解放军) не превышает миллиона человек, еще один миллион служит в Вооруженной народной полиции Китая (中国人民武装警察部队, PAP, аналог Росгвардии, внутренние войска), которая переподчинена Центральному военному комитету в 2018 году. В свою очередь при Си Цзиньпине флот НОАК превысил по числу кораблей флот США, хотя пока и не превосходит его по тоннажу, на воду спущено три авианосца, которые идеально подходят для противостояния США и их союзникам. Существует мнение, что Китай планирует еще 3-4 авианосца. Береговая охрана в свою очередь также переподчинена Вооруженной народной полиции, это важный факт, так как она будет играть ключевую роль в первом этапе столкновений в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.
Среди проблем китайской армии, как бы это парадоксально не звучало, главная проблема – это проблема с набором людей. Базу для призывников составляли потомственные военнослужащие, которых не обошла политика «одна семья – один ребенок». Новые военные специальности требуют высшего технического образования – но не все выпускники ВУЗов спешат сделать карьеру в армии, ведь армия десятилетиями служила социальным лифтом из деревни в город, для городских же жителей служба в армии не так привлекательна. Обязательной воинской службы в Китае не существует. Эта проблема недостатка людей усугубляется на флоте и в авиации, и особенно сильно ощущается в экономически развитых провинциях Китая, находящихся на побережье. Вторая незаметная для обывателя проблема китайской армии – это слаженность соединений и родов войск.
Координация различных родов войск, а также работа тыла по обеспечению действий армии. История Китая знает примеры массовой гибели соединений из-за отсутствия надлежащего снабжения, а также сложностей во взаимодействия между выходцами из различных регионов страны. По сути НОАК состоит из 4-5 крупных субэтнических национальных групп, которые представляют различные провинции – Северо-Восточного Китая, Шаньдуна, Шэньси, Сычуани, которые соперничают между собой и являются в то же самое время военно-политической силой каждой из субэтнических политических группировок.
После прихода к власти Си Цзиньпина была проведена крупная военная реформа, реорганизовавшая воинские соединения, военные округа были преобразованы в боевые зоны, перед армией была поставлена политическая цель «создания армии, способной выигрывать в войнах», роль и статус военнослужащих резко повысились, массовая культура стала получать образцы военной пропаганды мобилизационного типа – фильмы «Войны волки» 战狼 и «Битва на Чосинском водохранилище» 长津湖 поставили рекорды кассовых сборов.
В 2018 году в результате реорганизации Госсовета КНР (Правительство) в его составе появилось Министерство военных ветеранов, которое призвано заниматься делами военных отставников – такой объем полномочий показывает, что количество таких ветеранов и спектр задач, связанных с ними – будет огромен.
Роль военных в современной китайской политике традиционно высока – достаточно отметить, что в период создания КНР почти бессменным руководителем парламента был армейский руководитель Чжу Дэ, высшие политические посты при Мао и после занимали маршалы антияпонской и гражданских войн: и сегодня в парламенте Китая ВСНП значительная доля закреплена за партийными военными руководителями, хотя численность вооруженных сил Китая составляет около одной тысячной доли от населения, военные имеют непропорционально большую квоту депутатских мест, о «парламенте военных» автор подробно пишет в «Китайской власти».
Руководство армией осуществляет Центральный военный комитет (ЦВК ) ЦК Компартии Китая 中央军事委员会, который выбирается из состава ЦК Компартии, он полностью дублируется по составу ЦВК КНР как орган исполнительной власти. В нем семь человек и возглавляет его Си Цзиньпин – председатель ЦВК – это одна из трех ключевых руководящих должностей в системе власти Китая наряду с генеральным секретарем ЦК Компартии и Председателем КНР.
Собирательное название для всех китайских единоборств в России ушу, переводится как «военная (боевая) техника» 武术. Интересно, что «кунфу» на самом деле звучит «гунфу» 功夫 с ударением на первый слог и значит «мастерство» или «навык» – при этом не только в единоборствах, но и вообще в любом виде человеческой деятельности.
В отличие от военизированной русской или японской культуры – как мы уже знаем, китайская культура избегает прямого насилия и не имеет такого развитого культа воинской славы или войны, здесь занятие войной – это всегда занятие узкого круга, зачастую андеграунда – нечто закрытое и подпольное. Поэтому культура единоборств идет рука об руку с культурой закрытых профессиональных или религиозных сообществ, часто перекликается с криминальным миром.
Надо задаться вопросом – почему боевые искусства практикуются буддистскими монахами в монастырях. Почему мирной религии буддизму вдруг понадобилось от кого-то защищаться и главное, что защищать? Это явное противоречие для профанов снимается тем, что монахи как будто совершенствуют свой разум через совершенствование тела. Хорошо, но почему им бы не заниматься буддисткой йогой, вместо того, чтобы тренировать удар да еще и с использованием оружия.
Легенда о том, как Шаолинь 少林寺, «Храм молодого леса», стал могущественным и самым известным буддистским монастырем гласит, что монахи помогли сохранить власть выдающемуся императору династии Тан Ли Шимину – «13 монахов с палками», после этого император создал целую сеть монастырей с монахами-войнами (существует специальный термин – 僧兵) для контроля над ситуацией в стране – то есть речь идет о силовых группировках и особом типе орденского воинства с особым складом психики и боевыми навыками, а также специальной религии-идеологии, сплачивающей их. Наверное, такое орденское воинство отдаленно напоминает боевой орден тамплиеров при Ватикане. Занятно, но тамплиеры – это тоже «храмовники», так переводится их название. Конечно, такое монашеское воинство могло возникнуть только в полукочевой социально-политической системе и на базе индо-европейского буддизма. Эти филиалы Шаолиня помогали местным армиям и местным чиновникам – это напоминает работу специальной гвардии императора. В 20-м веке Шаолинь пришел в запустение, в конце 1920-х годов «святое место» просто сжег один из китайских полевых командировк, и только с 1980-х годов наступает ренессанс Шаолиня. Кто знает, может быть, в 21 веке новому императору вновь понадобятся инокультурные войны-монахи из особых частных монашеских компаний. Во всяком случае, пока российские команды заслуженно обыгрывают все остальные команды в международных соревнованиях ушу.
Особая культура полувоенных формирований, которые объединяются в качестве буддистских сект характерна для Китая – Китай как никакая другая страна знакома с тайными обществами, в недрах которых вызревают политические объединения, в том числе и современная Нацпартия на Тайване (Гоминьдан) и Компартия – в значительной степени выросли из таких многочисленных закрытых сект – китайцы издревле любят подобные объедения. В упрощенном виде они существуют и как криминальные кланы, принципом объединения нескольких семей в которых служит единая система культов. Такие объединения не всегда бывают криминальными – а скорее носят цеховой характер. Например, известная в Гражданскую войну Зеленая банда, на которой отчасти стояла власть Гоминьдана в Шанхае, изначально была объединением лодочников на Великом канале, позже трансформировалась в контрабандистов соли, и в конечном итоге выросла в крупный криминальный и даже политический синдикат. Зеленая банда стояла не только на землячествах, или расширенных семейных кланах, внутри эти кланы объединяли особые общие буддисткие культы. Подробнее в «Китайской власти».
Китайские подземелья, стены и ворота – что нужно знать про нацию строителей
Попытаемся рассказать нашему читателю о менталитете китайца через форму организации пространства или архитектуру и градостроительство.
Без всякого сомнения, китайцы – древняя нация строителей. Большие цивилизации требуют больших строек – городских и инфраструктурных.
Если за рубежом из больших китайских строек известна Великая китайская стена 长城 («Длинная стена» – по-китайски), то сами китайцы добавляют к этой постройке еще и Великий канал (大运河), связавший с Пекином – «Северной столицей» регион современного Шанхая – нижнего течения Янцзы. Добавим к этому третий величайший архитектурный памятник – захоронение Бинмаюн 兵马俑 – масштабный подземный комплекс объединителя Китая Цинь Шихуана.
Заметим, что за исключением гигантского изображения будды на берегах Янзцы в провинции Сычуань 乐山大佛, а также буддийского комплекса изображений будд в пещерах Лунмэнь Шику 龙门石窟, которая вряд ли широко известна в мире, в Китае почти нет гигантских человеческих изображений – все, что появилось после 1949 года с большим изображением Мао на его родине в Хунань или неказистых его памятников – скорее, дань американской моде – уж больно они напоминают американские изображения. Нет и гигантских построек по типу Тадж-Махала или Кельнского собора.
Не говоря уже об отсутствии каких-либо масштабных построек даосских храмов – монастырь Шаолинь знаменит вовсе не своей масштабной архитектурой, вряд ли обыватель наслышан про самую высокую пагоду в Китае – Большого гуся в Сиань 大雁塔 или другие: пагоды появились в Китае только в 6-м веке нашей эры, с появлением буддизма – по сути также не являются оригинальной китайской архитектурной конструкцией.
«Запретный город» – Гугун – императорский дворец в центре Пекина на площади Тяньаньмэнь – тоже не является религиозной постройкой. На западе все ровным счетом наоборот – храмы и башни являются ключевыми и знаковыми архитектурными сооружениями. Исключением по свое монументальности являются масштабные погребальные сооржения, как правило пирамидой уходящие в глубь земли.
Китай – это не страна больших храмов и башен, что очень характерно для индо-европейской культуры, и в частности культуры западных стран, Китай – это страна стен и подземелий. Современные небоскребы – лишь дань глобальной моде на высокие офисные здания.
Вся культура и мышление в Китае построены на противопоставление центра (середины, внутренней части, нутра) и враждебной внешней среды. Современное название Китая на китайском «Чжун го» переводится как «Срединное государство» 中国, где иероглиф 中 zhong / чжун является идеограммой и изображает середину. Я бы осмелился предложить и такой перевод «Внутреннее государство», государство для своих китайских субэтносов, противопоставленных внешнему хаосу враждебных и иных народов. От которых необходимо отгородится. Стеной. Понятие «центр», «внутренний» – ключевое для китайской культуры. Согласитесь, насколько это противопоставлено ключевой идее арийских культур об экспансии, расширении, покорение пространств и географических открытий – и в китайской средневековой истории была экспедиция Чжэн Хэ в Индийский океан (15 век, 郑和)– но она была тем самым исключением, которое подтверждает правило.
Стена и ворота – ключевые элементы пространства китайской ментальности, «развернутой во внутрь». Политический центр Китая – площадь Тяньаньмэнь содержит в себе слог «мэнь» «ворота» 门 и переводится как «Ворота небесного спокойствия» – то есть южные ворота императорского комплекса Гугун. Выходом и входом на юг направлены все ключевые постройки Китая – юг, место максимальной силы, соответствует элементу огонь и периоду времени 11-13 часов дня. Любопытно, что произношение слога «ворота» в 99% диалектов Китая почти никак не искажено (редко встречается «муэн», «мун», «ман»), что говорит о значимости и первичной древности понятия.
Самого понятия площадь в названии «Тяньаньмэнь» нет. Да, слово «площадь» в китайском языке, конечно, есть – но как элемент городской архитектуры, как важнейший элемент политической культуры он отсутствует – сравните с западными – Красная площадь, Times Square в Нью-Йорке, Alexanderplatz в Берлине и площадь Святого Петра в Риме. Есть другое понятие, кстати, тесно связанное со всеми государственными учреждениями – Юань 院 как внутренний двор, окруженный с четырех сторон жилыми конструкциями. Китай – ментальность закрытых, обращенных в себя пространств, Запад – ментальность открытой территории, развернутой во вне, которая контролируется башнями. В городской топонимике Китая также часто встречается понятие «сад» 花园 – также закрытое пространство.