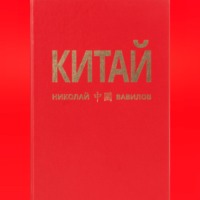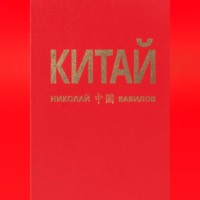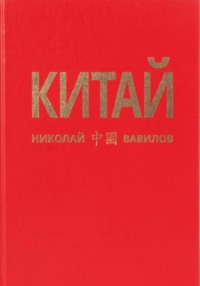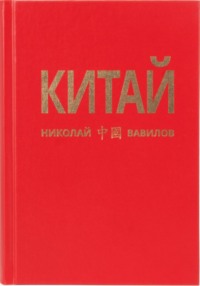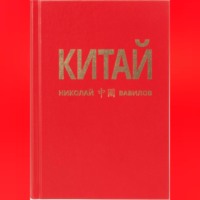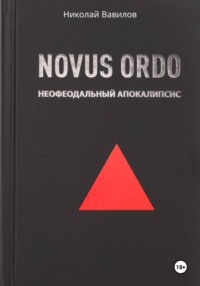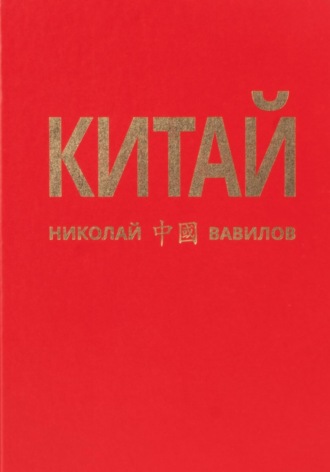
Полная версия
Китай. Первая часть

Николай Вавилов
Китай. Первая часть
Предисловие
Первоначально книга задумывалась как краткий «курс молодого бойца» для успешной работы с нашими особенными китайскими друзьями моим партнерам, руководителям крупнейших российских компаний, государственных ведомств, общественно-политической и гуманитарной сферы, для которых я провел десятки закрытых мероприятий, посвященных Китаю.
Книга должна была дать ответы на самые общие и важнейшие вопросы и обобщить мой личный опыт изучения Китая с 2001 года, а также прямого взаимодействия с китайцами с 2005 года по сей день.
Единственным критерием истинного знания является эффективный результат его применения – «exitus acta probat»: цель книги сделать вас эффективнее в достижении как корпоративных, так и национальных интересов России в результате взаимодействия с китайскими друзьями, которые в свою очередь обрели высшее мастерство конкурентных войн и на глазах одного поколения изменили Китай и мир.
Постепенно книга из «курса молодого бойца» переросла отчасти в антропологическое исследование современного китайского общества и сравнение его с западными или индо-европейскими обществами, в том числе русским, справочник по китайской политике и экономике, которая вновь в своей истории переживает расцвет и величие.
Книга написана в переломный момент китайской истории, когда из младшего партнера США Китай перешел в новый статус – а десятилетия противостояния Китая и СССР сменились новой эпохой сближения между Россией и Китаем, когда так важно уметь «находить друзей среди врагов».
Книга написана в том числе и как учебное пособие, которое поможет заменить вам пару курсов получения специальности китаеведения в ВУЗе, конечно, не учитывая изучения самого китайского языка и объема дополнительной информации. Для тех же, кто уже начал учить китайский – книга будет полезным подспорьем в изучении сложного языка: в ней масса примеров на китайском, что позволяет сделать его изучение осмысленным и приблизить к практике применения.
В рассказе о Китае больше не отделаешься путевыми заметками и описаниями древних традиций – Китай вырос на границах России новым сверхмощным гигантом – «хорошо уметь в Китай», знать Китай, уметь построить с ним правильные отношения – станет задачей каждого значительной части нашего общества в новом веке.
Посвящаю вас, уважаемый читатель, в изучение Китая и желаю успехов в этом сложном, но интересном деле.
Николай Вавилов, Москва, 2023-2024 гг.
Китайцы, которые играют в игры
Душу народа легко понять по тем играм, в которые играют люди. И здесь отличия между русскими, или западной цивилизацией в целом, сразу бросаются в глаза и раскрывают особое видение мира китайцами, их построению стратегий не только в бытовой жизни, но и в жизни государства. В играх и их правилах раскрывается истинные черты этнического психотипа.
Итак, если даже после наступления эпохи цифровизации такие игры как карточный «дурак», шашки, шахматы получили цифровую реинкарнацию, то их можно признать одними из базовых для индо-европейского сознания или в случае «дурака» – для русского. Все эти игры подразумевают идею активной экспансии во вне, захвата и поражения противников через их уничтожение, и что немало важно – через уничтожение части своих сил. Какое же серьезное различие мы сразу видим при сравнении с китайскими играми?
Когда мы говорим о китайцах – какие игры в первую очередь имели такой масштаб распространения, что стали известны во всем мире? Верно, это «Мацзян» 麻将 («Маджонг») и «Вэйци» 围棋(японское название известное в России – «Го»). Да, в Китае есть подвид индийских шахмат Сянци 象棋, но в него играют примерно на порядок меньше, чем в истинно китайскую игру «Вэйци» – первый иероглиф которой «Вэй» можно перевести «окружение», «осада».
«Окружай и властвуй», перефразируем известную максиму власти англичан: об этом мы еще поговорим – китайская ментальность не поощряет лобового столкновения и цели уничтожения противника – это хорошо видно по одной из самых популярных в Китае игр. Ход за ходом ваши фишки расставляются так, чтобы отсоединить максимум территории, где-то окружить противника, не дать ему сделать то же самое с вами. Речи о победе через уничтожение не ведется, тем более нет и следа стиля уничтожения через собственные потери. В этом нет никакой гуманности – в мире с сотней конкурентов победить всех окончательно – нереально. Путем хитрости и правильных ходов занять большее пространство – да.
Вторая самая известная и играемая в самом Китае игра – Мацзян – также крайне интересно описывает китайскую стратегию победы и цели китайцев. Из пестрой системы мастей и комбинаций «костей» каждому из четырех игроков необходимо собрать нужную комбинацию для победы – и вновь «фишки» не выбрасываются наружу, не уничтожают противника путем смертельной атаки или прямого боя. Игрок избавляется от ненужных «костей» и собирает у себя «нужные» – когда соберет комбинацию из нужных – выигрывает. Прямого противостояния с другими сторонами стола нет – вся победа достигается «внутри», у себя – через расчет общей ситуации с костями, оставшимися в «общем поле».
Идея победы через собственное усиление и избегание прямого боя – два базовых принципа китайской ментальности и любой стратегии, в том числе стратегии развития государства. Идеи о жертвенной гибели целой группы людей в бою все же присутствуют в китайской культуре – но куда как меньше воспеваются, нежели на западе. Китайских героев, погибших за родину в бою – можно вполне сосчитать и уместить их биографии в одной книге, но культа самопожертвования, подобного японскому или индо-европейскому – здесь нет места, это исключение из правила.
Еще одно важное отличие китайцев в играх – фатальное невезение во всех групповых видах спорта: от футбола до хоккея. А может быть, вовсе не невезение – а нечто большее и имеющее системные причины?
Один на один – китайцы вполне сильны: пинг-понг, бадминтон и т.д. Везде, где китайские команды сталкиваются с западными – их встречает тотальное невезение. Исключение составляет, например, женская волейбольная сборная Китая – или юношеский чемпионат мира по керлингу, то есть маргинальные направления в мировом спорте, где Китай пользуется слабостью Запада и преодолевает ее через свои организационные усилия в массовом государственном спорте.
И тут есть над чем задуматься. Лидерам Китая это очень не нравится – они увольняют руководителей футбольной сборной и отправляют его под суд. Но на успехи сборных это не влияет. В Китае есть много высоких людей, много тех, кто быстро бегает и высоко прыгает – но все их качества сводятся к нулю, когда начинается командная игра. Футбольными полями и баскетбольными площадками покрыт весь Китай – от крупных городов до отдаленных деревень, но и это не помогает, во всяком случае до сего дня.
Может быть, ответ кроется в высокой атомизированности и иерархичности китайского общества – если член команды не ваш брат, дядя, отец, племянник – то как выстроить с ними взаимодействие – кто «форвард», а кто на «воротах»? Что такое товарищество? Боевая слаженность? Командная игра? Если эти понятия атрофированы в обществе или общества в привычном на Западе виде не сложилось – то такое возможное воздействие будет перенесено на результативность командных игр. Странно, но в Китае – каждый сам за себя или максимум – за свою семью. Китай пытается это преодолеть, занимается общенациональным тибилдингом – отсюда появляется миф о монолитности общества Китая, что в Китае «все ходят строем», «все слушают начальство».
И что самое неприятное для нового глобального великана – это присутствует и в экономике, и в политике, и на войне. Как выстроить в строй 34 неспокойные провинции-кланов и «999» неспокойных «уездов-княжеств» – пожалуй, это самая сложная задача для императора, а уже выгодным побочным эффектом от их усмирения станет глобальное доминирование. Об этом вечной борьбе кланов разных китайских субэтносов, различающихся между собой как славянские народы, я писал в книге «Китайская власть» (2021).
Китайцы тем не менее массово играют в разные западные игры – рядовому китайцу пришлись по душе западные карточные игры и особенно бильярд – зеленые столы стоят в промзонах и трущобах.
Чего нет в Китае – это любви к публичному созерцанию драк и подобных шоу и видов спорта. Турниров по боксу, за которыми бы следили миллионы китайцев – вы не найдете.
Ушу и единоборства стали ассоциироваться с Китаем на Западе и в России после их популяризации в Голливуде – в самом Китае единоборства связаны с закрытыми криминальными организациями и закрытыми обществами и вообще не имеют массовости, скорее – наоборот.
Массовое ушу 武术 (переводится как «боевые искусства»), сколько бы не было оно популярно в России и ассоциировалось с Китаем, декоративный вид спорта – его можно сравнить с балетом в России. Изучать Россию по балету можно, но вряд ли это даст портрет и понимание нашей страны, нежели традиция устраивать массовые драки стенка на стенку – чего в Китае вовсе не считается народной забавой. Единоборства – прерогатива закрытых боевых сект. Почему это практикуется в различных буддистских храмах по типу Шаолиня – отдельная богатая тема.
Ложные друзья изучающего Китай –западные мифы о китайцах
Поскольку Китай в период информационной революции XX и XXI века был лишь одной из развивающихся стран, по сути маргинальным направлением, знания о котором часто использовались для зачастую бесполезной «интеллектуальной игры», весьма велико количество ложных поговорок и фраз, приписываемых Китаю, попавших через литературу в обывательскую среду. Давайте отсечем в нашем сознании ложные максимы, которые как будто бы описывают китайскую культуру, но на самом деле создают ложный ее образ.
Самая топовая из таких выдуманных поговорок, пожалуй, «сидеть на берегу реки и ждать, когда труп твоего врага проплывет мимо».
Автор, конечно, не специалист по китайским фразеологизмам, но ему неизвестно ни одного выражения такого характера – с врагом и трупом. Возможно, его придумали неистовые культурологи и околокитайские фэнтези-писатели, коих всегда было много: последнее столетие тема Китая была настолько маргинальна, что сочинять можно было что угодно, проверить эти выдумки было просто некому. Это выражение похоже на перекочевавшее из литературы якобы выражения Сталина «нет человека – нет проблемы» из романа Рыбакова «Дети Арбата».
Эта вымышленная идиома сильно искажает образ китайца. Поверьте, ждать трупов врагов китайцы не будут. Это деятельная нация. Тем более трупы по воде не пускают – река Ганг протекает не там. Самое близкое, это 无为而治 из даосского трактата Дао дэ цзин – один из ста переводов «не делай и тем решишь (проблему)», но даосизм – это маргинальная мировоззренческая традиция, субкультура в приложение к супердеятельной китайской культуре.
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен» – еще одно несуществующие в китайском языке выражение, перекочевавшее в Россию из англосферы: в одной из речей отца британского премьера Н.Чемберлена – Джозефа Чемберлена «May you live in interesting times», который для красного словца приписал это китайскому сумрачному гению. «Чтоб ты жил в интересные времена!» – как якобы китайское проклятье. Ничего подобного в китайской литературе и языке нет. Самое близкое в китайском языке это редкое выражение «лучше быть собакой в период великого мира, чем быть человеком в период смуты» 宁为太平狗,莫作离乱人. Выражение достаточно редкое, и его едва ли знают все китайцы.
Еще одно такое выдуманное выражение: «Конфуций говорил, что знаки и символы управляют миром». Не говорил такого Конфуций и не мог сказать, такой уровень абстракции не характерен для предельно конкретизированной китайской социально-политической инженерии. Читатель может проштудировать трактат Конфуция «Луньюй» и убедится, что фраза принадлежит авторству каких-то очередных околокитайских шарлатанов.
Автору «Искусства войны» Суньцзы в России приписывают фразу «используй дальних варваров против ближних» (намекая, на то, что Китай будет использовать США против России), но этого Суньцзы не писал. Выражение взято из околокитайских романов 80-х 90-х про бурную натуру Мао.
«Кризис – это возможность», нет такого выражения, хотя в словах «кризис» 危机 и «возможность» 机会 есть иероглиф 机, который примерно означает «механизм изменений(пусковой механизм)» или просто «механизм». Тем не менее, поговорка стала такой популярной, что прижилась и в некоторых речах китайских политиков, связанных с США. Собственно, известный госсекретарь США Киссинджер, тесно работавший с Китаем, скорее всего, и является автором такой «китайской» поговорки.
«Мудрая обезьяна наблюдает за битвой тигров» также измененное китайское выражение «сидеть на горе и наблюдать за схваткой тигров» 坐山观虎斗. Обезьяну здесь придумали западные интерпретаторы, тогда как истинный смысл выражения заключается в ожидании истощения противника вторым и нанесения третьим игроком удара по одному из тигров. Разумеется, макака на такое не способна. Речь идет от третьем тигре на горе – или «благородном человеке», который только похож на тигра, но гораздо умнее двоих других внизу.
«Китайские» печенья с предсказаниями, к слову, вообще появились в китайских ресторанах в США в 20 веке, где они подглядели этот «хайтек» у своих японских конкурентов – в самом Китае, вы удивитесь, вы почти не найдете такого извращения – запихивать в еду бумагу. Помните, еда для китайца – священна.
Как видите, китайцы не проводят время в ожидании трупов врагов, не боятся жить в эпоху перемен – и слишком далеки от идеализирующих их вполне приземленный дух западных обывателей.
Проклятие китайской социологии: конкуренция и непрямая агрессия, специфика самоубийств
Последние пару тысячелетий Китай представлял из себя замкнутое пространство, населенное десятками миллионов людей: с севера и запада огромное густонаселенное пространство междуречья Хуанхэ и Янцзы сковали пустыни, горы и сибирская тайга Маньчжурии, а с юга и востока – моря Тихого океана. Большинство китайских поселений представляли замкнутые ограниченные территории с большой концентрацией людей, и изначально формировались в замкнутых ареалах горных долин.
Исторически неизменный фактор сильнейшего антропогенного давления и требование регулирования жизни огромной массы населения в замкнутом пространстве – это один из важнейших факторов, который надо учитывать при анализе социологии китайского общества.
Именно антропогенное давление является ключом к пониманию многих особенностей китайского общества, политики, экономики, мышления, которую в западном обществе, особенно российском с его фактором пространства, не понимают и ищут в тех или иных особенностях китайского социума или психологии «загадку китайской души». Отгадка очень проста – китайцев всегда было на порядок больше, общество обладает «сверхплотностью» – от этого возникает ряд особенностей.
Постоянный фактор избыточного населения без возможности миграции, который налагается на семейно-клановую закрытую структуру китайского общества, ориентированную «во внутрь», рождает одно из основных его отличительных черт – социальную суперконкуренцию: последние несколько тысяч лет в Китае всегда кратно больше конкурентов, чем в Европе: на такой же площади как и в Старом Свете в Китае живет всегда в несколько раз больше людей.
В историческом плане эти факторы всегда приводили к избытку аграрного населения – краткосрочному всплеску промышленности из-за притока рабочих рук в города и роста внутреннего рынка, а потом к неизбежным внутренним войнам и смене политического строя. Не смотря на свое огромное население всю историю последних тысячелетий, как ни странно, Китай не формировал огромных завоевательных орд для того, чтобы дойти до другой стороны континента. Миллионные армии китайских субэтнических государств всегда предпочитали воевать друг с другом – как с разными народами единого Срединного государства. Вместо того, чтобы пойти на войну с очередными кочевниками в нестабильном режиме военачальники поворачивали оружие против правителя и свергали его, устанавливая новую династию. Об этом мы поговорим в следующей главе.
Китаец всегда привык, что на одно место, например, чиновника, не 10 кандидатов, а 100, на место в хорошем ВУЗе – точно также. Западный человек, наверное, подумает, что Китай – это страна где все без устали воюют друг с другом и дерутся, но избыточность этого качества рождает совсем иное качество в смену характера этой конкуренции – она становится непрямой, такой непрямой, что подчас она может прятаться и сочетаться с дружбой. Именно наличие огромного количества «социальных врагов» заставляет китайцев с самого раннего детства видеть в коммуникации и непрямых способах победы, а также самоусилении основные методы социального успеха – вовсе не победить всех в прямой открытой драке, с типичным русским лозунгом «иду на вы», а создать сопутствующие социальные условия для победы через многочисленные связи, контакты, усиления партнерств, повышенную доброжелательность и неустанное самоусиление без вступления в невыгодные конфликты. Людей так много и это настолько «вечное» состояние, что все конкурентов в прямую не победишь. То, что на западе является талантами отдельных людей в Китае является нормой – уметь в коммуникацию, уметь в связи, уметь в разговор, переговоры – так же как человек воинской культуры знает, как драться, как нападать и как защищаться и все время готовится к войне – китаец готовится к переговорам. Переговоры – это и есть воинское искусство китайца. А, война, как писал классик Сунь-цзы, это путь притворства. Именно отсюда появляется воспетый в сотнях книжек про Китай и о китайцах термин «гуаньси» 关系, который переводится как «связи» или «отношения» – связи решают все, в Китае – вообще все, поэтому им отводится такое место в культуре.
Прямая агрессия в китайском обществе табуирована – это не просто дурной тон, но и вызов всему обществу и его порядку: если завтра все начнут драться со всеми, то китайское общество ждет крах. Именно таковыми и является долго откладываемые, но все же случающиеся драки китайцев между собой – без правил и с нечеловеческой агрессией, а позже местью, которая, как можно проследить по политическим кругам, передается из поколения в поколение. Какое разительное отличие здесь с русскими кулачными боями или простыми бытовыми драками – помирились и забыли на следующий день, потому что конфликт здесь норма и его не сдерживают. Китайские внутренние войны длятся долго, если только это не короткий переворот.
Табу на прямую агрессию рождает массу характерных черт китайской культуры – отказ от прямых отрицательных ответов как актов прямой агрессии (китаец не говорит «нет»), отказ от сообщения партнерам негативной информации, тотальная система иносказаний и намеков, из которых состоят китайские тексты и речь, которые едва ли сможет расшифровать не привыкший к полутонам западный визави.
К слову, подчеркнутая и нарочитая доброжелательность также, судя по всему, является маркер высокой конкурентности в обществе – любая нейтральность, отсутствие улыбки трактуется как возможный потенциальный акт агрессии, улыбка – необходимый элемент взаимодействия с китайцами, также как соблюдение «честного слова» в России.
Китайцы в отличие от арабов, которые считают отсутствие прямого взгляда при общении неприемлемым, а также людей Запада, которые не видят в прямом взгляде ничего вызывающего – реже смотрят собеседнику в глаза. Обратите внимание, в китайском мессенджере WeChat главный смайл, отражающий улыбку опустил глаза вниз. Но и от него пользователи хотят отказаться, так как «чувствуют в нем слишком много пассивной агрессии». Пассивная агрессия – это оружие китайцев, у которых припасено десять тысяч легальных в социуме «орудий пыток», позволяющих уязвлять, принажать, высмеивать, не вступая в прямой конфликт.
Терминальным актом пассивной агрессии служат акты публичных самоубийств – чаще всего самосожжений в ответ на действия обидчика – частного лица, компании или государства. Такой акт наносит репутационный ущерб противной стороне, при этом самоубийца не наносит вреда своему лицу. Самоубийства не поощряются, но и не активно запрещаются – тем более не квалифицируются как грех: сравните с религиями Запада – не отпевать, не хоронить на общих кладбищах, не молиться. Также сравните с Западом: самоубийца накладывает на себя руки в связи со своей виной, или в иных случаях оставляет записку «прошу никого не винить в моей смерти», однако часть китайских самоубийц целенаправленно расправляются со своими жертвами, не найдя иного способа достичь справедливости и четко указывают своих обидчиков. Это не исключает случае самоубийств в связи с серьезными психическими расстройствами, а лишь демонстрирует практику «применения» направленности социальной реакции.
Китайские руководители при проведении традиционных переговоров отказываются от рассадки напротив друг друга – кресла руководителей ставятся в полоборота друг к другу. Вперед лицом к залу садится только условный «старший». Формат переговоров – лицом к лицу – западный, в Китае, конечно, он тоже уместен.
Серьезная конкуренция за место под солнцем и следующая за ней повышенная конфликтность порождают еще одну особенность китайского общества, которая служит сдерживающим конфликтность механизмом – открытая подчёркнутая иерархия. Вошедшие в переговорную комнату китайцы ожидают, когда сядет руководитель и начнет самостоятельно рассаживать их по местам, если только рассадка не прописана именными указателями. В дверь вначале входит старший и потом младшие по статусу – если статус не определен, два человека долго пропускают друг друга вперед, чтобы нарочито подчеркнуть свою показную вежливость и сознательное понижение статуса. Вежливость и комплимент через показательное самоуничижение и возвышение визави – самый распространенный способ комплимента в Китае.
Руководство Компартии Китая – ее Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии также открыто присваивает руководителям их статус в официальной иерархии – все знают, что номер два по счету в ПК Политбюро – это и номер два в иерархии партии, номер три – номер три, и так далее. Сравните с Россией или другими западными странами – Президент, Премьер – ну, а дальше с точки зрения китайцев начинается полная неразбериха. Другое дело в Китае – все руководители строго выстроены по уровню публичной иерархии. Тем не менее, когда «свет выключается» и круг выстроенный в иерархию для публики оказывается предоставлен самим себе – то никакая иерархия может не соблюдаться.
Открытая инициатива, рожденная не в коллективе также не поощряется, приоритеты в образовании отдаются следованию шаблону. Такой серьезный прессинг на личность делает китайское общество более податливым для управления при наличии общественного консенсуса и наличия одной превалирующей над другими политической или этнической общностью. Это обуславливает успехи в закреплении власти над Китаем малочисленных инородных кочевников над огромным китайским населением – рыхлое, состоящее из разрозненных и замкнутых семей-кланов общественная структура со сложной системой социального прессинга.
Разумеется, для китайского общества характерно и понятие общественной репутации – или, как любят говорить, «лица» – оно связано с усиленными групповыми инстинктами китайцев, в которых мнение группы превалирует над мнением отдельного ее участника. Поэтому высокая роль публичной репутации, мнения коллектива, публичное одобрение и регулярные похвальбы и комплименты в кругу коллектива – неотъемлемая часть китайского социума. Можете себе представить, что именно из себя представляла публичная критика и самокритика, придуманная Мао для того, чтобы расправляться со своими оппонентами – по сути это было социальная публичная казнь. После такой самокритики и публичной критики с китайцем можно уже было делать все что угодно – его личность и социальные связи были растоптаны. Такие «перфомансы» до Мао в Китае не практиковал никто. Истинный глобалист и революционер уничтожал ненавистную китайскую культуру и общество самыми изощренными способами.
Отдельные культурологические исследования классифицируют китайскую культуру – как «культуру стыда», а западную – как «культуру вины». Следовательно любая негативная деятельность за пределами внимания коллектива менее наказуема – персональная ответственность менее развита. В широком смысле китайский коллектив – это ядро из семейно-клановой структуры и облака из неродственных связей чаще всего одной географической локации, вне этой среды понятие коллектива размыто, размыто и понятие преступления вне коллектива. В этом пространстве все регулируется нормами писанного закона и правил.