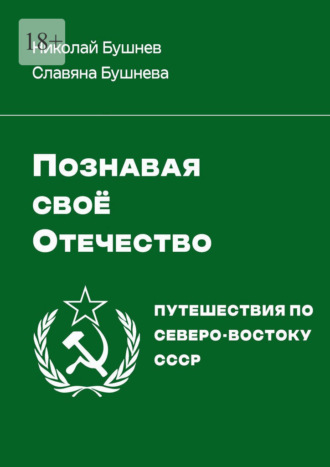
Полная версия
Познавая своё Отечество. Путешествия по Северо-Востоку СССР
– Что-то, Витя, схуднул и осунулся, даже тощее носатого Кольки стал. Видно, вес-то сбросил за эти деньки? – заметил Василий и добавил. – Ну как вы ночью-то? Ведь морозище тут у нас второй день под пятьдесят давит.
– Да с таким вот начпродом, не то что исхудаешь, ноги протянешь… Ведь надо же всю ночь на фляжке со спиртом просидел. Мёрзнем, а не дает. У него снега зимой не выпросишь, – кивая в мою сторону, отшутился Виктор.
– Ну и хорошо, что не дал, а то бы до сих пор вы там в лесу песни распевали, – похлопывая нас по плечам, ответил Василий.
Василий Моросюк, мой друг, одногруппник по институту. Мы вместе прибыли на Камчатку по направлению. Вася часто бывал у меня в Усть-Камчатске и тоже сдружился с Виктором Соляновым. Взбодрённые встречей, съев по полплитке шоколада, мы бодрее побежали по проторенной лыжне с ключевскими парнями. Лишь после нескольких километров пробега с раннего утра, я стал ощущать и чувствовать в ботинках пальцы ног. «А что бы было, ни возьми мы с собой рукава от тулупов?» – невольно подумалось мне.
На следующий день решили отдохнуть, чтобы подлечить подмороженности и потертости. Из сдвоенных лыжных шапочек смастерили себе маски для лица, вырезав в них проемы для глаз и рта – получилась хорошая защита от морозного ветра. Покрасовавшись друг перед другом в этих масках, мы довольные решением этой проблемы, убрали их в рюкзаки.
– Ну вот, парни, я так и думал, что нас с подмороженными мордами в город Петропавловск без намордников не примут, – заулыбался Солянов.
Юрий организовал нам экскурсию по старейшему на Камчатке ключескому Леокомбинату, основанному в 1932 году. Тогда этот комбинат снабжал бочковой клёпкой, ящичной тарой и малыми деревянными суденышками всю рыбную промышленность полуострова.
За прошедшие годы предприятие окрепло, увеличились объемы производства. Деловито, с надрывом гудели лебедки на лесобирже, ворочая пачки бревен, лязгали транспортеры. Тонко звенели циркулярные пилы тарного цеха. Сипло пыхтели паровые котлы электростанций, озвучивая трудовой ритм комбината.
После экскурсии в актовым зале комбината организовали нам встречу с комсомольцами. Они дружно поддержали наш почин к дате вождя Пролетариата и утвердили в поход с нами своих достойных комсомольцев.
Пополнили наш отряд три человека. Юрий Афанасьев – секретарь комсомола предприятия, которого на собрании мы выбрали командиром нашего сводного отряда, Виктор Савинский – крановщик пристани. Черноволосый коренастый добродушный человек. По возрасту он был старше всех, и это не осталось без внимания: его тут же окрестили походной кличкой «дед». И Володя Губин – электрик ключевского ДОКа – худощавый смуглый с белозубой улыбкой парень недавно достигший совершеннолетия. Это и решило его участие в пробеге.
***
Мы вышли из Ключей уже усиленной группой. Дорога извивалась по неглубоким лощинам, между увалов среди редколесья.
Леса в районе Ключей будто просветленные березняками. Здесь нет мрачных чащоб с непроходимыми зарослями. Кряжистые причудливые в обхват березы, растрепанные частыми ветрами, просторно расположились среди густого подлеска. Только в низинках сухих речек, встречаются тополя-богатыри да с шершавой корою чозения. К полудню мороз заметно сдавал, снег сверкал и искрился на солнце. Наш путь постепенно огибал подножие группы вулканов, и было невозможно оставить без внимания великолепный вид этих гигантов. Между Ключевской сопкой и вулканом Плоский просматривался острый пик вулкана Камень. Это вторая по высоте вершина полуострова Камчатка.
На привале Юрий с удовольствием поделился с нами своими познаниями:

– Ключевская сопка намного моложе вулкана Плоский, который считается потухшим. Действовал он еще в доледниковый период. Видите, с виду он невысок, а подниматься на него мало кто решается. Острые каменные гребни, отвесные стенки, ледопады – вот тебе и безобидная с виду вершина. А знаете, кто первый поднялся на вершину сопки? – Данила Гаусс еще в 1788 году. Ительмены на огнедышащие горы никогда не ходили.
Увлеченные рассказом, мы теснились у костра, попивая чаёк. Передохнув, покатили дальше.
В гостеприимной семье
Ближе к селу Майское увалы стали покруче. Быстрого бега не получалось. Стала сказываться усталость у ребят, бегущих первый день. Солнце спряталось за горы, и стало быстро темнеть. Влажная от пота наша одежда превращалась в покрытый инеем панцирь. До села оставалось немного, но силы были на исходе. Карабкаясь на очередной заснеженный подъем, Савинский остановился.
– Мне эти «Амурские волны» изрядно надоели. Может, ляжем в дрейф, капитан? – обратился он к Юрию.
– Дед, кончай дрейфить. Тоже мне «морской волк». А раз так, то волка – ноги кормят, – отпарировал Афанасьев.
Может и вправду тормознем, ведь «движки» запарим, землепроходимцы несчастные! – завопил Володя Губин.
Пришлось сделать привал. Быстрый темп в первой половине дня себя не оправдал. В Майское вошли поздно вечером. В конторе совхоза только сторож. Уставшие, толпились мы у входа, пока Юрий безуспешно накручивал в сторожке местный телефон.
Из дома напротив вышла моложавая энергичная женщина и подошла к нам.
– Ребята, а ну быстро ко мне в дом. Что же это вы на таком морозище. Господи, да еще и в ботиночках. Быстро, быстро! – скомандовала она.
Анастасия Васильевна Андреева, экономист совхоза, и её муж Александр Алексеевич, терапевт, радушно приняли нас. У Анастасии Васильевны оказались «золотые руки». Разместив нас в одной из комнат, она с неимоверной быстротой стала заполнять стол разными закусками. Жарче затопилась печь. Не успели мы отойти от мороза, как на большой сковороде зашкварчали жареные пирожки. Немного времени – и целый таз отдающих жаром пирожков стоял на столе.
– А теперь к столу. Отведайте-ка. Сейчас согреетесь, и понесло же вас в самые морозы. Вон что со щеками-то понаделали. Да как же это вы пешком-то. До города аж. А ты-то совсем малец, но туда же! – Обратилась она к Губину. – Я бы своего в жизни не пустила, – приговаривала она, придвигая ближе к нам тарелки с борщом. Ошеломленные таким для нас поворотом дела, мы принялись за еду, удивляясь искусности хозяйки и гостеприимству этой семьи.
Наутро, распихав нам по рюкзакам оставшиеся пироги, хозяева тепло проводили нас в дорогу, и я подумал: «Надо же, так добродушно встретили и проводили, как родных. Точно! На Камчатке народ – золото».
Нерестовое озеро – колыбель жизни
От Майского до Козыревска не более 30-ти километров, поэтому шли не спеша – в накат. Первый привал сделали на развилке дорог. Быстро развели два костра, дабы разместить все «котелки»: жестяные трехлитровые банки из-под томатной пасты. В них снег намного быстрее таял, чем в стандартных алюминиевых котелках, и превращался в клокочущий кипяток. Крепко заварив чай, мы разливали его в рядок поставленные кружки, не скрывая удовольствия от такой оперативности.
Узкая, плохо прочищенная дорога от реки уходила к рыбразводу. Это – станция по изучению и разведению рыбы лососевых пород. Домики для обслуживающего персонала прижались к берегу Ушковского озера, в которое вдавались сооружения на сваях. Прогибающиеся скрипучие мостки позволяли попасть в любое место под навесом, где находились погруженные в воду десятки лотков с тысячами икринок рыб. Незамерзающее озеро – естественный инкубатор. На берегу лежали штабелем замороженные тушки зимнего кижуча, отдавшего свою икру для науки. Тушки эти приготовили для отправки в совхоз на кормокухню. Целую лекцию выслушали мы от влюбленного в свое дело директора рыбразвода:
– Превращение икринок в мальков происходит за 4—5 месяцев. Весь жизненный цикл у кижуча составляет всего полтора года, а самый продолжительный у кеты: длится около шести лет. По чешуе лосося можно определить возраст рыбы, – увлеченно рассказывал он.
– Значит, чешуя лосося вроде бы паспорт, – встрял вездесущий Виктор.
– А озеро наше знаменито еще тем, что здесь в 1963 году обнаружена древнейшая стоянка человека – обитателя Камчатки. По раскопкам ученые установили, что костры древнейших рыболовов и охотников на мамонтов горели здесь около 150 тысяч лет назад, – продолжал директор.
– Жаль, что не летом сюда попали, посмотреть бы раскопки, – вслух искренне пожалел я.
– Приезжайте, археологи каждой год здесь работают.
Остаток пути до Козыревска мы только и говорили о рыбах и дикарях.
– Рыбразвод звучит солидно, но уж больно тут убого. Наверное, толку с него мало. Лишь гольцов откармливают этими мальками. Ведь молоди надо прошмыгнуть через все озеро, чтобы попасть в реку Камчатку и по ней выйти в океан для нагула. А озеро кишит гольцами – хищниками для них. Чего бы не устроить лоток или трубу какую для мальков, а не выпускать их через озеро, – рассудил Виктор.
– Как же так? С годами важность этого дела возрастает не только для Камчатки, но и для всей страны, а убожество рыбразвода почему-то много лет неизменно. Правда, «сдвиги», есть за последние годы в посёлках появились объявления, которые приглашают рыболовов-любителей на безвозмездный отлов в озере жирного гольца. Становится ясно, что даже такое необходимое для страны дело умудряются делать формально, для галочки в статотчет, – сделал вывод журналист Александр.
По таёжному краю
Козыревск – посёлок, увековечивший память о казаках-землепроходцах Камчатки Степане и его сыне Иване Козыревских. Селение Козыревск раньше находилось у устья реки Козыревки при впадении ее в многоводную Камчатку. Позднее хозяйственные переселенцы перенесли селение ниже по течению Камчатки, на крутой неподмываемый яр, поближе к нерестовому озеру.
Ныне Козыревк – сердце лесозаготовок Камчатки. С 1930 года здесь начались промышленные заготовки. И ныне, куда ни глянь, вокруг всюду лес. Рубленные дома и здания, у каждого двора высокие поленницы дров, заготовленные впрок. На лесоскладе высятся штабеля бревен, то и дело из тайги лесовозы ЗИЛы и МАЗы – подвозят пачки хлыстов – словно попадаешь в какое-то деревянное царство.
Разместили нас в спортзале средней школы, а вечером мы уже были на встрече. Аудитория собралась что надо. Шустрая, краснощёкая гвардия школьников буквально засыпала нас вопросами.
– По сколько километров проходите в день?
– На каких лыжах идёте?
– Не холодно ли?
Но несмотря на непоседливость, они слушали нас внимательно. В Козыревке к нашему отряду присоединились еще два комсомольца. Дизелист электростанции Геннадий Верёвкин – среднего роста, черноглазый с впалыми щеками. Весь его облик источал силу и уверенность в себе. Геннадий принадлежал к типу людей, которые больше слушают чем говорят. А Виктор Тен – самый молодой участник перехода (ему еще не было восемнадцати лет) методист производственной гимнастики леспромхоза. Сухощавый, небольшого росточка, Виктор и на вид мало подходил к должности, которую занимал. Но дело своё знал.
От Козыревска до следующего посёлка Атласово напрямик по «телефонке» 80 километров. Мы, Усть-Камчатцы, решили заменить лыжи, так как наши «дровишки» стёрлись так, что снизу оголились шурупы от креплений.
Рано, почти затемно, начинается рабочий день в леспромхозах. И в 7 утра мы уже бежали по лесовозной дороге в сторону Крахчинского лесоучастка, а навстречу нам шёл первый груженый лесовоз. Рассвело, когда мы вкатили на Крахчу. Так называемый, лесосклад издали был похож на муравейник. Трещали передвижные электростанции. Жужжали электропилы, бригады рабочих распиливали хлысты леса на брёвна. Раздетые, несмотря на мороз, они ловко орудовали крючьями, взваливали эти кругляки на подсанки, в которые запряжены мохнатые от инея большемордые лошади. Повсюду неслись окрики, брань на особо ретивых коней.
Разгоряченные люди и лошади, не стоящие на месте, окутаны паром, чуть розовеющим в первых лучах солнца. Я с удивлением смотрел на захватывающую трудовым азартом работу бригад.
– Ну дела… Лошади на сортировки леса! Вместо транспортеров. А как же бревнотаски хотя бы без программного управления? Я-то думал, что лошадки – это каменный век нашей промышленности. После этого стоило ли дивиться старой технологии работ, которую нам с Виктором пришлось увидеть в Ключевском лесокомбинате. До сих пор в ушах – визг и звон циркулярных пил тарного цеха, лязганье транспортёров, надрывное гудение лебедок лесобиржи и пар от паровых котлов электростанций – своеобразный оркестр пережиткам прошлого.
Неподалёку от ямы, в которой горели отходы от хлыстов, бытовка мастера. В ней жарко от печурки. Пожилой мастер Грозов – практик, знаток лошадиных сил и леса – своими практичными знаниями открывает нам глаза на многое. Хоть и сомневаюсь я в чем-то, но вроде бы он прав. Мне невольно наворачивалась мысль: «Как же велика разница между технологиями книжными и теми, что наяву. Неужто и впрямь, как говаривают, «забывай индукцию, дедукцию, а выдавай продукцию»?
***
С Крахчи бежим по просеке «телефонки», которую ограничивает островерхий лиственничный лес, изредка посеребренный березами. В таком однообразии время тянется долго. Снег тут без наста, рыхлый, чаще меняемся торить лыжню. После очередной чаевки раскрасневшийся Виктор Солянов встал за ведущего и мощно взламывая снег, навязал очень быстрый темп. Вытирая испарину со лба, «дед» кричит Юрию Афанасьеву:
– Командир, уйми этого «красного буйвола»: ребят козыревских загоним. Ведь не втянулись ещё.
Далее лес стал отступать к горам, и мы вырвались на простор тундры. В народе ее называют «Шурупники». Огромное безлесое пространство уходило под самые отроги вулкана Толбачик, белый конус которого подпирал небо. Какая бы ни была многоснежная зима, здесь, за вулканом, снега выпадает самую малость. Видимо, Толбачик своею громадой прикрывал эти места от господствующих зимних ветров, приносящих пурги. Из-за малости снега прошлогодняя трава путала лыжи. Уклоняемся от прямого пути, выискивая больший снег, бежим вдоль кустарников. Обогнув очередные заросли увидели с десяток мирнопасущихся одичавших лошадей. Длинногривый табун стремглав понесся в сторону малоснежной тундры под вулкан. Рыжеватый простор Шурупников, громада вулкана Толбачик и скачущий табун – экзотика да и только!
Дикий олень и Камчатка совместимы, а дикие лошади как-то не вяжутся с моим представлением о Камчатке, но факт.
Припоминаю разговор с мастером Грозовым, который жалел, что лошадей почти всех извели. Осталось в леспромхозе всего пять десятков, а раньше был табун в 500 голов. На Шурупниках круглый год и выпасали их до 3—4 летнего возраста, а потом оттуда брали лошадей в работу: «Знать, не всех выбрали» – подумал я.
Петляние по провальным снегам в тайге и по косматой тундре Шурупников, изрядно вымотало нас. К концу дня особенно чувствовалась разница от того, какой ты идешь по лыжне – первым или восьмым. Первому всегда труднее.
По пути прошли несколько заброшенных посёлков (бывшие лесоучастки 30—40 годов). Полуистлевшие бревенчатые бараки с перегородками комнат из жердей. В каждой такой клетушке жила семья переселенцев, приехавших осваивать Советский Дальний восток.
Тяжелое зрелище: покосившиеся стены, проваленные крыши, зияющие пустотой зеницы окон. Какая-то тоска и печаль давят, когда смотришь на места, откуда ушла жизнь. А тут еще невезуха: у меня сломалась лыжа. Пришлось соединить «русским клеем» – гвоздями, которые удалось выдрать из развалин барака. Так и брел – одна лыжа короче другой.

Вечерело, когда мы из зарослей пойменного леса буквально вывалились на накатанный зимник. До Атласово оставалось недалеко. Густой лес по обе стороны дороги казался темной зубчатой стеной, но восходящая луна напрочь разбивала это представление. Большая и красноватая, она будто заблудилась в ночном лесу и безуспешно пыталась выбраться из паутины веток.
Ночью, гремя насквозь промороженными куртками, мы вкатили в Атласово. Посчитали: за день по бездорожью протопали 86 километров. Рекорд, не рекорд…, хотя мастера спорта из пробега «Метелица» за день бежали и поболее, но у них тропа, по сравнению с нашей таёжной – асфальт.
***
Поселок Атласово – центральная усадьба Камчатского леспромхоза. Это самый молодой поселок лесорубов. Дома – коробки из бруса и брёвен, похожие друг на друга, стоят в строгих рядах улиц. Чувствуется стандарт типового проекта, отчего поселок кажется менее уютным, чем другие.
Поселок относится к Мильковскому району. От Атласово наш путь будет только по зимней автотрассе, ведущей до районного центра – села Мильково. Теперь – прощай, мягкая лыжня. В беге по жесткой, промороженной и скользкой автодороге, наверное, руки будут важнее ног.
Розовым морозным утром мы вышли из Атласово. Через три часа бега. Дорога наша вдруг запетляла по зарослям елового леса. Зеленые кроны, заваленные снегом, причудливые пни, солнечные лучи, кое-где пробивающиеся в темноту леса – сказочная красота. Хотелось верить, что места эти нехоженые, заповедные, как вдруг из-за поворота вылетают один за другим грузовики и, мчась по трассе, увозят на себе эту красоту виде лесопродукции. В полдень свернули на лесовозный «ус», чтобы попасть на деляну к лесорубам почаевать.
Треск движка электростанции, урчание бульдозера, сизые дымки стрекочущих бензопил – всё это как-то не вяжется с заснеженным безмолвием тайги. Три рубленых вахтовки и вагон – столовая сгрудились у тепляка – крытой траншеи для стоянки тракторов. Страсть как хочется посмотреть работу вальщика леса в деле. Да, и всё хочется обсмотреть.
В Усть-Уамчатске лишь тундра, такого не увидишь. Трактор-трелевщик захлебываясь от рыка, натужно переползал чрез заснеженную валёжину. Он вытаскивал пачку длиннющих хлыстов на волок. Поблескивая гусеницами, подмял под себя небольшую березку и, крутнувшись в сторону, ткнулся в молодую ель. Когда рассеялось облако снежной пыли, слетевшей с кроны красотки, ели как не бывало. «Зря он так, жаль такую елку», – пожалел я.

Мастер леса Фролов Яков Павлович – практик. Приветливый дядька, он своим рассказом о технологии лесозаготовок немного успокоил меня. Оказывается это у них технология такая – условно-сплошная рубка. Для возобновления леса на делянах они оставляют куртины зрелого леса – семенников. Может, это мне с непривычки к делам лесозаготовителей, но видок после такой технологии – жуть! Не зря говорят «лес рубят – щепки летят». Всё же ёлку он мог и не давить, – размыслил я, всё ещё сожалея о таёжной красотке.
Лишь во второй половине дня от лесорубов из заснеженной лесосеки мы вновь вышли на автостраду. Юрий заметил:
– Парни, много времени и сил потеряли на лесных сугробах. По дороге будем нагонять время, чтобы к вечеру быть в Мильково, – и обратился к Виктору. – «Красный буйвол», веди первым, да без рывков, а то я гляжу, ты резервную плитку шоколада уже догрызаешь.
Наши опасения о беге на лыжах по промороженной дороге не напрасны. Была большая нагрузка на руки, удерживающие равновесие на скользких местах. Лыжи часто разъезжались в стороны, проскальзывали под ногами, нарушали темп хода. Уже на подходе к Мильково «дед» Савинский, неудачно скользнув, упал и сломал лыжину. Как мы ни мудрили, но использовать её дальше было невозможно. Можно было бы его отправить на попутке, но дорога из Атласово в Мильково, официально ещё не существовала, и по ней редко пробиралась грузовики снабжения УРАЛы, либо бензовозы, завозя топливо для дизельных электростанций поселений. Поэтому ждать у дороги попутки, это как «ждать с моря погоды». Пришлось ему идти на одной лыжине. И на редкость выносливый крепыш Савинский почти 10 километров «проскакал» до Мильково.
Районный центр – большое село, и нас там ждали. Уже в сумерках поселили в Доме Культуры, в большую комнату с двумя кирпичными круглыми печами-галандками. Умаявшись за дорогу, вскоре мы уже спали в тепле на раскладушках.
Следующий день выдался опять морозным. Заиндевевшие тополя, хвосты дыма над трубами домов и котельных придавали селению уютную притягательность. Над нами, чуть не касаясь верхушек тополей, со стрекотом планировала «Аннушка» и садилась сразу за селом, подняв шлейф снежной пыли. Сразу чувствовалось, что это районный центр.
Интересная судьба выпала на долю Мильково. Это единственное селение Камчатки, основанное ни охотниками, ни рыболовами или лесорубами, а крестьянами с берегов Лены, которых переселили сюда в середине 18 века. Глубокие корни у мильковского земледелия. Кроме того, в те далекие времена мильковчане с большим искусством выделывали ткани из волокон крапивы. Вот что писал об этом Карл Фон Дитмар, путешествующий по Камчатке в 1852 году: «При нашем посещении деревни Милковой, мы видели немало очень удачных образчиков крапивного полотна. А двум девушкам даже вручили премии, присланные Санкт-Петербургским Экономическим обществом. Для одной из них назначена брошка, для другой – серьги: брошь и серьги золотыя с гранатами. К нашему удивлению обе отказались от подарков, мотивируя свой отказ тем, что их костюм не вяжется со столь богатыми украшениями».
Скромность коренных жителей Камчатки, камчадалов, и сейчас заметна.
Вечером в этом же районном Доме Культуры состоялась встреча с молодежью райцентра. После обмена докладами о делах комсомольцев Мильковского и Усть-Камчатского районов тут же за высокие производственные показатели в Социалистическом соревновании отличившимся вручали грамоты и подарки. Мильковский – ведущий сельскохозяйственный район на полуострове. После концерта художественной самодеятельности комсомолки пригласили нас остаться на танцы. Мы, сославшись на ранний выход в путь, отказались и ушли в свою комнату перебирать рюкзаки, готовясь в дальнейший путь. До нас доносилась бодрящая музыка, и Виктор Солянов обратился к Савинскому:
– Слышь, «дедусь», может пойдём покажем им настоящего «джазу».
– Ага, с такими обветренными мордами всех девчат распугаем. Завтра на трассе натанцуемся, – возразил тот.
– А ты и сегодня несколько вёрст отплясывал, как кузнечик скакал на одной ножке. Я даже боялся, как бы твоя толчковая нога из задницы не выдернулась, – ухмыляясь, продолжал Солянов.
– Вот, балабол, неугомонный, – отмахнулся Савинский.
К перевалу
На следующий день мороз заметно сдал, облегчая нам ходьбу на новых лыжах, которые нам предоставил местный райком комсомола. Первый привал сделали на берегу реки Камчатки, у места первого русского острога Верхнекамчатск, основанного тут в 1697 году Владимиром Атласовым.
– Вот она, резиденция сборщиков ясака! – высокопарно заявил Волков, показывая на бугристую местность, заметённую снегом, и продолжил. – Представляете: вот тут частокол, там – колокольня. А… как смотрится?
– Нет! – категорично отрезал Виктор. – Вон там к речке пивбар с пельменной поставь, Сашенька, – с деланной серьезностью ввернул Солянов.
Ребята засмеялись, Александр махнул рукой и произнес:
– Дикари, что с вас возьмёшь. Бродите по своей земле, а толком не знаете и не хотите знать историю. Вы хоть слышали, что реку Камчатку ительмены называли – Уйкоаль. Слышите? Как красиво звучит! А вот солнце – Коачь, заря – Завина…
– Ладно, не кипятись, Саня, давай кружку, а то кипяток стынет. Кое-чего и мы знаем, – вступил в разговор Афанасьев.
– Сейчас будем проходить речку Грешную. Почему так называется? – не унимался Волков, и мы заинтересованно поглядели на него. – То-то! Да потому, что на её берегу приводили в исполнение приговор всем виновным в камчадальском бунте, который возглавлял Федор Харчин в 1731 году. Много тогда камчадалов и казаков кнутом посекли, а кого и повесили по приказу подполковника Василия Мерлина. Вот с тех пор эта речка и место зовётся Грешной, – пояснил Александр.
– Ну ты даёшь, Саня, где ты начитался всего этого? – удивленно произнес Cавинский.
– Работа такая, почитывать приходится, – ответил тот.
Втянулись, идем бодро, легко. Без захода в селение Шаромы и Пущино мы заметно приближались к безлесной унылой долине, высокогорной Гональской тундре. Она является своеобразным перевалом всей Камчатской долины, то есть водоразделом полуострова. С этой тундры река Камчатка бежит на север, а река Белая устремляется на юг полуострова.
Во все времена года здесь дуют ветра. Летом они несут холодную влажность океана, а зимой – снежные тучи, причины свирепых пург в этих местах.

Ю. Афанасьев, В. Солянов, Н. Бушнев
Чем ближе мы продвигались к тундре, тем заметнее отступал мороз. С юга в долину наползала серая мрачность. Дорога потянулась вдоль горного Валагинского хребта, изрезанного каньонами, и всё дальше втягивала нас к главному перевалу Камчатки. Постепенно дорога стала прижиматься к Ганальскому хребту. Горные востряки этого хребта снежным огромным валом нависали над автострадой, по которой нет-нет да и пролетали работяги-грузовики. Погода заметно портилась. Вершины востряков стали кутаться в наползающие на них тучи. Перевалив очередной небольшой увал, мы увидели у обочины дороги грузовик с раскрывшимся бортом, а сбоку вывалившиеся из него трубы и швеллера. Шофёр, моложавый юркий парень, буквально бросился к нам:

