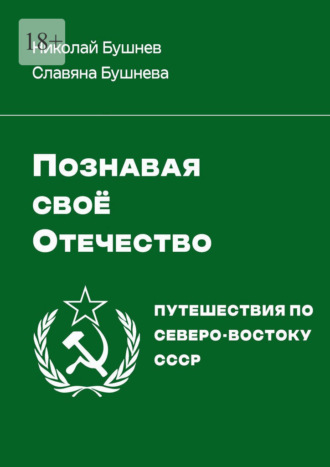
Полная версия
Познавая своё Отечество. Путешествия по Северо-Востоку СССР

Познавая своё Отечество
Путешествия по Северо-Востоку СССР
Николай Бушнев
Славяна Бушнева
«В небытие поулетели,
Походы наши, песни, что мы пели.
Друзья уже все постарели,
Иных и вовсе с нами нет.
А я открою вам секрет:
Только память душу греет,
Поскольку ПАМЯТЬ – не стареет!»
Николай Бушнев© Николай Бушнев, 2025
© Славяна Бушнева, 2025
ISBN 978-5-0065-7759-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
П О С В Я Щ А Е М…
Сопричастной к этим путешествиям
Татьяне Николаевне Бушневой —
моей жене… и моей маме…
Николай и Славяна
Предисловие
С точки зрения человека, жизнь – длинна, если он активно взаимодействует с четырьмя-пятью поколениями окружающих его людей.
А с высоты бытия человечества в целом, данная жизнь – МИГ.
В жизни, как утверждал поэт Николай Заболоцкий:
«… Два мира есть у человека:
Один, который нас ТВОРИТ,
Другой, который мы от века
ТВОРИМ по мере наших сил…»
Так вот, путешествия относятся к первому. Поэтому живите активно. Путешествуйте! Познавайте – прежде чем творить себя.
По большому счёту: человеческая жизнь – это ПУТЕШЕСТВИЕ, выпавшее на его долю. И неведомо легкое или трудное будет оно, но очень важно и желательно, чтобы оно было для человека познавательным, увлекательным и полезным.
Быстро пролетело много лет. Мне перевалило за восемьдесят. Как-то на глаза попались мои давние заметки и зарисовки, сделанные в походах и путешествиях в молодые годы. И мне захотелось окунуться в них. Я открыл папку…, и прошлогодней листвой зашелестели страницы дневников, погружая меня в воспоминания и размышления…


Лыжня в 1000 км
Начало пути
Вот и наступил долгожданный день. Позади остались многокилометровые тренировочные гонки и все волнения, и хлопоты, которых всегда в изобилии на пути от идеи до её воплощения.
Первый этап пробега, утверждённый райкомом комсомола, предстояло начинать втроём до соединения с комсомольцами из посёлков Ключи и Козыревска в сводный отряд Усть-Камчатского района.
У места старта, перед зданием Райисполкома, стоял фанерный щит с надписью:
«… Лыжня в 1000 км. Усть-Камчатск – Петропавловск. 16 января в 10 часов отсюда будет дан старт крупнейшего лыжного пробега Камчатки, посвящённого 100-летию со Дня рождения В. И. Ленина. Стартуют комсомольцы Усть-Камчатска: Николай Бушнев, Александр Волков, Виктор Солянов. Счастливого пути!»
Идею перехода мы с Виктором Соляновым изложили в Усть-Камчатском райкоме комсомола. Нас поддержали и стали организовывать как акцию областного масштаба. В начале желающих было много. Не теряя времени, мы с Виктором загодя начали тренировки. Пригрузившись рюкзаками, бегали по заснеженной тундре на 18—20 км от Усть-Камчатска, задавая себе перегрузки на выносливость.
К началу пробега от всех желающих нас осталось троё. Сотрудник районной газеты «Ленинской путь» Александр Волков, серьёзный парень. Его лицо всегда выражало озабоченность. Виктор Солянов – мой товарищ и напарник по работе – инженер Усть-Камчатского лесоперевалочного предприятия. Весной этого года он вернулся в родной свой Усть-Камчатск по окончании Ленинградской лесотехнической академии. Этот неукротим во всём: в говоре, в шутке и в силе. К тому же с хозяйской жилкой. При сборе только и слышно от него: «Идёшь на день – бери на три», «Не полопаешь – не потопаешь». С ним я в любое мероприятие.
Собрались в дорогу мы с Витькой основательно. Сухари, ватники, носки, а вместо гетр, поверх лыжных ботинок приспособили рукава от тулупов. Захватили и инструмент для походного ремонта лыж, аптечку и, конечно же, еды с запасом. Короче, рюкзаки увесистые.
Завтра утром – старт. У Райкома комсомола повяжут нам нагрудные ленты с изображением Владимира Ильича – символом юбилейного пробега – и на много дней в путь.

Н. Бушнев, В. Солянов
***
16 января 1969 года
Тянутся последние минуты. Набрасываем на плечи рюкзаки, пристёгиваем лыжи. Мною овладело волнение. Гляжу на своих спутников, но они ничем не выдают своего душевного состояния. Первый секретарь райкома комсомола Надежда Мартынова повязывает нам нагрудные ленты с изображением Ильича. Взмах флажка, и заскрипел снег под лыжами, заглушая последние напутствия товарищей. Со старта мы бодро пробежали по центральной улице посёлка и взяли курс на Нижнекамчатск в сторону белеющей гряды гор. С дальнего горного хребта уже сошёл румянец восходящего солнца. Тундровый снег в пятнах наста.
Идти по такому покрову чрезвычайно трудно – шагнёшь несколько раз и тут же проваливаешься в рыхлый ненастовый снег. Шаг-два и снова выбираешься на твердый островок наста.
Но с первыми силами мы упорно ломились по провальному снегу. Набитые рюкзаки давали о себе знать, и наш темп со временем снижался. Стали торить лыжню поочередно. А когда преодолели первые двадцать километром и стали приближаться к предгорьям вулкана Шивелуч, снег и вовсе стал рыхлым – убродным. Вот где пригодились-то наши тренировки, а Санек сдал: плетётся сзади.
Закрадывается мысль, что зря не взяли нарту, как комсомольцы сороковых, которые делали переход по этому же маршруту. На фотографии тех лет, что довелось мне видеть, запечатлены крепкие парни с винчестером и упряжкой собак, так сказать, в полном снаряжении.
– Втянемся – полегчает. Зато докажем возможность облегчённого пробега, – успокаивает Виктор.
Заброшенный посёлок Чёрный яр – некогда отделение рыбколхоза. Завалившаяся землянка у берега реки Камчатка, два ветхих домика да покосившийся жердевой забор, некогда разделявший усадьбы – всё что осталось от селения. Разводим костер у полуистлевшего рыбацкого кунгаса, торчащего из-под сугроба. Неподалеку с крутого яра свисает судёнышко с обветшалыми рублеными бортами из растрескавшихся брусьев. Над заметёнными остатками поселка этот катерок сиротливо темнеет, напоминая о минувшей деревянной эпохе Камчатского флота. Скоро и эти немые свидетели былого поглотятся рекою вместе с обрушивающимся берегом. Теперь речные катера не чета этим сорокосилкам. Новые катера Т-63 в сто пятьдесят «лошадок» ныне и плоты за 1000 кубометров уже делают. Виктор пробрался до судёнышка, похлопал по тёмным брусьям борта и заявил:
– Мне отец сказал, что портовики скоро получат трёхсотсильные буксиры, чтобы плоты больших объёмов таскать.
Я ухмыльнулся:
– Трёхсотсилки в нашей реке – смех. Смысла нет. Гидрология реки всё равно не даст увеличить объёмы плотов для сплава. Водность реки, её лимитирующие радиусы поворотов, глубины перекатов, а главное – условия ошвартовки плотов в низовьях реки, у нас на аванрейде, где действуют приливы и отливы океана.
В разговор вмешался Александр:
– Не забывайте, что река-то наша нерестовая. Вы и так, «дровосеки», её захламили, да ещё эти большие буксиры дно реки размывать станут. Воду мутить. Какое тут воспроизводство рыбы будет?
– Ну, навалились, ретрограды. Давайте-ка по кружке чая тяпнем за первую двадцатку пробега. Размялись изрядно: это не по лыжне бежать, – заметил Виктор.
Вскоре, забросив рюкзаки за спины, мы двинулись.
За Чёрным яром тундра кончалась, и нам пришлось прижиматься к лесистым холмам отрогов горного хребта.
Драгоценная старина
Войдя в холмы, поросшие причудливой каменной березой, мы направились по просеке вдоль столбов телефонной линии связи, то и дело вспугивая белых куропаток.
Телефонка рассекала березовые заросли, то скатываясь вниз, то поднимаясь по пологим холмам. Пройдя таким образом ещё около двадцати километров, мы подошли к старинному русскому селению Нижнекамчатску. Полтора десятка заброшенных домиков и остатки рубленной еще в 1827 году церкви – всё, что ныне осталось тут от бывшей «столицы» Камчатки. Занесенные снегом строения рассыпались на возвышенном берегу речки Радуги, впадающей в главную реку полуострова Камчатка. Напротив селения на другом берегу Камчатки приютилось среди гор озеро Ожабачье, великолепное своей красотой в любое время года. Соседство реки, гор и озер придает этой местности живописных вид. Пробираясь по сугробам, мы подошли к церкви, от которой сохранилась лишь часть стен и немного перекрытия. Добротно срубленные стены из окантованных крупных лиственничных брёвен почерневших от времени, которые были в глубоких трещинах. Даже такая она возвышалась над придавленными снегом развалинами домов и сараев селения, вызывая щемящую душу жалость к умирающему прошлому.
– Вот она – драгоценная старина. Эта церковь Успения Божьей матери, – блеснул познаниями журналист Волков и добавил, рассматривая стены. – Говорят, без единого гвоздя делана.
Усталость и сгущающиеся сумерки не дали нам детально обследовать церковь, и мы заспешили к жилью. Жилой дом оказался бытовкой связистов, которые неподалеку отсюда ремонтировали опоры воздушного перехода линии связи и обустроили этот дом для жилья. Чем ближе подходили мы к дому с дымящей трубой, тем сильнее чувствовалась усталость. У входа в дом парни из Усть-Камчатской рембригады кололи дрова. Хорошо нам знакомые, они весело встретили нас, засыпая вопросами и шутками.
– Здорово, Витёк! Куда это вас понесло?
– Санька, что-то у тебя очки заиндевели, однако, душновато тебе? Это не в устьях сидеть у моря, тут в долине – морозы. Сегодня уж за 20 градусов перевалило.
– Одичали вы тут, газет нет, так хоть приёмник слушать надо. Тогда и знали бы, куда мы идём, – ответил им Виктор.
Вместе с клубами морозного воздуха ввалились мы в жарко натопленное помещение: теплота, тусклый свет от движка, тарахтевшего у дома, сизоватый дым табака от курильщиков. Большой стол среди комнаты. Койки в два яруса и доброжелательность хозяев придавали особый уют. После ужина с крепким чаем силы заметно покидали нас. От рюкзаков плечи совсем онемели, руки трудно было поднять без боли. Обыденный разговор с ребятами сам собой перешел на бытность Нижнекамчатска. Я лежал на кровати, наслаждаясь горизонтальным положением, и блукал глазами по рассохшимся брёвнам стен, дощатому крашеному потолку и готов был уснуть, не принимая участия в беседах. Но тут я услышал разговор, который меня заинтересовал. Как ни лень, а я потянулся за блокнотом.
Плотный пожилой связист, сидевший рядом с Виктором, говорил ему:
– Раньше, паря, у нас в Усть-Камчатске церковь, что была при старом монастыре для увечных и пожилых казаков, слыла как самая богатая на Камчатке. Тогда она Успенской пустынью звалась. В ней было много позолоченных икон, крестов, еще со времен казаков-первопроходцев. Сказывали, что даже Иван Козыревский, когда монашил, то с Якутска сюда церковную утварь привозил. А вот эту церковь в Нижнекамчатске гораздо позже построили, но тоже богатая была. Ты знаешь, паря, мой друг, из рода священника Камчатки Лонгинова, мне сказывал, что ещё, когда уходили в плавание в Русскую Америку за пушниной, то промысловики да и купцы дорогие дары подносили этой церкви за благословение их на эти походы. Из разных городов: Иркутска, Тобольска, Москвы и даже из Киево-Печёрской лавры – сюда иконы привозили. Во как! Значимая была эта церковь, от того и богатая. А позже, как Аляску продали, всё тут стало хиреть. Народец отсюда убывал, и приход для церкви стал бедным. А уже после революции, когда монахи из Усть-Камчатской обители поняли, что старая власть уже не вернётся, они тайно наняли каюров лучших собачьих упряжек, ночью загрузили нарты драгоценной утварью и айда сюда в Нижний. Тут-то поглуше было, однако. Так вот, прикатили сюда, упряжки в церковный двор загнали, а каюров всех спиртом упоили. На утро те свои пустые нарты разобрали и в радости от хорошего их привечания, пустились обратно.
Вскоре иконы и утварь из этих церквей упаковали, и все служители церкви и монастыря покинули эту обитель. Может, с белогвардейцами на север отступили, а, может, где и прикопали ценный груз до лучших времён. Поди, разберись теперь. По приходу красноармейцев Чубарова в эти места, церковь оказалось пуста, службы в ней уже не было. Куда эти драгоценности делись, паря, до си неведомо. Однако, слышал, когда посёлок-то этот совсем захирел, то один из тех каюров переселился сюда из Устей, так и жил здесь до старости. Авось, чего и искал, кто знает, – закончил он и обратился к Виктору. – Ложись-ка ты, паря, отдыхать, вижу глаза-то посоловели.
Борясь со сном, я подумал: «Интересно… Даже сравнительно недавняя история края, а как занятна. Как бы поглубже историю Камчатки узнать и чего тут музей или заказник не устроить. Церковь-то совсем на дрова порастащат, а жаль. Камчатские Кижи для туристов устроить бы можно. Тем паче при такой вокруг природе».
По соседству Санька Волков, разморясь в теплоте бытовки, рассопелся невмочь:
«Спит, шельмец! С таким соседом и мне против сна не устоять», – мелькнула мысль, и я устроился поудобнее на провисшей панцирной сетке кровати. В голову лезли назойливые мысли о кладах, кладоискателях, но равномерное и протяжное посапывание уже и Виктора мою борьбу со сном сделало безуспешной, и я уснул.
Утром стояла солнечная и морозная погода. Я вышел из бытовки и еще под впечатлением от вечернего рассказа связиста окинул взором окрест заброшенного посёлка с прицелом, где же тут можно будет летом покопаться на удачу.
***
После плотного завтрака у ремонтников мы тронулись в путь. Тут, подальше от Тихого океана, мороз всё крепчал. Снег скрипел и повизгивал под лыжами, вскоре мы выкатились на лед реки Камчатки, где крутые лесистые сопки сжимают реку, и кроме как по льду на лыжах не пройдешь. Это место в народе называют «щёки». Тут река рассекает горный хребет Кумрач и вырывается из камчатской долины на просторы приморской тундры. В этой щели между гор часто дует ветер. И сейчас, морозный, он дул нам навстречу, обжигая лицо и забивая глаза позёмкой. Быстрой ходьбы не получилось. Часто приходилось прятаться от ветра в береговых скалах, чтобы отогреть окоченевшие колени и руки. Чуть отогреемся и пробираемся дальше. Ветер срывал остатки снега со льда и причудливыми волнами гнал его прочь. Лишенный снега, поблескивая на солнце, лёд иногда сменялся торосами – смерзшейся шугой, которую приходилось обходить.
Лыжи проскальзывали на льду, и мы буквально ползли навстречу пронизывающему ветру. И только в полдень, пройдя эту «трубу», вышли на простор и, свернув от реки к лесу, смогли развести костер. Набив котелки снегом, вскипятили столь желанный чай. Отдых добавил сил и настроения. Мы пошли легче, соблюдая ритм хода и чаще меняя ведущего. К исходу короткого зимнего дня добрались до местечка Камаки.
Здесь раньше находилось селение ительменов, а ныне стоит единственный домик связистов. Рядом с ним, у сарайчика, на привязи свора нартовых собак, которые всполошили окрест неистовым лаем на чужаков. Из дома быстро вышел хозяин:
– Цить, цить, – застрожился на них он и, выхватив торчащий из снега остол, пригрозил разъярённым псам. Сбросив рюкзаки и сняв лыжи, мы с огромной жаждой тепла прошли за хозяином. Линейный монтёр-обходчик Медведев Василий Терентьевич заговорил:
– Вот и гостей Бог послал, а то никто долго не наведывался. Совсем заскучал, только с собачками и говорю.
Черные курчавые волосы, посеребренные сединой, и разрезанное морщинами лицо выдавало его возраст, но походка и движения у него были еще легки. Подбрасывая дрова в печку, он приговаривал:
– Располагайтесь, согревайтесь. Сейчас картошечку под рыбку малосольную заварим, чайку закипятим.
И он из-под топчана выдвинул ящик с картошкой.
Тут Юра скомандовал:
– Саша, Коля, ножички в руки и на картошку. Так сказать, наряд вне очереди. А мы переоденемся, а потом вас сменим на хозработах.
Я с интересом рассматривал висевшую на стене медвежью шкуру. А ещё одна большего размера была разброшена на полу просторной горницы, в которой стояло четыре кровати. В прихожей, рядом с печью, на стене висели шкурки соболей, натянутые на правилки для просушки. За ужином разговорились.
– А в Камаках я с 41 года живу и телефонку эту сам строил в 34-ом. Так с тех пор и работаю монтёрам, а душой я охотник. Участок у меня большой – 30 километров. Пока пройдешь, что-нибудь да присмотришь. Вот и сегодня пару соболишек добыл. Морозная погода хороша для промысла, а то как запуржит, то и знай, что переставлять капканы из-под снега, только время тратить, – говорил он, поглядывая на нас, разморённых теплом и ужином.
Он вышел из-за стола и, будто извиняясь, заговорил вновь:

Обдирка соболя, рисунок автора
– Мне еще этих двух соболишек надо успеть сегодня ободрать, а вы располагайтесь, кто на кровати, кто на полу, на шкуре. Пока умоститесь, я и управлюсь.
Хозяин подкрутил фитиль на керосиновой лампе, чтобы поярче светило. Из котомки, стоявшей в углу у печи, достал двух черно-бурых соболей. Принёс тонколезвенный нож, какие-то ремешки, изготавливаясь к делу. Я из любопытства подсел к нему, глядя, как он вытянул вдоль лавки свою ногу, за её ступню привязал ремешок и им же, прихватив уже ободранную головку зверька, ловко принялся снимать шкурку с соболя, будто выворачивая чулок. При этом он, не умолкая, рассказывал и рассказывал обо всем, видимо, наскучавшись в одиночестве. Говорил, как давным-давно расформировали этот посёлок, что дети и внуки его в Усть-Камчатске, а он один тут, потому как привык жить вдали от цивилизации, и что содержит в порядке свой участок линии связи, и что имеет кучу грамот за хороший труд.
Утром, когда мы изготовились к выходу в путь, из двери дома с клубами тёплого воздуха вышел Василий Терентьевич с охапкой сушеной рыбы – юколы. Раздав корм собакам, подошёл к нам ещё раз напутствовать:
– Морозы-то крепчают ежедень, на то они и Крещенские. Вон на термометре -40. Ну, вы поняли, что напролом вам идти не надо. Тут по раздолью река да протоки петляют, много озёр, наледи со скрытыми пустотами во льду. Морока и опасно. Идите вдоль сопок по окаёму долины. Там сбиться негде. Тундрочки-перелески, тундрочки-перелески. Главное, к горам особо не жмитесь. Справа увидите лысую гору, она как булочка, за ней сразу в низинке тополёчки. Это берег реки Каванаки. В тополёчках будет след, самочка набегала. Он на речку и выходит. По той Каванаке пойдёте, она на Куражье озеро выведет, где завсегда карася берут. Балаганы там есть, и нартовые следы прямо к посёлку Ключи и выведут.
По рассказу, чётко представив весь маршрут, мы двинулись, вдохновляясь главным ориентиром, вздыбившимся над всем окрестом обширной долины, Ключевским вулканом, поблескивающим на солнце ледниками. Там под ним и есть наша цель – посёлок Ключи.
Бежим легко, видно, уже втянулись. Весь день слепит почти негреющее солнце, а мороз кусает щеки и нос. День к закату, а мы всё петляем меж перелесков. Теперь-то стало ясно, что ту «булочку» нам не сыскать. Все здешние сопки, как булочки, а речушек, заметанных снегом, мы уже прошли десятка два. Определи под снегом: Каванака она или нет. А со следами вообще хохма: ведь мы в следах, как говорит Виктор «ни ухо, ни рыло». След соболя от заячьего отличим еще, а самочка то или самец, кто их разберёт. Да и следов тут уйма. Витька уже полдня ржёт над тем, как мы купились на сказ Терентьевича.
Сейчас он разыграл Саньку, нагнувшись над следом соболя, завопил.
– Нашёл! Нашёл, как различить след.
– Как?! – кинулся к нему Волков.
– Если пробежала, то она. Коли пробёг, значит – он, – расплылся в улыбке шутник.
Январский день быстро угасал. Красное солнце тонуло в морозной пелене. Вскоре стемнело. На чёрном небе засветили звёзды. Одна из них висела прямо над кратером вулкана. Её мы приметили ещё в сумерках, и сейчас она была для нас, в полном смысле слова, путеводной. Ориентируясь на неё, мы незаметно вошли в холмистые отроги Харчинского хребта. Идти в темноте по ощетинившимся лесом холмам крайне трудно. И только надежда о теплом пристанище толкала нас вперед. Ночевать в лесу на снегу и при таком морозище не хотелось. Подъемы и спуски совсем измотали нас. И вот наш путь упёрся в крутой лесистый склон горы. Чтобы не заплутать совсем, решили дождаться утра.
– Что нам стоит дом построить? – подбадривая нас, Виктор проворно скинул рюкзак под склонившуюся березу. – Вот здесь будет наш бивуак, – потом отстегнул с пояса топорик и вновь заговорил: – Ну вот, облегчённая ходьба вроде бы ничего, попробуем теперь и облегченную ночевку.
– Нодью бы сделать, – предложил Волков и стал снимать лыжи.
– Для этого надо бы засветло присмотреть суховатую леснину. Придётся у костра куковать, – ответил Солянов, натягивая поверх лыжных ботинок рукава от старого тулупа.
Мы извлекли из рюкзаков теплые куртки и как могли утеплились. Потом спешно надрали бересты, нанесли суховатых сучьев, но костер из промороженной насквозь древесины плохо разгорался. Неуверенное пламя согревало только морально. Мороз бесцеремонно пробирался за воротник, пальцы рук и ног коченели. Согревались мы заготовкой дров маленьким походным топориком с резиновой ручкой: отчаянно валили березки, рубили их на чурбачки и размельчали на щепы, чтобы давать пищу привередливому в морозном безветрии огню. Видя, как Виктор по-хозяйски мостил у костра ложе из принесенных еловых веток, Александр предложил:
– Значит так, парни. Следим друг за другом. Не дай Бог уснём – это всё…
– Да я не для сна. На снегу же не усидишь, – и принялся заваривать чай.
Со временем костёр оседал всё ниже и ниже в снег, образуя вокруг себя снежную яму. К утру она была глубиною больше метра. Пока Волков, в свою очередь, рубил дрова, мы с Виктором уже в который раз разливали по кружкам крепко заваренный чай. Умостившись в вытаявшей яме и прихлебывая его из горячих кружек, Солянов заметил:

Ночёвка в снежной яме
– Пока чай пьешь, вроде бы, и спина не мёрзнет.
– Возьми галету, – предлагаю я.
– Уво-о-оль, от них уже весь рот в ошмотьях. Так что не задабривай. Твой черед рассказывать чего-нибудь.
Вдруг затих стук топорика, мы встрепенулись.
– Санька, спишь? – крикнул Виктор.
– Нет, топорик – из рук да в снег. Ищу.
Мы всячески исхитрялись, чтобы не погас костёрчик, который грел нас лишь морально, а обогревались, в основном дымом, клубящимся в яме. То и дело, как выстрел, раздавался треск размерзающихся стволов берез.
Вспомнили о спирте. Но, понимая, что это верная гибель в данной обстановке, даже не стали дискутировать на эту тему. Бесконечно долго длилась эта напряженная и, казалось, нескончаемая ночь. С рассветом мороз становился жестче и, когда чуть развиднелось, мы покинули клубящуюся дымом яму.
***
После бессонной ночи выживания, озябшее тело не хотело работать. С большим усилием давались нам первые шаги. Придавленные рюкзаками и холодом, мы безрадостно смотрели на седые от мороза кусты, деревья, горы. Когда обошли сопку, под которой ночевали, то обалдели. За ней, укутавшись туманом, скрывалась узкая незамерзающая часть реки Камчатки, так называемая, пропарина. И нам предстояло делать крюк в 2—3 километра, обходя ее, чтобы перейти на другой берег реки. Там, напротив нас, привольно раскинулся желанный посёлок Ключи. Сразу за посёлком устремилась в небо Ключевская группа вулканов. Над кратером Ключевской сопки в морозное небо тянулся дымок. Сопка курилась, как и все дома в посёлке.
– Хорошо, что мы в темноте не вышли к реке. В морозном тумане могли бы не заметить этой пропарины, – рассудил Александр.
– Да… отвёл Боженька, – заметил Солянов.
По льду перешли реку и, приближаясь к посёлку, мы, всё чаще оттирая то нос, то щёки, увидели бегущих навстречу нам лыжников. Это ключевкие комсомольцы: Юрий Афанасьев, Василий Моросюк и Виктор Савинский.
– Вот они, пропащие! Мы вас вчера вечером ждали. Ну и видуха у вас, – подъезжая, сказал Юра, комсорг Ключевского ДОКа.

