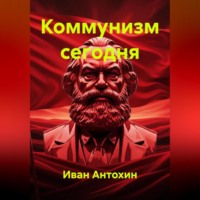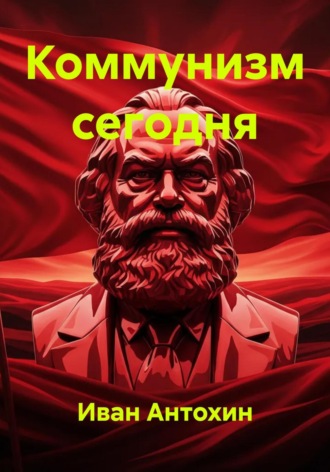
Полная версия
Коммунизм сегодня
Социализм предполагает более высокое экономическое развитие, делает общество более равным, социальные конфликты стираются, надобность в диктатуре пропадает. Но Энгельс был поправлен на 180 градусов. Усиление классовой борьбы при движении к социализму в дальнейшем будет и дальше заявляться Сталиным, как и то, что классовая борьба не затухает при уже объявленном социализме. Ленин же, ссылаясь на классиков и говоря о государстве при социализме, говорил о бесклассовом обществе, в котором из-за недостаточной развитости производительных сил и недостаточной человеческой культуры всё ещё необходимо государство, под которым понимается регулятор в равном распределении продуктов труда. Дело в том, что равное распределение продуктов труда означает неравенство, так как люди все разные, и у каждого разные потребности. Отсюда и возникает необходимость в «буржуазном праве», в регуляторе.
Но где проходит та черта, которая скажет нам о том, что социализм достигнут, что он всё-таки построен, где та точка, которая завершает одну главу и начинает другую? Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что никаких точек и чёрточек быть не может. Схематичное представление затуманивает реальное общественное развитие. Узаконивая социализм на бумаге, как делалось это в Советском союзе, содержание от этого никак не меняется. Где та точка, которая отделила капитализм от феодализма? Её попросту нет. Когда мы рассуждаем о господстве того или иного способа производства, то должны рассматривать их конкретное состояние, в котором одна экономическая форма доминирует над другой, когда одна форма вытесняет другую. Академический «марксизм», который преподавали в СССР, делал точные деления вплоть до года и даже до дня, в чём можно убедиться, открыв учебник по основам марксизма-ленинизма. Но такой подход к изучению темы давал только начётничество, и ничему не учил.
Советская национализированная плановая экономика дала громадный толчок к росту производительных сил, однако СССР, даже вкупе с другими странами «социалистического лагеря», не смог превзойти капиталистический мир по уровню производства и производительности труда, провозглашая «Догнать и перегнать». Социалистическая революция дала прогрессивные формы собственности, за счёт чего, даже несмотря на тотальную бюрократизацию, удавалось добиваться колоссальных экономических достижений, которые вывели отсталую страну на уровень второй экономики мира. Но та же самая забюрократизированность затягивала петлю, мешая дальнейшему развитию, приводя к стагнации и краху.
Социализм по своему экономическому уровню должен стоять выше самого передового капитализма. Можно было бы говорить о достижении социализма, если бы прогрессивные формы собственности охватили страны капиталистической метрополии, с их мощными производительными силами и высокой производительностью труда. Почему важно это понимать? Если капиталистический мир стоит выше «социалистического», то его экономическая мощь сильнее, товары дешевле, техника более передовая. Своей экономической мощью он воздействует на страны «социализма», развивая в них капиталистические тенденции и усиливая их. Усиление капиталистических тенденций ведёт к скидыванию прогрессивных форм собственности, которые не имеют под собой мощного базиса. Базис, который был бы выше капиталистического, мог бы предотвратить влияние и реставрацию, так как не боялся бы влияния более отсталой капиталистической экономики. Но отставание стран «социализма» с их бюрократизмом привело к краху СССР и других стран социалистического лагеря и к реставрации капитализма. Поэтому при таких обстоятельствах ни о каком построении социализма говорить нельзя.
То есть государство может стоять на более прогрессивной общественной ступени (социалистической), но быть менее развитым по сравнению с государством, стоящим на более низкой общественной ступени (капиталистической). При таком раскладе складывается двоякая ситуация: менее развитое государство, стоящее на более высокой ступени общественного развития, имеет преимущества в возможностях более интенсивного материального развития, но с другой стороны оно сталкивается с давлением материально более развитого, но более отсталого в общественном развитии государства. Страны капиталистической метрополии обладали более развитой материально-технической базой, что представляло серьёзную угрозу в противостоянии с капитализмом.
Как бы мы ни изолировали отдельно взятую страну, и как бы мы ни пытались строить в отдельной стране социализм, она, если хочет выжить, неизбежно будет связываться со всем остальным миром. Выход на мировой рынок требует успешной и выгодной торговли, которая предполагает дешёвый импорт и удачный экспорт. Но чтобы экспорт был удачным, производить надо много, дёшево и качественно, а для этого должна быть создана мощная производственная база, стоящая на самых передовых технологиях. Полная победа социализма, а, значит, его устойчивость немыслима без наиболее развитой производительности труда, стоящей выше самого передового капитализма, когда человеческий труд сможет создавать продукции больше и качественнее, чем он делает на основе капиталистической частной собственности.
Отдельно стоит сказать, что капитализм не стоит на месте, капиталистические формы собственности господствуют не один век. Но это не значит, что человечество застыло на месте. Советская экономика имела гигантский рост, национализированная плановая экономика показала свою огромную эффективность, – но капитализм тоже развивался, а вместе с тем развивались человеческие потребности и культура. Переход к социализму мог быть совершён и раньше, – сейчас же этот переход требует совершенно иного уровня. Появление первых электронно-вычислительных машин не требовалось каждому человеку в отдельности, но сейчас же человечество никак не может обходиться без своего персонального компьютера или смартфона. Тупая уловка, когда говорят, что социализм невозможен, так как нельзя всем всё позволить. В действительности же социализм не раздаёт всем право личного владения космическим кораблём, как не мог бы в своё время дать такое право на личное владение огромными, неуклюжими ЭВМ, которые все равно не закрывают бытовые потребности простого человека. Человеческие потребности и его культура строятся исходя из конкретного материального базиса, и происходит это как при капитализме, так и при социализме.
Но социализм снимает устаревшие формы капиталистической собственности. Частная собственность является тормозом развития, так как, вкладываясь в строительство новой промышленности и модернизацию, капиталист теряет прибыль, поскольку прибыль создаёт ему рабочая сила. И поэтому он более заинтересован не в модернизации, а в ручном труде, и именно поэтому производство либо вытесняется в более отсталые регионы мира, либо идёт привлечение гастарбайтеров с более низкой стоимостью рабочей силы, либо идёт удлинение рабочего дня и т.д. Но развитие пытается двигаться вперёд, модернизация производства, как и уменьшение рабочего дня, приводит к потери прибылей; форма собственности не отвечает росту производства и уровню техники, наступает кризис, который откатывает всё назад. Рынок саморегулируется постоянными кризисами. Уничтожение частной собственности на средства производства, национализированная плановая экономика под демократическим контролем рабочего класса могли бы снять противоречие между формой и содержанием, перейдя к социализму и двинув человеческое развитие далеко вперёд. Но тут мы и сами забежали немного вперёд.
Маркс, говоря о первой стадии коммунизма (которую обычно называют социализмом), с одной стороны предполагает более развитые производительные силы по сравнению с капитализмом, с другой стороны, – недостаточно развитые для достижения высшей стадии коммунизма.
В «Критике Готской программы» про коммунизм первой стадии мы читаем:
«Соответственно этому каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов; индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя – это доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме.
Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который регулирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен равных стоимостей. Содержание и форма здесь изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления. Но что касается распределения последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другой.»
На высшей же стадии коммунизма производительные силы и человеческая культура достигают такого уровня, что уже не требуется равное и справедливое распределение – они достигают такого уровня, что каждый получает по своим потребностям. А значит пропадает необходимость в охране «буржуазного права», и тем самым государство полностью исчезает. Но исчезает не то государство, к которому мы привыкли, а некоторые оставшиеся, как «родимые пятна капитализма», государственные функции.
До сих пор мы больше касались терминов. Это было необходимо, чтобы лучше понимать язык, на котором хотим говорить, чтобы лучше разбираться в сложившейся путанице. Но за терминами скрывается реальность, история движения рабочего класса – его победы, его поражения, его опыт. Опыт Советского государства лучше раскрыл понимание коммунизма, трудностей переходного периода к нему, поднял многие вопросы человеческого общества – его общественные отношения, его культуру, его развитие. Те вопросы, которые касаются нас даже сегодня. На основе советского опыта, опыта переходного периода мы проследим и сделаем определённые выводы, которые необходимы коммунистическому учению, как учению об условиях освобождения пролетариата, которое поможет его дальнейшей борьбе, и сделает эту борьбу более действенной.
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ОПЫТ СССР
Опыт Советского государства, его история имеют чрезвычайно противоречивые оценки. Немудрено, ведь сам Советский Союз содержал в себе борющиеся друг с другом противоречивые тенденции, – тенденцию социалистическую и тенденцию капиталистическую. Национализированная плановая экономика и экономические успехи сосуществовали с ростом неравенства, равные права – с неравным распределением, отсутствие капиталистов – с товарно-денежными отношениями. Об СССР как о государстве переходного периода от капитализма к социализму можно сказать как хорошее, так и плохое. Однако те или иные достижения или ошибки зачастую воспринимаются через призму высоко надстроечных вещей, вроде личных характеров различных правителей, где нет места экономическим особенностям, борьбе различных больших социальных групп и т.п. Поверхностный взгляд на исторические события сегодня обычное дело, ибо начиная со школьной скамьи нас учат смотреть на историю как на историю царей, вождей и президентов, где все остальные люди никакой роли в истории будто бы не играют.
Такой же взгляд распространялся и во времена СССР. Хотя формально и подчёркивалась историческая борьба больших масс людей, творение ими истории, но всё это зачастую оставалось мёртвой буквой, во всяком случае для истории самого Советского государства. Как давалась история? Великий Ленин совершил революцию, но вокруг него оказалось много предателей, которых поборол Великий Сталин, который, как оказалось, совершил множество ошибок и обрек на смерть многих невинных людей, и виноват в этом его культ, который разоблачил Хрущёв, но политика Хрущёва была плохой из-за его волюнтаризма, поэтому его убрали, потом пришёл Брежнев, который просто не хотел или боялся реформ, поэтому экономика постепенно начинала стагнировать, Андропов и Черненко просто не пойми кто, а Горбачёв – предатель, и из-за его политики погиб Советский Союз. И путём таких рассуждений явно не получится что-либо объяснить, – во всяком случае, если человек не начинает задаваться вопросом «почему?».
Почему к власти приходили те или иные правители? Почему они проводили именно такую политику? Постановка подобных вопросов играет огромную роль при изучении истории, так как важность верного понимания исторических событий помогает нам верно оценивать день сегодняшний. Но сегодня мы наблюдаем полную деградацию, ибо даже люди, которые любят исторический предмет, начитываются учебников, выпускаются с дипломами историков, и что потом они говорят? «Этот царь хороший», «История не партийна и вне политики», «Русский народ всегда хотел кнут». Такой бред заявляется в том числе теми, кто очень хорошо может разбираться в исторических фактах, знать все имена, даты и события. Как же так? История как наука на данный момент развита плохо и во многом преподносится как сухой набор фактов. Различные же методы исследования предмета либо городят дурацкие конструкции, либо очень примитивны и спотыкаются о препятствия. Получается, что от школьника до профессора можно услышать фантастический бред, основанный на фактах, либо услышать сухой набор этих фактов.
Споры об СССР противоположными сторонами частенько ведутся именно в этой плоскости, путём сухого обмена фактами. Например, один бросит оппоненту утверждение, что при царе большинство были неграмотными, тогда как СССР дал возможность всем получить образование. Другой же кинет в ответ утверждение, что при царе даже бедный крестьянин мог получить образование. Оба будут правы. Итог? А итога не будет, – исторический эмпиризм не ведёт к разрешению спора, даже если кто-то переубедится.
Причины же такого явления, как СССР и его история, ищутся в фактах, совершенно оторванных от действительности. Таким подходом руководствуется буквально вся современная «история», которая на основе реальных фактов готова рассказывать нам о невозможности коммунизма, тогда как история должна изучаться изучением конкретных явлений, а не сухим изучением фактов или натягиванием фактов одних явлений на другие явления. В этом изучении нам сильно помогает метод Маркса, но метод Маркса искажён его многочисленными сторонниками.
Признавая, что Советский Союз был государством победившего социализма, сторонники данной позиции только вредят делу социализма, так как смешивают с ним все пороки и противоречия советского периода. Сторонники данной позиции запутывают и самих себя, что приводит к невозможности дать вразумительные аргументы на утверждения противоположной стороны, которые касаются определённых «тёмных» тем. «СССР – есть социализм» слишком простое утверждение, но оно даёт право не думать ни о чём другом, кроме как о том, что СССР – это хорошо, там был построен социализм, надо к этому вернуться. Утверждение, что в СССР был построен социализм, поддержка теории о построении социализма в отдельно взятой стране затуманивает мысль и сужает взгляд. Этим очень хорошо пользуются современные вожди «коммунистических» партий, которые навязывают подобные взгляды, ибо подобные взгляды на прошедшие события позволяют идеологически прикрывать предательство дела социализма сегодня. Говоря, что Советский Союз – общество социализма, который развалили предатели, современные партбюрократы прикрывают этим то, что подобные им бюрократы и развалили СССР. Прикрывают они и то, что советское общество было социально неоднородным, а это значит, что не было и социализма. Они же всячески пытаются называть социализмом паразитическую власть аппаратчиков, которая душила советских трудящихся, ибо то же самое делают они сами сегодня в политических организациях, подавляя инициативу, подавляя критику рядовых партийцев.
Но как же так вышло, что СССР, устраняя частную собственность, ведя курс на построение социализма, добивавшийся колоссальных экономических успехов, оказался забюрократизированным, экономика в конце концов стала стагнировать, советские трудящиеся были задавлены машиной цензуры и репрессий, и всё в конце концов привело к краху советского государства? Когда мы говорим о том, что Советский Союз был государством переходного периода от капитализма к социализму, то крайне важно подчеркнуть, что такой переход может оказаться неудачным, может произойти откат назад. Социализм, как более высокая ступень по отношению к капитализму, мог бы обеспечить надёжность достигнутого развития, несмотря на все угрозы, также, как феодальная угроза несмотря на все попытки не смогла уничтожить капитализм, вернув всё назад.
Большевики, совершая революцию, взяли власть в отсталой и во многом крестьянской стране. Войны и их последствия наложили ещё большие проблемы, рабочий класс к концу гражданской войны ослаб настолько, что вся диктатура пролетариата, как это ни парадоксально, во многом держалась за счёт узкой прослойки идейных коммунистов. Новая власть рассчитывала на революции в более развитых странах, которые могли бы помочь выйти из той отсталости по объективным обстоятельствам, в которой оказались большевики. Революция в Германии могла обеспечить русских крестьян дешёвыми промышленными товарами, а русские крестьяне немецких рабочих – сельхозпродукцией, но этого не произошло в результате предательства немецких и других социал-демократов по завершении Первой мировой войны.
В связи с этим встаёт вопрос: нужно ли было большевикам брать власть, если опыт показал, что революция в отсталой стране сначала привела к формированию привилегированной касты бюрократов, контроль над которой пролетариат потерял, а в дальнейшем эта каста совершила капиталистическую контрреволюцию? Ведь меньшевики в 1917 году говорили, что социалистическая революция в отсталой стране преждевременна, и пролетариат не созрел. Были ли они правы?
Если не рассматривать Россию изолировано от остального мира, как это делали меньшевики, то мы натыкаемся на неравномерное развитие мирового капитализма, в котором российский капитализм оказался на задворках. Огромная крестьянская страна, имеющая пережитки феодализма, встроилась в мировую капиталистическую систему во многом в качестве придатка для более развитых стран. Европейские капиталы устремились в Россию, захватывая местный рынок, национальная буржуазия тем временем была крайне слаба, а текущее положение и сосуществование с помещиками её в общем устраивало, что было видно по блоку либералов с монархистами против дальнейшего развития революции в 1905-1907 гг. Капитализм в России не стремился делать шаг вперёд к общественному развитию, как делал он в странах Европы, а война ещё больше усугубила ситуацию.
Любители Российской империи любят говорить, что если не революция, то Россия выиграла бы в войне, приобрела новые земли и превратилась в сверхдержаву. Но это глупость, так как отсталая российская экономика, которая и так встраивалась как придаток более развитых стран, во время войны ещё больше закабалялась иностранными кредитами. Победа в войне превратила бы Россию не в сверхдержаву, а в полуколонию более развитых стран как, например, Китай. Поэтому утверждения меньшевиков, схожие с утверждениями современных либералов о «неправильном капитализме» в России, были ошибочными, – российский капитализм не был заинтересован в качественном скачке вперёд ни при царе, ни при временном правительстве. Неравномерность развития мирового капитализма, в который российский капитализм встроился на правах придатка более развитых стран, готовила почву к социальному взрыву, но этот взрыв зачинался молодым рабочим классом России, потому что выход из отсталости и зависимости при такой ситуации могла дать только социалистическая революция.
В этой связи будет неверным разделять Февральскую и Октябрьскую революцию друг от друга, ибо это был один единый процесс, в котором был февральский и октябрьский этап. Аналогично с тем, как мы говорим о Великой Французской революции в качестве единой революции, но в которой было множество этапов. Поэтому когда говорят о том, что сначала нужна буржуазная революция (февраль), а потом уже социалистическая (октябрь) в корне неверно. Русская революция 1917 года, начавшаяся в феврале с движением рабочих масс, свергла императорскую власть, но рабочим тогда не хватило последовательного руководства для взятия власти в свои руки. Буржуазия тем временем не была заинтересована в каких-либо серьёзных преобразованиях и не готовила никакой более развитой капиталистической почвы. Последующие месяцы после февраля были ознаменованы борьбой рабочих и солдат со своими собственными меньшевистско-эсеровскими вождями, которые собою представляли препятствие для дальнейшего укоренения революции, и к октябрю процесс этой борьбы привёл к возвышению последовательной партии рабочего класса – большевиков, под руководством которых пролетариат взял власть в свои руки, укоренив дальнейшие революционные процессы.
Это и есть перманентная революция, которая в широком сознании ассоциируется со Львом Троцким. Многие считают, что речь идёт о революции мировой, но это лишь часть теории, которую необходимо понимать в динамике. В данной теории говорится о революции в слаборазвитых странах с крестьянским большинством и феодальными либо полуфеодальными отношениями – буржуазия отсталой страны из-за своего места в мировой капиталистической системе не способна осуществить свои собственные задачи, задачи буржуазно-демократические. Но их может осуществить рабочий класс, который не должен останавливаться на достигнутом, идя дальше, осуществляя социалистические преобразования. Иначе такая страна так и останется отсталой и очень зависимой от других. Пролетариат этой страны, остановившись, будет просто-напросто раздавлен, как был он раздавлен в целом ряде стран не без помощи меньшевистской политики. Когда же в отсталой стране к власти приходит пролетариат, то начинающиеся социалистические преобразования не могут завершиться установлением социализма до тех пор, пока пролетариат более развитых стран не возьмёт власть и не овладеет передовыми производительными силами. Критика в адрес Троцкого, которую мы считаем ложной, была не в адрес самой теории перманентной революции, а в адрес частных вопросов, связанных с этой теорией.
Пришедшим к власти большевикам во многом пришлось проводить ту политику, которую проводили буржуазные революции более развитых стран – например, конфискацию помещичьей земли и распределение её между крестьянами. Социалистическая революция таким образом выполняла задачи буржуазной революции, став мощным тараном против самого капитализма, обеспечив качественный толчок к преодолению экономической отсталости страны. С другой же стороны, экономическая отсталость страны влияла и тянула назад социалистические тенденции. Если ранее надстройка отставала от базиса, то теперь надстройка ушла от него сильно вперёд. Революции в более развитых странах, на которые рассчитывали большевики, могли помочь с отставшим базисом, но этого не произошло. Оказавшись в изоляции, советское государство начало сталкиваться с множеством проблем.
Политика «военного коммунизма» в острый период гражданской войны была призвана собрать все скудные ресурсы государства в одних руках, обеспечивая, как в армии, жёсткий контроль и распределение. Получившее землю многомиллионное крестьянство оказывало большевикам кредит доверия, которым в условиях жёсткой нехватки всего приходилось проводить продразвёрстку для снабжения городов и армии. Большевики дали крестьянам землю, крестьяне отдавали хлеб тем, кто охранял их право на землю. Но со снижением накала борьбы за выживание советской республики многомиллионные мелкие хозяева земли переставали видеть необходимость в чрезвычайных мерах и начинали сопротивляться. Пришлось переходить к Новой экономической политике.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.