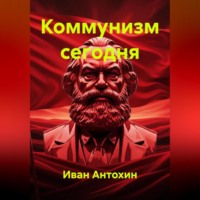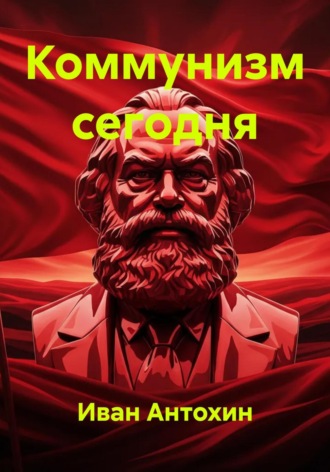
Полная версия
Коммунизм сегодня

Иван Антохин
Коммунизм сегодня
«Теоретическое мышление каждой эпохи, а значит и нашей эпохи, это – исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и получающий поэтому очень различное содержание.»
(c)Фридрих Энгельс
ВВЕДЕНИЕ
«Сказкам о призраке коммунизма» можно посвятить целую выставку с презентациями различных фантастических утверждений, которые были даны за последние десятки и сотни лет, но за последние десятки и сотни лет коммунизм так впитался в общественное сознание, что мало для кого он, в качестве некого образа, будет открытием. Одним он представляется в виде Советского прошлого, другим – как невозможная утопия. Причём оба взгляда имеют как своих противников, так и своих сторонников. Коммунизм в виде Советского прошлого для одних будет убогим тоталитаризмом, для других – тоталитаризмом сильным и справедливым. Коммунизм в виде утопии для одних будет бредом, для других – целью, к которой стоит стремиться, даже если дойти до неё невозможно.
Утопия, о которой так любит говорить нынешний правящий класс, имеет под собой основание внушить своим сторонникам определённую идеологию для обоснования своего господства и права на частную собственность, тогда как рабочим она объясняет, что их положение является чем-то нормальным, ведь если человек хочет стать богатым, то он найдёт способ им стать и право у него такое есть. Но если не захочет, или если человек не обладает необходимой смекалкой, то он так и будет всю жизнь впахивать на заводе. Поэтому с точки зрения сторонников капитализма такое положение вещей представляется справедливым и честным. Более того, в их понимании только так общество работать и может, ведь коммунизм якобы убивает конкуренцию, которая единственная и может быть двигателем прогресса – как иначе без материальной мотивации? Материальная мотивация создаётся принуждением, которое коммунизм отрицает. «Но ведь без принуждения никто не будет работать и общество просто умрёт», – скажут нам.
Насаждение подобных взглядов настолько не ново, что они появлялись ещё до того, как на свет появился Карл Маркс, когда буржуазия всячески боролась с тогдашними коммунистическими воззрениями, обществами и движениями неимущих. Но если до Маркса коммунистические воззрения только пытались найти научную почву под ногами, и буржуазия имела возможность отвечать на неопытные взгляды своей критикой, то после Маркса, давшего коммунизму научное обоснование, критика буржуазии изменилась лишь по форме, но так и осталась той критикой, которой пользовались буржуазные философы ещё в XVIII веке. Хотя последние и шагнули вперёд, отбросив христианскую философию, в которой причины неравенства определялись с божественной точки зрения, – тем не менее неравенство в общественных отношениях сохранилось. Но теперь оно стало обосновываться с точки зрения человеческой природы. При этом исключались сами общественные отношения, базирующиеся на определённом экономическом фундаменте, – тем самым буржуазные философы того времени впадали в утопизм, который они проповедуют и сегодня. Но отличие нынешней эпохи от эпохи развития буржуазно-революционной мысли в том, что сегодня сама буржуазия уже не верит в свои собственные идеи, которая она развила в период с XVIII и до середины XIX века. Идеи, которые сегодня пропагандируют либеральные деятели, по сути являются отражением настроений мелких предпринимателей, которые можно обозначить как реакционный мелкобуржуазный капитализм с мечтами о революционном прошлом, когда «естественные» права всех людей противопоставлялись сословному разделению, в котором существовало «неестественное» право у одних и отсутствие права для других на привилегии и власть.
Но развитие капитализма, его монополизация вели к угасанию буржуазно-революционных идей. Буржуазия, постепенно укрепляя свои позиции, стабилизируя своё господствующее положение, также стабилизировала и свои идеи. Для удержания власти и охраны своей собственности от растущего в силе и численности пролетариата ей больше не были нужны потрясения, так как теперь они уже подрывали основы буржуазного порядка; а революционное развитие мысли вело только к одному – к идее об упразднении буржуазной частной собственности, которая противоречила принципу равенства людей. Тем самым, дальнейшая революционная мысль перешла к социалистам, тогда как буржуазные мыслители зашли в тупик и деградировали.
Сегодня буржуазная идеология сильно мешает дальнейшему развитию человечества, как и сам капиталистический строй, из которого она исходит. Тупиковость мысли возникает из-за неспособности капитализма продвигать прогресс дальше, хотя он и пытается выйти за капиталистические рамки, но оказывается затянутым этими рамками назад. Вся современная мысль строится на удержании существующих порядков, тогда как всё новое объявляется противозаконным и утопичным. Навязывая «традиционные» идеи государственности, национализма, семейных отношений, подчинение женщины мужчине, право родителей на детей, церковное воспитание, раболепство и т.д. нас отучают мыслить по-человечески, критически рассматривать любые вопросы. Навязывается взгляд, в котором господствует форма, а не содержание: «Коммунизм – утопия! Утопия – потому что развалился Советский Союз. Советский Союз развалился, потому что коммунизм – утопия!». Никакого анализа, никаких причин, – это подобно взгляду человека, утверждающего, что в России капитализм якобы «неправильный», он не тот, что на Западе, где он почему-то «правильный», – как будто живём мы на разных планетах. Или противоположный взгляд, что у России «особый» путь развития, чуть ли не по божественному промыслу. Подобными высказываниями пытаются обосновывать любую чушь и различные «дикие» вещи современного общества, объясняя те или иные явления через призму божественности, природного менталитета и прочего.
Либеральные аргументы против коммунизма исходят из того же миропонимания, что и утверждение о неправильном капитализме в России – идеальность губит либо неправильный человек, либо менталитет общества. А ещё: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает». Таким образом вся аргументация сводится исключительно к человеческой природе, человеческим порокам, застывшим общественным отношениям. Но чем это отличается от религиозных рассуждений о божественности тех или иных вещей и о том, что из-за человеческой природы Адам был выгнан из Рая?
Нам говорят, что «человек по природе индивидуалист», поэтому коммунизм невозможен, поэтому возможно только классовое общество, социальная градация, политическая власть и подавление. Но любой индивидуум возможен только в человеческом обществе, о чём ещё будет идти речь в дальнейшем. Социальное расслоение также немыслимо без коллективного подавления одних другими. Индивидуализм человека ищется в природе, но в его корне забывается общественный фактор. В итоге получается так, что объяснения человеческих пороков, человеческого поведения ищутся исключительно в биологических свойствах, но ведь такой ограниченный взгляд приводит к невозможности дать объяснение определённым вещам. Например, среди талантливых людей больше мужчин, чем женщин, и поэтому с либеральной точки зрения женщины от природы более глупы. Согласно этому взгляду, если двигаться дальше, такое природное свойство можно будет оправдать только разговорами о детерминизме, и далее свести всё к божественному решению. Но, разбивая подобные глупости, мы можем легко объяснить этот вопрос путём изучения общественного, экономического, исторического факторов, – так же как и коммунистическое будущее было раскрыто Марксом на основе этих факторов. Если бы Маркс пользовался аргументацией уровня противников коммунизма, то мы бы увидели доводы в духе того, что коммунизм возможен благодаря человеческой природе, – а ведь социалисты-утописты исходили именно из этого, и подобный подход был подвергнут критике Марксом.
Человек, его поведение, его привычки, его традиции, его взгляды на вещи не являются от природы неизменными, – они меняются вследствие исторического развития общества. Представлять человека как застывший кусок камня (но даже камень со временем меняется), – значит уничтожать его человеческую индивидуальность, сводя всё к животным инстинктам, из которых вообще становится непонятным, как человек стал человеком, как он столько всего вокруг себя создал и как многое для себя открыл.
Поэтому когда говорят, что Советский Союз развалился из-за человеческого эгоизма, из-за природной жажды наживы, природного желания одних порабощать других, – это не объясняет ровным счётом ничего, и лишь приводит к неверным взглядам по другим вопросам, порой даже бытовым. Если Советский Союз развалился из-за человеческой природы, то получается, что и появился он тоже благодаря ей, ведь как это объяснить иначе? Получается, что все происходящие явления могут быть объяснены обычным абстрактным понятием, но тогда возникают противоречия: если природа человека уничтожила СССР, то почему она же его и создала? И тут мы либо начинаем объяснять всё с божественной точки зрения, либо пытаемся из одной абстракции прыгнуть в другую, либо начинаем изучать вопрос предметно.
Проблема либерального подхода к вопросам заключается не только в ограниченности и поверхности, но и в том, что он подпитывается со стороны противоположного «просоветского» лагеря, который, не предлагая глубокого анализа, рассматривает вопросы также убого, из-за чего люди начинают искать ответы в анархизме, фашизме, религии и т.п., тем самым обогащая лагерь своих политических оппонентов.
Победившая в СССР партбюрократия не только отстранила пролетариат от прямой политической власти, не только свернула завоевания Октябрьской революции, но и превратила учение Маркса в доктринёрство с зазубриванием отдельных цитат. Присвоив себе вывеску «марксизма» и «научного коммунизма», советские бюрократы образовали свою идеологию для оправдания бюрократизма, где живая мысль подавлялась как на деле, так и на словах, в виде обвинений во всевозможных “измах”, что только приводило к дискредитации коммунизма и искажению марксистской теории.
Развал Советского Союза и совершённая частью правящей бюрократии капиталистическая контрреволюция очень сильно ударили по мировому рабочему движению, привели к большому разочарованию в среде рабочего класса, и в конечном итоге создали образ невозможности коммунизма, за который теперь выступают только ностальгирующие пенсионеры. Другая часть советской бюрократии, которую устраивало её место в советской системе, осталась лояльно настроена к СССР и встала в оппозицию к победившей контрреволюции. Возглавив то, что осталось от КПСС, она продолжила проводить свою бюрократическую политику соглашательства с новой властью, предавая и вставляя палки в колёса рабочим, которые вели оборонительную борьбу против неолиберальных реформ.
И снова, как в советское время, эта бюрократия прикрывалась именами Маркса и Ленина, говоря о величии СССР не с позиции рабочего класса, а с позиции величия державы, в которой бюрократы имели привилегированное положение. Весь марксизм снова сводился к начётничеству, коммунизм в программе оставался чем-то далёким, – примерно настолько, как второе пришествие Христа. Рабочим стали рассказывать, что они не готовы взять страну в свои руки, что пролетариат не созрел для революции. Примерно такими же аргументами пользуются противники коммунизма, рассказывая, что трудящиеся не могут управлять, не могут организовать, не могут что-либо наладить, ведь для этого нужна определённая каста способных правителей – прямо как в Советском Союзе – только в СССР эта каста, если продолжать мысль, видимо в какой-то момент оказалась бестолковой и неспособной. И, как добавляют некоторые сторонники советского «социализма», ставшей меньше изучать (зазубривать) Маркса. Поэтому Советский Союз развалился не из-за природы человека как такового, а из-за природы плохо зубрившего Маркса члена политбюро.
Такой взгляд, или примерно такой взгляд, был порождением советского бюрократизма, который внёс свою идеологию под маской марксизма. Данный подход с бездумным зазубриванием цитат, с начётничеством, с неприятием всего, что противоречит официальной доктрине, передался и постсоветскому периоду, обретя своё официальное продолжение в организациях, которые объявили себя наследниками КПСС. Марксизм же так и остался вывеской, его реальное развитие застопорилось. В организациях, считавших себя коммунистическими, «дискуссии» были на уровне обсуждения букв устава, подбора «правильных» фраз, обвинений своих оппонентов в самых невероятных «измах». Бюрократизму свойственно нисходить до простой штамповщины и пустых формальностей, так как идейно любая бюрократия слаба. И чтобы поддерживать своё положение, она прибегает к аппаратным интригам, административному нажиму, к бессодержательным обвинениям, ибо смотрит на всё своим тупоумным узким взглядом.
Такой подход и такой уровень «дискуссий», исходящий со стороны бюрократов «коммунистических» организаций, к сожалению, передавался на рядовых членов и сторонников, которые воспитывались в том же духе, если, конечно, они просто не уходили разочарованными. Привитие подобных взглядов рядовым участникам воспитывало в них аналогичные воззрения, которые распространялись и на сочувствующих коммунизму людей. Однако стоит заметить, что проблема не только в бюрократизированных политических организациях, но и во всей современной системе, пронизывающей наше общество, будь то школа, армия, работа, профсоюзная организация, государственные структуры и прочее. Везде нас учат мыслить формами, не имеющими содержания, заниматься начётничеством, пресмыкаться перед другими и слепо выполнять приказания.
Заучивая умные слова, фразы и даже целые положения без понимания реального содержания, ничего хорошего не получить – будет лишь ложное представление о предмете. Это, в свою очередь, будет приводить к ложным суждениям, тупиковости мысли и ошибкам, в том числе ошибкам грубым. Советское «теоретическое» наследие наложило огромный отпечаток на многие левые организации, в том числе небольшие, в которых то и дело разводили формализм и занимались зубрёжкой, пытаясь натянуть те или иные события на цитаты Ленина, чтобы что-то подтвердить либо раскритиковать. Мы не говорим о том, что нельзя использовать ссылки на Ленина, – но когда это принимает форму идеологизации, когда содержание пытаются натянуть на форму, когда позиция становится закостенелой и применяется всегда без учёта развития ситуации, то тогда это становится проблемой. В таком случае при возникновении конфликта внутри организации, это в конечном итоге приводит к нелепым спорам, где одну и ту же цитату Ленина начинают интерпретировать по-разному. Но даже в таком споре проявляется разница позиций, и вся нелепость состоит в том, что никто не может дать грамотный ответ, так как все привыкли мыслить не конкретным содержанием, а цитатами. В результате спор превращается в войну цитат, переходящую в личностные нападки.
Получается ситуация, когда в силу объективной капиталистической реальности человек, задумывающийся над происходящим вокруг него, задающий сам себе вопросы, пытающийся найти ответы, идущий за ними в ту или иную организацию, – такой человек сталкивается с пустым формализмом, втягивается в непонятную для него деятельность, его вопросы не получают ответа со стороны организации. И всё это, в конечном итоге, приводит этого человека к деморализации, поиску ответов в чём-то ином, а не в коммунизме, в резких переходах к противоположным крайностям. Либо же он становится частью организации, перенимая её низкий идейный уровень.
Таким образом, коммунистическая альтернатива не получает своего идейного развития, не даёт ответы на насущные вопросы, которые беспокоят людей. Коммунизм так и остаётся простой вывеской. Но он остаётся этой вывеской в силу общественных отношений, исторического советского наследия и иных факторов. Противоречие между научным миропониманием и искажённым приводит к борьбе между ними, а борьба ведёт к развитию мысли. Коммунизм – это не только о будущем обществе, это и о нашей текущей реальности. Это реальное движение, которое ниспровергает нынешнее состояние. Коммунистические отношения вызревают в недрах капиталистического общества. Как писал Энгельс: «Коммунизм есть учение об условиях освобождения пролетариата.»
Нам остаётся только добавить, что жизнь коммунистической организации держится на идейной сознательности её членов, которые не разочаруются в плохой ситуации на спаде движения, не отойдут от политики, а, применяя марксистский метод, смогут объяснить мир, объяснить происходящие процессы и открыть тенденции будущего развития – и тем самым разовьют дальше учение об условиях освобождения пролетариата. Тем самым организация сохранит себя, готовясь к будущим битвам. Она укрепится идейно, чтобы допускать меньше ошибок и быть более эффективной. Эпоха реакции плоха, но в тоже время она воспитывает сильные личности.
Но для подобного воспитания стоит сначала понять, о чём мы вообще говорим, что предлагаем и к чему стремимся. Как уже было сказано выше, коммунизм зачастую представляется чем-то утопичным даже для тех, кто является его сторонником. Советское наследие, бюрократическое извращение, буржуазная пропаганда внесли очень большую путаницу в данный вопрос. Коммунизм – это СССР? Коммунизм – это анархия? А что такое социализм и был ли он в СССР, а если и был, то в какой период?
Такие вопросы поднимаются часто, споры по ним идут «вечно», и даже несмотря на то, что СССР всё дальше уходит в прошлое, споры о его природе не ослабевают. Каждый ищет аргументы в неких деталях, неких нюансах, цитатах, формах и т.п., что в свою очередь мало к чему приводит, – результат спора не достигается, ибо каждый участник под коммунизмом понимает что-то своё, кто-то видит тоталитаризм, кто-то анархизм. Для кого-то СССР является социализмом, для кого-то – не является. Разумеется, под социализмом или под коммунизмом можно предполагать разные вещи, но мы говорим о них с точки зрения марксизма. Но марксизма не просто как формальности, а подразумевая то, что вкладывал во все эти понятия Карл Маркс. Важность правильного понимания тех или иных терминов позволяет, как минимум, избежать ложных представлений, не имеющих внутреннего анализа, и предотвращает скатывание в утопизм.
Но перед тем как говорить о содержании, придётся затронуть саму марксистскую терминологию. Вопрос оказался настолько запутанным, а споры в связи с этим настолько бестолковыми, что он стоит того, чтобы проговорить его отдельно, ведь важность терминологической чистоты существенна, так как неверное применение терминологии наполняет её неверным содержанием, что впоследствии приводит к путанице в своих собственных взглядах и к политическим ошибкам.
МАРКСИСТСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
В левой, и даже в массовой, среде распространено мнение, что диктатура пролетариата – есть социализм, а социализм – есть диктатура пролетариата, которая ведёт к уничтожению остатков капитализма для перехода к коммунизму. Казалось бы, всё логично: рабочий класс, захватывая власть, устанавливает свою диктатуру, подавляет буржуазию, уничтожает капиталистическую частную собственность, обобществляет средства производства, – и тем самым устанавливает социализм, после чего пролетарская диктатура двигается от социализма к коммунизму, подавляя последние остатки капитализма на территории победившего социализма, а также постепенно побеждает в других частях планеты.
Такой взгляд на социализм и диктатуру пролетариата можно услышать и от людей, которые являются сторонниками коммунизма, и от людей, которые являются его противниками. Такой взгляд вообще пустил широкие корни, – его можно услышать даже в обывательской среде. Немудрено, ведь этими терминами пичкали старшее поколение, родившееся в советское время. Далее эти термины передались от старших к младшим, и сейчас о них можно слышать даже в современной образовательной среде.
Но данный взгляд, несмотря на свою массовую аудиторию и кажущуюся очевидность, с точки зрения марксистской терминологии – ложный. Классики марксизма разделяли понятия диктатуры пролетариата и социализма. Важность понимания такого разделения кроется не только в проблеме терминологической путаницы, но и в том, что скрывается за данным вопросом. Оппортунистическое толкование вопроса ведёт к неверному мировосприятию, давая рабочим ложное представление, ведь если называть социализмом убогое господство партийных чиновников, то ни о каком формировании самостоятельной политики рабочего класса речи и быть не может. Зато может быть оправдана соглашательская и предательская политика бюрократического руководства «Коммунистической» партии, которая якобы ведёт рабочий класс в социализм.
Маркс боролся за научный взгляд на вопрос, ведь развитие научной мысли идёт в интересах пролетариата. Выкристаллизовывая термины, вкладывая в них определённые вещи, споря со своими оппонентами, Маркс давал определённый и ясный взгляд вместо туманных рассуждений. Казалось бы, наука и борьба рабочих не пересекаются – наука где-то в стороне и замкнута в себе – но в действительности без научного понимания происходящих процессов борьба будет спотыкаться о множество препятствий, будет допускать большое количество ошибок. Правящий класс делает всё, чтобы общество вместо науки кормилось бестолковой эклектикой и мыслило ею, скрещивая двуглавого орла с серпом и молотом, национализм с антифашизмом, монархизм с республиканизмом. Задача марксистов – дать верный взгляд, который принесёт победу рабочим, и через это, в том числе, поможет науке избавиться от вредного воздействия капитализма. Но если мы будем скатываться до уровня оппонентов Маркса, то не только ничего не поймём, но и останемся заложниками абстрактного мышления буквально во всём. Оторванное от конкретного понимание вопроса приводит к смешным, но грустным ситуациям, когда наблюдаешь людей, которые ведут ожесточённые споры о том, чей социализм самый правильный, самый лучший – ходжаистский или титоистский, сталинский или маоистский, советский или шведский.
Такие глупые рассуждения передались от путанных установок, насаждаемых победившей в СССР советской партноменклатурой, которой для обоснования своего режима требовалась идеологическая оболочка, исключавшая трезвый взгляд на вещи. Но крах Советского Союза и реставрация капитализма не только не избавили от идеологизации, но, напротив, взяли все тёмные заблуждения себе на вооружение. Буржуазная система образования сделала и продолжает делать всё, чтобы лишить людей способности мыслить правильно. В частности, рассказывая о том, что социализм в СССР рухнул, плановая экономика неэффективна, а коммунизм – недостижимая утопия.
За подобными заявлениями скрывается пустота. В лучшем случае апологеты буржуазии рассказывают о реальных проблемах советской экономики, но рассказывают об этом, глядя на некий личностный фактор, из-за которого якобы нельзя создать идеальную систему и из-за которого якобы социализм в СССР рухнул. Такой поверхностный взгляд, как сторонника капитализма, так и сторонника социализма, который также будет рассказывать про личностный фактор, ни к чему не приведёт, кроме бестолковой ругани. Поэтому важно не останавливаться на поверхностных рассуждениях, а переходить к конкретному анализу вопроса, что и делал в свою очередь Карл Маркс.
Обращаясь к марксизму, сторонники коммунизма (и даже его противники) сталкиваются с очень избитыми терминами, такими как социализм и коммунизм. Оба слова вызывают взаимную друг с другом ассоциацию, ведь в распространённом взгляде социализм – то, что было в СССР, в котором стремились к коммунизму. Столь понятный взгляд не вызывает никаких вопросов, пока мы не начинаем ставить дополнительные вопросы: в какой момент не стало социализма? В какой момент Советский Союз должен был достигнуть коммунизма, и как его достигнуть? Может, достаточно социализма, так как он скорее возможен, нежели коммунизм? А что есть социализм, и что есть коммунизм? На это и будем отвечать.
Социализм и коммунизм для Маркса и Энгельса были синонимами. Если взять их работы, то можно обратить внимание, как они поочередно используют оба термина в равнозначной степени в разных работах, при этом нигде не говоря о том, что социализм – это первая стадия, переходный период между капитализмом и коммунизмом.
Однако на это могут ответить, что в своей «Критике Готской программы» Маркс пишет о коммунистическом обществе, которое он делит на низшую и высшую стадию, и о социализме, как о первой фазе коммунизма. Действительно, Маркс делил коммунизм на две стадии, но, во-первых, в данной работе он не называет низшую стадию социализмом. Он называет всё коммунизмом, деля его на две стадии. Во-вторых, Маркс не пишет о первой стадии коммунизма (социализма) как о переходном периоде с диктатурой пролетариата. В своём тексте он говорит, что между капитализмом и коммунизмом (который делится на две фазы) лежит переходный период, в котором и осуществляется диктатура пролетариата: