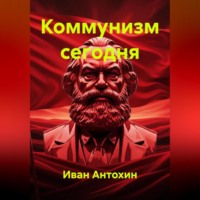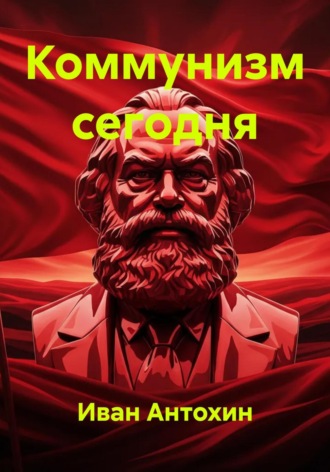
Полная версия
Коммунизм сегодня
«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата.»
В дальнейшем, после Маркса и Энгельса, в традицию вошло называть социализмом первую стадию коммунизма. В «Государстве и революции» Ленин подмечает этот факт:
«Но когда Лассаль говорит, имея в виду такие общественные порядки (обычно называемые социализмом, а у Маркса носящие название первой фазы коммунизма), что это «справедливое распределение», что это «равное право каждого на равный продукт труда», то Лассаль ошибается, и Маркс разъясняет его ошибку.»
«Таким образом, в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом)…»
В работе Ленина вопрос, которому посвящён данный текст, во многом и давно разобран. Тем не менее находятся люди, которые его работу вроде прочитали, но далее начинают выдирать из неё отдельные фразы или абзацы, тыкая утверждениями ровно противоположными тем, о которых пишет Ленин. Дело в том, что в этой работе Ленин применяет все свои познания в диалектике, умело «жонглируя» терминами, раскрывая вопрос, который его оппоненты понимали метафизически. При этом работа не несёт в себе сложной нагрузки, и чтобы её понять необязательно быть знатоком Гегеля, нужно лишь внимательно читать.
***
Подходя в своей работе к коммунизму, Ленину приходится говорить о государстве, беря всё, что по данному вопросу было развито Марксом и Энгельсом на основе практического опыта рабочего класса. Государство – продукт и проявление непримиримости классовых противоречий, которое при коммунизме должно исчезнуть за ненадобностью. Но чтобы исчезло государство – должно исчезнуть классовое общество. А чтобы исчезло классовое общество – необходима диктатура пролетариата для подавления буржуазии, а подавление буржуазии и её ликвидация как класса приведёт и к отмиранию пролетариата. Тем самым классы исчезнут и исчезнет государство. Так кратко и общо можно передать вопрос об отмирании государства и переходе к коммунизму. Но этого недостаточно, а потому требует дальнейшего раскрытия.
В массовом сознании распространился взгляд на разницу позиций между коммунистами и анархистами, который говорит, что анархисты выступают за уничтожение государства и моментальный переход к коммунизму, а коммунисты – за переход к коммунизму через господство диктатуры пролетариата. Анархисты скажут, что для перехода к коммунизму не нужна никакая диктатура (даже пролетарская), революция должна моментально отменить государство, ведь государство – паразит, который неминуемо будет приводить к неравенству, к обуржуазиванию и т.п. Поэтому в полемике против анархистов многие любят говорить об утопичности их взглядов, ведь после революции пролетариат просто так не может сложить оружие, ибо он должен подавлять своих противников, – то есть осуществлять диктатуру. Но дело не только в этом. Оппонируя анархизму, многие упускают ключевую проблему их позиции – предположим, что пролетариат одним ударом уничтожит буржуазию и разрушит государство, приведёт ли это к коммунизму? Нет, не приведёт. Коммунизм подразумевает такой уровень развития производительных сил, когда потребности всего общества и каждого отдельного его члена могут быть удовлетворены, но если эти потребности не могут быть удовлетворены, то это означает ограниченность в распределении благ. Маркс, споря с анархистами, утверждал, что пока общество не сможет удовлетворять себя в полной мере, пока остаётся скудность ресурсов, придётся прибегать к контролю в распределении, что в свою очередь ведёт к неравенству, а неравенство ведёт к государству. Государство полностью исчезнет только тогда, когда общество сможет полностью удовлетворять свои потребности.
Но полемика Маркса и Энгельса с анархистами о государстве, их взгляды в этом вопросе многими социал-демократами в прошлом были искажены и интерпретированы в оппортунистическом направлении. Именно этому посвящена работа Ленина «Государство и революция», которая была ответом противникам большевиков. В 1917 году, когда была написана эта работа, Плеханов называл Ленина анархистом. Ленин в работе критикует Плеханова, в частности за то, что тот в критике анархистов упускал вопрос о государстве. Это, в свою очередь, привело Плеханова во вражеский стан. Например, вот что писал Плеханов в своей брошюре «Анархизм и социализм» (1894):
«Развращающее влияние парламентской среды на рабочих депутатов осталось до последнего времени излюбленным аргументом анархистов, критикующих политическую деятельность социалистической демократии. Мы уже видели, какая ей цена с теоретической точки зрения. Достаточно самого поверхностного знакомства с историей немецкой социалистической партии, чтобы убедиться, насколько практическая жизнь разрушает анархистские опасения.»
Немецкая социал-демократия в конце концов обуржуазилась, встала в соглашение со своей буржуазией и в итоге предотвратила рабочую революцию в Германии. И тем самым спасла капитализм. Самое поверхностное знакомство со взглядами Плеханова говорит о том, что мы должны лучше разбираться в вопросах социализма, иначе это приведёт не только к непониманию истинного содержания терминов Маркса, но и к глубоким ошибкам на уровне предательства. Ленин, критикуя оппортунистов, подчёркивал эту проблему:
«Наиболее замечательна в данном рассуждении Энгельса опять-таки постановка вопроса против анархистов. Социал-демократы, желающие быть учениками Энгельса, миллионы раз спорили с 1873 года против анархистов, но спорили именно не так, как можно и должно спорить марксистам. Анархистское представление об отмене государства путано и нереволюционно, – вот как ставил вопрос Энгельс. Анархисты именно революции-то в её возникновении и развитии, в её специфических задачах по отношению к насилию, авторитету, власти, государству, видеть не хотят.
Обычная критика анархизма у современных социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости: «мы-де признаём государство, а анархисты нет!». Разумеется, такая пошлость не может не отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит иное: он подчёркивает, что все социалисты признают исчезновение государства, как следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о революции, тот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную «разработку» анархистам. И, ставя этот вопрос, Энгельс берёт быка за рога: не следовало ли Коммуне больше пользоваться революционной властью государства, т. е. вооружённого, организованного в господствующий класс пролетариата?
Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой филистера, либо, в лучшем случае, уклончиво софистическим: «там видно будет». И анархисты получали право говорить против такой социал-демократии, что она изменяет своей задаче революционного воспитания рабочих. Энгельс использует опыт последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что́ и как следует делать пролетариату и по отношению к банкам и по отношению к государству.»
Ссылаясь на классиков, Ленин подчёркивает, что пролетариат, беря власть, уничтожает буржуазное государство и тем самым уничтожает государство как таковое, ведь государство возникло как результат классовых противоречий в обществе, как аппарат имущего меньшинства для подавления большинства неимущих. Захват власти большинством неимущих и уничтожение государства как такового, сменяется отмирающим пролетарским полугосударством, которое из себя всё ещё представляет государство, так как является аппаратом для подавления одной части общества другой, с другой стороны, государством уже не является, так как большинство населения осуществляет диктатуру.
Подавление буржуазии, уничтожение капитализма, развитие производительных сил постепенно ведёт к тому, что специальный аппарат для подавления (пролетарское полугосударство) теряет свою необходимость и постепенно отмирает, – общество переходит к коммунизму. Забегая вперёд, добавим, что в дальнейшем данный взгляд будет подправлен Львом Троцким, который, исходя из опыта уже Советского государства, выдвинет утверждение, что полугосударство возникает при первой фазе коммунизма (социализма). Но об этом позже.
Так где и когда отмирает полугосударство? Отмирает при коммунизме, но коммунизм классики делили на две фазы. А почему делили, и в чём отличие? Частая проблема отвечающих на вопрос о возможности социализма с наличием государства, или государства при социализме в схематичном представлении вопроса. Ленин пишет, что государство окончательно отмирает на высшей фазе коммунизма:
«Государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет, подавлять поэтому какой бы то ни было класс нельзя.
Но государство ещё не отмерло совсем, ибо остаётся охрана «буржуазного права», освящающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунизм.»
Эту цитату очень любят вырывать из контекста в подтверждение того, что государство будет оставаться ещё и при социализме, а значит социализм подразумевает и государство, и диктатуру пролетариата, и является переходным периодом от капитализма к коммунизму. Но, как мы уже выяснили, социализм – уже есть коммунизм в его первой фазе, а говоря про государство Ленин имеет в виду не государство как таковое и к которому мы привыкли, а переживающий своё завершение остаток тех механизмов, которые были присущи государству. Государство как аппарат для подавления одного класса другим более не существует, но обществу из-за неразвитости производительных сил всё ещё приходится регулировать процесс равного распределения благ. А это распределение всё ещё подразумевает потребительное неравенство из-за неравности человеческих индивидуумов. Поэтому всё ещё имеется необходимость в охране такого неравенства, и в этом смысле государство ещё остаётся, но государства как такового более нет.
Схематичный же вариант представляет собой непонятицу – социализм с государством в какой-то непонятный миг должен превратиться в безгосударственный коммунизм. В какой, каким образом? Когда будут побеждены все буржуи мира? Но в таком случае можно сразу перейти к коммунизму, если предположить, что все буржуи мира одним ударом будут уничтожены. А если не будут, – выходит, что пролетарское государство и национализированная плановая экономика и есть социализм. Но это не так. Схематика представляет нам дело так, что государство соседствует с социализмом, и как только капитализм побеждён во всём мире, то государство просто убирается, потому что более не нужно иметь аппарат, границы и армию для защиты от внешней угрозы. В свою очередь, внутри территории победившего социализма наличие государства обосновывается борьбой с остатками и пережитками эксплуататорских классов. Однако Ленин имел в виду сохранение при социализме охраны «буржуазного права» и регулятора распределения, а не аппарат для подавления одной части общества другой её частью. Более того, если предположить сохранение государства при социализме, то нам придётся говорить о наличии государственных интересов и о социальных интересах государственной бюрократии, о которых некоторые деятели марксизма даже не думают говорить, сводя весь вопрос к догме «государство – аппарат правящего класса».
К сожалению, догматизация марксизма происходит, когда человек начинает рассматривать его как набор определённых, истинных утверждений в виде цитат, которые надо собрать в единый идеологический пазл. Такой формалистский взгляд в Советском Союзе навязывался людям бюрократией, и это привело к тому, что советские люди начали воспринимать марксизм и коммунизм как некую мертвую, ритуальную форму, смысла которой никто не понимал. В нынешнее время такой взгляд никуда не исчез. С одной стороны, его продолжают навязывать сталинисты, с другой – буржуазная система. Но марксизм – это не набор правил по всем вопросам, который всё описывает, и который надо принять как Библию.
Человеку, имеющему современное образование и живущему в капиталистической реальности, марксизм представляется сложным, потому что понимается формально, поверхностно, – так как капиталистическая система учит нас верить в доброго правителя, в магию денег и т.д. Вот и учение Маркса рассматривается как набор цитат, которые надо заучить и принять. Но тем самым действительная человеческая мысль теряется, перестаёт осознаваться, и поэтому даже простые вопросы не получают объяснения. На деле вся сложность марксизма заключается в его простоте. Как, в частности, и работа Ленина.
***
Вернёмся обратно к терминам и перейдём к СССР, из-за которого ведутся колоссальные споры о том, был ли в нём социализм.
Терминологическая путаница, сложившаяся в советское время, привела к тому, что некоторые называют социализмом переходный период – режим диктатуры пролетариата. Так, конечно, тоже можно, но тогда возникает вопрос: почему Ленин не считал социализм построенным сразу же после завоевания власти и даже в период расцвета «военного коммунизма», когда все было национализировано и даже свободная торговля была заменена безденежным распределением? В чем качественное отличие между 1917 и 1936 годом, когда новая конституция объявила о построении социализма?
Различные сталинисты часто говорят, что в СССР социализм был построен, и при всём при этом оставалась диктатура пролетариата. Получается, что до построения социализма была диктатура пролетариата без социализма, которая социализм построила и сохранилась по крайней мере до смерти Сталина, ибо дальнейшие рассуждения о крахе диктатуры пролетариата и социализма разнятся. Но дело в том, что сам Сталин, придерживаясь марксистских терминов, разделял понятия диктатуры пролетариата и социализма считая, что не может быть диктатуры пролетариата при социализме. В своём докладе о проекте новой конституции в 1936г. Сталин заявил следующее:
«Стало быть, наш рабочий класс не только не лишен орудий и средств производства, а наоборот, он ими владеет совместно со всем народом. А раз он ими владеет, а класс капиталистов ликвидирован, исключена всякая возможность эксплуатации рабочего класса. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс пролетариатом? Ясно, что нельзя.»
С другой стороны, для обоснования идеологии партийной бюрократии о «социализме в отдельно взятой стране», он внёс путаницу:
«А что это значит? Это значит, что пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социалистическую собственность на орудия и средства производства и направляющий советское общество по пути коммунизма.»
С точки зрения Сталина диктатура пролетариата, при якобы построении социализма, перетекла в диктатуру рабочего класса, а значит нет в СССР диктатуры пролетариата. В связи с этим смешно смотреть на слёзы сталинистов, которые обвиняют Хрущёва в том, что он отменил в СССР диктатуру пролетариата, убрав это положение из программы партии на XXII съезде. В действительности советская бюрократия при Хрущёве просто продолжала проводить сталинскую идеологическую традицию, не говоря уже о том, что социальный характер государства не меняется формальностями.
Если предположить, что пролетариат исчез в связи с уничтожением противоположного ему класса капиталистов, и за этим исчезла и диктатура пролетариата, то что значит диктатура советского рабочего класса? Пролетариат, экспроприируя капиталистов, действительно уничтожает себя как класс, однако будет совершенно неверным смотреть на этот вопрос как на то, что пролетариат может самоустраниться благодаря одному удару по капиталистам в отдельно взятой стране. Точно так же как нельзя этого сделать с государством. Опыт показал, что советское общество, даже экспроприировав собственников средств производства, оставалось неоднородно, различие в распределении и привилегиях поддерживало паразитическую бюрократию, существовала разница между городом и деревней, разница между умственным и физическим трудом. В конце концов расслаивался и сам пролетариат, выделяя внутри себя рабочую аристократию. Всё это наследие капитализма устранено не было, и, пока оно оставалось, оставалась угроза капиталистической реставрации. А потому о полном отмирании пролетариата нечего и говорить. Формула диктатуры советского рабочего класса только подтверждает сказанное – общество ещё не освободилось от социального расслоения, но если взять за аргумент, что диктатура рабочего класса остаётся исключительно из-за враждебного окружения (ниже об этом будет сказано), то это опять-таки говорит только о том, что советское общество социализма не достигло, иначе не требовалась бы никакая классовая диктатура, которая необходима для защиты от мирового капитализма, который своим уровнем развития и превосходства может повлиять на внутренние процессы «социалистического» общества и откатить всё назад. Но мы забежали немного вперёд.
Таким образом, если по Марксу социализм предполагает бесклассовое общество, то по Сталину социализм во враждебном капиталистическом окружении предполагает наличие неэксплуатируемых классов и диктатуру рабочего класса, который ведёт борьбу с мировым капитализмом. В 1938 году Сталин пошёл ещё дальше, заявив на XVIII съезде партии:
«Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма?
Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военного нападения извне, причем понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.»
По Сталину классы и государство могут оставаться и на высшей фазе коммунизма. И если в общественном сознании наличие при социализме диктатуры и государства вопросов не вызывает, то наличие их при коммунизме может ввести людей в ступор, особенно при том, что Маркс вообще под социализмом и коммунизмом понимал одно и тоже. Заявление Сталина о необходимости государства в период полного коммунизма из-за наличия военной опасности извне некоторыми деятелями трактуется как развитие Сталиным марксистской теории на основе практики. Но в действительности такое заявление есть лишь идеологическое прикрытие бюрократической власти, которое можно расшифровать как необходимость государства в полном его смысле, с необходимостью военного и любого другого привилегированного чиновничества, которое процветало в СССР не в результате военной опасности извне, а в результате социального расслоения внутри советского общества.
Социализм (он же коммунизм) – общество без классов, эксплуатации и государства, с общественным производством и с такими производительными силами, которые будут удовлетворять все человеческие потребности. Отдельная страна как минимум предполагает границы – это значит, что государство, армия, специальный аппарат людей с привилегиями и правами останутся для обеспечения существования этой страны. Производительных сил одной такой страны будет недостаточно для осуществления социализма, – для этого достаточно взглянуть на огромную зависимость от мирового производства и рынка любой высокоразвитой капиталистической страны. Это значит, что одно государство, взявшее курс к социализму, может сколько угодно приближаться, но так его и не достигнет, ибо не сможет преодолеть национальную производственную ограниченность и отказаться от государства, а поэтому в нём будет оставаться потенциал для капиталистической реставрации. То есть власть в отдельной стране рабочие взять могут, но до тех пор, пока они не захватили страны капиталистической метрополии – режим следует считать переходным с возможностью капиталистической реставрации. До тех пор, пока есть государство – есть неравенство, которое оно охраняет. Даже если это рабочее государство. Если мы движемся к социализму (коммунизму), общество должно быть все более и более обществом равных, политические функции государства должны отмирать, оставляя лишь технологически обусловленное совместное управление производством.
В СССР провозглашённый социализм определялся по любимой Прудоном формуле: «от каждого – по способностям, каждому – по труду», но ошибочность этой формулы заключается в том, что если человек может работать по своим способностям, значит он не работает по труду, как форме буржуазного распределения. Если же человек работает по труду, то получается, что он не работает по способностям, так как зависит от буржуазных норм распределения. Внутренняя противоречивость провозглашённого лозунга отражала лицемерие под маской социализма. Маркс же опирался на логичную формулу – «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Но данная формула относится к высшей фазе коммунизма. Нам же здесь важно показать, что пока труд зависит от принуждения и контроля, пока трудовая деятельность человека зависит от норм, из-за которых приходится «вкалывать», то ни о какой работе по потребностям речи и быть не может. Фактически формула «от каждого по способностям, каждому по труду» символизировала способность рабочих выжимать из себя последнее, чтобы угнаться за большей заработной платой, тогда как Маркс говорил ровно об обратном: человеческий труд перестаёт быть проклятием и становится человеческой необходимостью, в то время как общество вознаграждает человека по его потребностям.
Социализм предполагает более высокие производительные силы по сравнению с капитализмом. Если мы признаём социализмом только лишь обобществление экономики и не учитываем развитость производительных сил, то мы действительно получим социализм, только не по Марксу. Если обобществлённые средства производства малы, то ни о каком равенстве и социализме речи и быть не может. Сталинисты же в данном вопросе опираются не на эту мысль Маркса, а на позицию анархистов, – за тем лишь исключением, что для первых при социализме остаётся государство. Но государство потому и остаётся, что оно вынуждено охранять те скудные, хоть и обобществлённые, ресурсы, которые имеются, а потому ни о каком социализме речи быть не может. Пока одни живут в обобществлённых хороших, комфортных квартирах, а другие – в обобществлённых бараках, – это порождает неравенство, общественное расслоение и конфликт. И у привилегированной части общества появляется необходимость в охране своего положения и в государственном аппарате, который будет защищать и оберегать их положение.
Но как быть с тем, что полное отмирание государства (а точнее полугосударства) возможно только на высшей стадии коммунизма? Получается, Сталин рассуждал более-менее правильно? В своей речи в 1928 году он говорил:
«Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы. Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной роли классовой борьбы»
В 1937 году Сталин продолжает развивать мысль об ужесточении классовой борьбы при уже объявленном социализме:
«…Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё более и более ручным.
Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу даёт возможность оправиться для борьбы с Советской властью.
Наоборот, чем больше будем продвигаться вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обречённых…»
Но усиление классовой борьбы, усиление классовой диктатуры при продвижении к социализму говорит об обратном – чем сильнее классовые противоречия в обществе, тем сильнее растёт роль государства, тем дальше общество от своей бесклассовой формы. Об этом писал ещё Энгельс:
«Публичная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства, и по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся больше и населеннее. Взгляните хотя бы на теперешнюю Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили публичную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество и даже государство.»