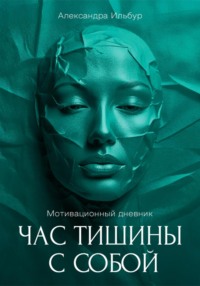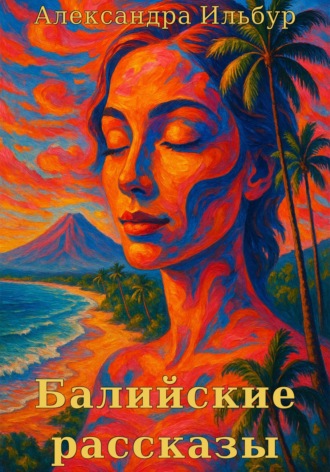
Полная версия
Балийские рассказы
Марина вернулась на террасу и долго молчала.
Пётр слушал её рассказ и только пожал плечами:
– Ну, мало ли что имел в виду старик… Местные свои загадки любят.
Но всю ночь Марине снились странные сны:
водопад, изливающийся золотым светом, птица с огненными крыльями, лотос в клюве и мантры, растворяющиеся в океане.
Прошло 4 месяца.
Бали стал для них домом.
Каждый день начинался с купания в океане, запахов франжипани и свежего кокоса.
Но однажды утром Марина почувствовала себя плохо.
– Наверное, солнце, – сказала она, пытаясь отмахнуться.
Пётр нахмурился:
– Собирайся. Едем в больницу.
В клинике после анализов доктор поднял на них глаза и сказал тихо:
– “Поздравляю. Вы станете родителями.”
Марина замерла.
Пётр побледнел.
– Подождите… вы серьёзно?
– Очень серьёзно.
В коридоре Пётр присел на лавку и уткнулся лицом в руки.
Слёзы текли сами собой.
– Девочка моя… мы сделали это…– шептал он, целуя её ладони.
Через восемь месяцев, в балийской клинике, Марина родила двух крепких мальчиков.
А спустя полтора года в их семье появилась и долгожданная дочка Мила.
На фотосессии в балийских нарядах, держа сыновей за руки и прижимая к себе маленькую дочку, Марина вдруг вспомнила ту девочку на пляже Томас-Бич.
Её слова зазвучали в голове так ясно, будто она произнесла их снова:
Красный меняется на два синих и один розовый.
Два синих цветка.
И один розовый.
И Марина впервые за девять лет поняла:
Бали услышал их.
И дал им то, о чём они просили.
День, когда остров дышит тишиной
На Бали есть дни, которые чувствуешь задолго до того, как их объявят по радио. Сначала меняется свет – он становится суше, как будто солнце протёрли мягкой тканью. Потом пахучее и гуще делается дым благовоний – он висит над улицами не просто «запахом», а намерением. И уже потом на перекрёстках появляются новые плетёные корзинки-подношения: чуть более нарядные, с целыми горками лепестков, риса, печенья, монеток, с каплей святой воды – как печати на письмах богам.
Так остров готовится к Ньепи— Дню тишины, когда целые сутки Бали не едет, не шумит, не торгуется, не развлекается, а дышит. Чтобы в этой тишине услышать – себя.
Но до тишины – шум. И не обычный: торжественный, театральный, выстраданный. Острову нужно «выговориться», чтобы суметь замолчать по-настоящему.
За пару дней до Ньепи, на рассвете, дороги тянутся к морю, как реки, вспомнившие устье. Меласти – церемония очищения водой. Из деревень, из храмов – маленьких семейных и больших общественных – тянутся процессии: мужчины в белых рубашках и саронгах, женщины в кружевных кебаях с широкими поясами; на головах – корзины с яркими подношениями, над всем – бело-жёлтые зонты, как маленькие солнца, и флаги с длинными хвостами.
Детвора прижимается к мамам, старики идут с такой прямотой спины, какая бывает у людей, для которых вера – не убеждение, а ремесло. У кромки воды служитель разбрызгивает воду над толпой – короткими дугами, как вспышки памяти. Разноцветные лепестки ложатся на песок рядом с рыжими крабами, и волна бережно тянет их на пару ладоней – не забирая, а «читая».
– Sukṣma, – шепчет женщина рядом и касается лбом кончиков пальцев. Спасибо – здесь всегда действием, а не словом.
Океан шумит без лишней торжественности, как добрый механик, который знает: самая важная работа – тихая. Оно смывает не «грехи», а усталость. Накопившуюся за год пыль имён, привязанностей, маленькой злобы – того, что прилипает к человеку, если ходить по миру без внутренней метлы.
Накануне Ньепи, днём, на перекрёстках острова – Tawur Kesanga. Это не просто «жертвоприношение духам», как любят писать путеводители; это переговоры с миром: с землей, ветром, огнём и водой. На земле раскладывают рис и фрукты, крошечки сладостей и чуток соли, в листьях банана дымятся благовония, а священник на певучем балийском произносит слова, которые не переводятся, потому что они не «про», а «для».
– Мы отдаём – чтобы нам вернули, – шепчет Ваян, мой сосед по лавочке у храма, – не вещи, а равновесие. Это слово и есть богатство.
С неба стекает жар; в тени под воротами дрожит ленивый пес; мимо проходящая женщина несёт на голове поднос – такое искусство равновесия не увидеть в спортзалах больших городов. Не потому, что там нет таланта, а потому, что нет привычки держать мир на голове и не ронять.
И вот – вечер. Улицы уже шумят не просто музыкой – гангса и барабанами – а чем-то более плотным: шумом, в котором есть задача. Площадь наполняется Ого-Ого – гигантскими фигурами демонов, гротескных и смешных, страшных и нарядных, сделанных руками ребят из каждого банжара (общины). Глаза – выпуклые; язык – алый и длинный; когти – как у кошки, которая решила стать оперной дивой; тела – иногда как у монстров, иногда как у карикатур на человеческие пороки.
– Наш – Каанган! – гордо шепчет парнишка, указывая на страшилище с рогами. – А у них – Бхута с тремя головами. В прошлом году – чудо как победили!
«Победить» – значит унести фигуру по маршруту, плясать с ней, не уронив, пройти развилки, развернуть на узких улочках, выдержать ритм барабанов и гомон толпы. На перекрестках – остановки: Ого-Ого крутят по часовой стрелке. Так, говорят, запутывают дороги злым духам, чтобы тем стало сложнее найти обратный путь.
Сейчас кажется, будто смеются и танцуют над «суевериями». Но здесь нет смешного. Это – коллективная психотерапия до всяких факультетов. Мы делаем монстров своими руками – раскрашиваем, украшаем, придумываем им имена – и, когда они встают во весь рост, выносим на улицу… чтобы сжечь. Не ненависть, а тревогу. Не врага, а тень, которая вырастает у каждого, когда забылось, из чего сделан день.
Факелы разгораются, ветер отгоняет дым, искры летят в легкую темноту – и дети аплодируют так, словно только что расслабилась мышца в затылке мира.
– Завтра – тишина, – говорит Ваян и точно кладет ладонь мне на плечо. – Но тишина без сегодняшней ночи – это просто отсутствие звуков. А нам нужна тишина со смыслом.
Ночь съезжается к полуночи. Тогда весь остров – целиком – делает то, что в мире называют «невозможным».
Аэропорт закрывается. Все взлёты и посадки отменены. Ни одна лодка не идёт к Ломбоку. Интернет у мобильных операторов отключают, телевидение замолкает. Улицы пустеют. В каждом доме – шторы, плотные покрывала на окна, приглушенный свет (если он вообще есть) и внутреннее «тишина».
Это – не «локдаун». Это – обряд. Называется он Catur Brata Penyepian— четыре запрета:
1. не зажигать огонь (и яркий свет),
2. не работать,
3. никуда не выходить из дома,
4. не развлекаться.
«Не» здесь – не наказание. Это – инструмент. Чтобы тот шум, что мы носим в груди, хотя бы раз в год перестал влиять на нас, как гиря на лодку. Верующие постятся – кто-то всю ночь молится, кто-то медитирует, кто-то просто сидит в тени двора и слушает, как скрипит бамбук. Дети шепчутся под одеялами, как будто весь остров стал одной большой палаткой.
По улицам в этот день можно увидеть только печаланг – традиционных стражей тишины. Они патрулируют с факелами и рациями, проверяют, чтобы никто не вышел в суету без необходимости, чтобы свет из окон не колол темноту и чтобы у соседей было достаточно воды и риса. Это не «полиция». Это – совесть общины на вахте.
Да, предприниматели недополчают выручку, туркомпании отменяют трансферы, авиалинии теряют деньги. Но остров словно говорит: «Ради памяти, ради устроения вещей я могу прожить сутки без оборота капитала». И это звучит мощнее всякой риторики о «сохранении традиций».
В полдень – самая густая тишина. Даже океан – будто вежливо убавил шум. С рисовых террас доносится только птичий свист да редкое хлопанье крыльев цапли.
Я сижу во дворе у семьи Ваяна. Его мама тихо плетёт подношения для завтра, отец чинит старую бамбуковую перегородку, мальчишки дремлют на циновках. У каждого – в руках тень от пальцев. У меня – ощущение, что мир только что выдохнул после долгого марафона.
– В этот день легко понять, чего в тебе больше, – шепчет Ваян. – Если ты зависим от движения, тишина страшна. А если ты просто живой – она как вода после жары.
Он смеётся совсем тихо, чтобы не разрушить полупрозрачную кожу тишины, и я вижу, как на мгновение у него в глазах появляется мальчишеское: радость не от того, что «получилось правильно», а от того, что получилось вместе.
Каждый год находятся те, кто «знает лучше». На этот раз – четверо туристов, две пары. Они приехали за неделю до Ньепи, сняли мопеды, успели почувствовать на вкус закаты и маракуйю, насмотрелись на Ого-Ого— и решили, что «день тишины» – отличный повод устроить себе «ретрит на природе».
– Мы поставим палатки на пляже, – сказал один (в футболке с надписью Be Mindful), – будем медитировать на прибой. Это же «быть с собой», да?
Хозяин геста в Чангу попытался объяснить, что нельзя: выход на улицу запрещен; свет нельзя; печаланги патрулируют; отель несет ответственность за гостей. Те снисходительно улыбались:
– Мы – тихо. Нас не заметят.
И, когда остров погрузился в мягкую темноту, они утащили рюкзаки и поплелись по знакомой тропе к океану. Набросали песка на колышки, натянули палатки, зажгли внутри маленькие фонарики «только чтобы книгу почитать», достали из пакетика фрукты и бутылку красного вина.
Волна шуршала, ветер принёс кокосовый лист, вдалеке ничего.
Тишина услышала их первой.
Через полчаса показались печаланги – двое, тихие, как сами правила. Они не кричали «эй, вы что творите». Они просто подошли, светанули фонарём на песок, на палаточные тени, на белые лица, и голос старшего прозвучал так же, как звучит слово «пожалуйста», когда оно на самом деле означает «нельзя»:
– Друзья. Сегодня – Ньепи. Вы – на пляже. Вы – нарушаете сразу всё. Сверните палатки. Возвращайтесь в свою гостиницу.
– Мы медитируем, – сказала девушка, дрогнув, – это тоже часть… ну… уважения.
– Уважение, – мягко ответил печаланг, – начинается с того, чтобы не считать себя умнее традиции.
Вся сцена заняла меньше пяти минут. Туристы, ворча, стали сворачивать палатки. Один вдруг дёрнул бутылку вина и махнул в сторону патруля:
– В Европе у нас свобода! Мы никому не мешаем!
– В Европе – у вас Европа, – не повышая голоса, сказал второй печаланг. – На Бали – Бали.
Они проводили их до отеля и – не шумно, но очень ясно – передали информацию в район. В такие моменты остров не «возмущается». Он фиксирует. А потом – делает вывод.
Когда вновь зажглись кухни и забормотал базар, двоих мужчин и двух женщин попросили прийти в иммиграционный офис. Разговор был короткий и не злой: объяснение правил, фиксация нарушения, напоминание, что ответственность несет не только ты, но и те, кто тебя приютил.
Через два дня их депортировали. Без скандала, без наручников. Просто – «вы не услышали остров». И это звучало страшнее, чем любое полицейское «вы нарушили».
В кафе, где мы сидели с Ваяном, говорили не о «жесткости», а о «прямоте». Здесь никому не придёт в голову восхищаться бегством от «правил». Правила – не сетка для ловушек. Правила – фасон, по которому шьют день.
– Мы теряем много денег в Ньепи, – признался владелец варунга, крутя ложку в стакане с чаем, – но мы не теряем смысл. Если потерять смысл, деньги не помогут.
Он улыбнулся и подмигнул сыну: тот тащил к столу большую корзинку с еще теплыми блинчиками. Жизнь вернулась в осязаемое: шуршит банановый лист, звякают ложки, кто-то смеётся. Ngembak Geni – «разжигание огня» – день после Ньепи, когда можно снова навещать друзей, мириться, начинать дела «с чистого места».
Ньепи – это не «театральный трюк ради туристов». Он был задолго до нас и будет – дай бог – после. Потому что эта традиция отвечает на главную болезнь времени: навязчивость звука. Мы живём так, будто любое молчание – поломка колонки. Остров раз в год говорит: «Давайте, мы вместе выключим звук. А потом – посмотрим, кто мы без него».
Некоторые постятся,кто-то просто спит, кто-то весь день читает древние тексты, кто-то пересчитывает рис – не чтобы занять руки, а чтобы вспомнить, что у вещей есть вес. У всех – по-разному. Но у всех – про себя.
Это и есть самое честное «духовное упражнение», какое только можно придумать: не «победить себя», а разжаться настолько, чтобы услышать собственную жизнь, пока она ещё твоя.
Вечером, когда заново включаются огни, когда над рисовыми террасами вспыхивают первые фонари, когда базары младенчески тянут свои голоса в небо и моторы мопедов складываются в ритм «ну что, поехали дальше» – ты вдруг понимаешь, зачем были эти сутки. Чтобы день снова стал днём, а не беспрерывной лентой задач.
На Бали умеют держать форму жизни. Не железом и указами, а привычками – маленькими и упрямыми.
Кладбище лодок
На севере Бали море не кричит – оно дышит-Балийское море. Волна приходит короткая, упругая, отступает, оставляя на чёрном песке стальную кромку соли. Пахнет мокрой верёвкой, солёной древесиной и чем-то горьким – как будто с дальнего рифа ветер приносит вкус старых бурь.
Я шла вдоль берега между Сингараджей и Теяджакулой, где за пальмами лежат деревни с низкими дворами и крохотными семейными храмами. Здесь – не открытки. Здесь – работа: сети сохнут на бамбуковых жердях, дети спорят из-за пригара на рисе, женщины перебирают мелкую рыбу в тени, мужчины чинят двигатели, к которым океан относится без сентиментальности.
И вдруг берег сделал паузу. На следующем отрезке пляжа песок был забит лодками – сбитыми с ног, вывалившимися на бок, обуглившимися от солнца, облезшими от соли. Некоторые – с расколотыми бортами, другие – ещё держали форму, но в каждой доске жили трещины, как морщины на старом лице. Они лежали рядами, как выстроенные к вечеру солдаты, и зловеще не шумели.
«Кладбище лодок», – прошептала я, хотя никто не спрашивал. Под ботинком хрустнуло что-то острое – сухая рыбья кость. Я подняла камеру: широкоугольник ловил одинаковое, как будто любой кадр мог стать чужим. Тогда я подошла ближе. У одной лодки – выцветший глаз на носу, написанный тяжелой кистью – mata, чтобы море видело путь. На борту – облупившаяся надпись: Suka Jaya- «Счастливая удача».
– Cantik?-Красиво? – спросил кто-то за спиной. Голос хриплый, тёплый, как чай после ночной рыбалки.
Я обернулась. Передо мной стоял старик – сухой, как бамбук, в белой рубашке, завязанной на животе, в синем саронге. На голове – узелок чёрной ткани, уденг. Кожа его была цвета старого тикового дерева, глаза – неожиданно светлые. В руке – плетёная корзина с маленькой рыбой, ещё блестящей.
– Красиво, – сказала я. – И страшно. Они как живые, но умерли.
Старик усмехнулся уголком рта и кивнул на лодки:
– Это не смерть. Это память. У каждой – имя, и у каждого имени – семья. Ты снимать пришла? Присядь, послушай. Сначала – слова, потом – картинка. Иначе увидишь только доски.
Мы сели на перевёрнутый корпус, похожий на ребро кита. Ветер принёс сухую пыль песка и далеко-далеко – хрип мотора от живых лодок у следующей деревни.
– Меня зовут Маде, – сказал он. – Nelayan. Рыбак. Как отец. Как kakek, дед.
Он постучал костяшками по борту. Дерево откликнулось глухо.
– Её сделали в восемьдесят восьмом. Тиковая сердцевина, а поперечины – албезия, она легче. Видишь бамбуковые «крылья» по бокам? Это аутригеры, чтобы не опрокидывалась. Тогда строили без чертежей: два мужчины, три недели, нож, шнур, терпение. Этой лодкой я плавал с отцом.
– Выход в три ночи. Возвращение – к девяти. Солнце здесь не щадит. Мы сдавали улов на рынках – Pasar Banyuasri в Сингараджe, в деревенских варунгах, иногда грузили в пенопластовые ящики со льдом – и через горы, к югу, в Денпасар.
Он провёл пальцем по букве «S».
– Это написал мой отец. Той кистью он расписывал кайты, воздушных змеев, – улыбнулся коротко. – Представь: мы веревками тянем сеть, посередине ночи, и разговор звучит как музыка, пока руки не перестают чувствовать соль. Лодка – как дом, только движущийся.
– Почему она здесь? – я всё ещё не решалась снимать голос – только дерево.
– Потому что я старый, а море любит молодых. И потому что в ту зиму сменился ветер. Angin barat – западный муссон – принес слишком много злости. Мы перевернулись в трёх милях от берега, когда цепляли буй. Лодку вытащили, починили, но в ней поселилась тень. Я стал выходить реже. Потом – вовсе перестал. Пусть лежит и хранит.
Он сказал это без жалости – как о человеке, который отработал жизнь и имеет право спать.
Мы перешли к следующей. Нос выкрашен в сильный синий, по борту – белые волны и две маленькие ладони, отпечатанные краской.
– Это лодка Ибу Команг, – сказал Маде. – Женщины редко ходят в море, но её муж слёг, а дети иногда голодали. Она ставила небольшую сеть на cakalang , иногда – поднимала bubu (ловушку), которую мы ставим на песчаном дне. Эта лодка пахла её волосами – они были всегда мокрые.
Я провела ладонью по борту. Краска шелушилась, как выгоревшая ткань.
– Потом сын вырос и сказал, что будет водить туристов смотреть дельфинов у Ловины. Он купил мотор, привёз наклейки с «TripAdvisor» и перестал смотреть на море как на хозяина. Команг радовалась, что он улыбается чаще, – Маде паузу выдержал длинную, – а я радовался, что когда шторм, он не выходит. Смотри: эти ладони – его и младшей дочери. Они «благословили» лодку на удачу. Лодка стояла с ними, как с глазами.
– А сейчас?
– Сейчас от Putri Laut осталась скамья у неё во дворе. Доски – крепче, чем мы думаем. Море разучивает нас, а дерево – учит.
Эта была почти целая. На носу – «глаз» с золотой точкой, на корме – треснувшее сиденье.
– Bintang Purnama – «звезда полнолуния». На ней Кадек Тамин ходил к дальнему рифу. Он не верил в приметы, смеялся над «глазами», не клал рис перед выходом и говорил, что у него «наука»: компас, эхолот, новая свеча зажигания, – Маде хмыкнул. – В тот год у дочери была metatah, обряд подпиливания зубов. Надо было заплатить жрецу, музыкантам, купить сари. Кадек продал двигатель. Думал – купит другой через сезон. Сезон был плохой. Теперь он чинит чужие мотороллеры. Говорит: «Я всё равно ищу звук моря – только в других пчёлах».
Он провёл ладонью по трещине сиденья.
– Понимаешь? Лодка – это не про «богатство». Это – про возможность быть кто ты есть. Когда её нет – ты всё ещё ты, но труднее это помнить.
– Можешь залезть, – сказал он и кивнул на «Suka Jaya».
Я осторожно переступила борт. Дерево было шершавым, как небритый подбородок. На дне – плоские камни вместо балласта, обломанная dayung – весло, рулевое перо, привязанное к борту. Пахло прелой солью и моторным маслом, уксусной кислинкой от старых рыбьих кишок. На шпангоутах виднелись затертые следы пальцев – там, где годами хватались руки. Я села на корточки и приложила щеку к дереву – как будто можно услышать море, которое в нём осталось. Доносился шум крови. Моей.
– Ложись на спину, посмотри в небо, – сказал Маде. – Вот так мы мечтаем в полдень, когда сеть мокнет и мотор молчит. Видишь облако? Оно похоже на парус. А то – на рыбу махи-махи. Когда мы были мальчишками, мы считали облака вместо цифр. Так учились ждать.
Я подняла камеру. В объектив вставало небо, прорезанное двумя бамбуковыми «крыльями», и узкая полоска чёрного песка. Где-то в дальнем крае кадра медленно шёл человек с корзиной на голове – ровно, как стрелка компаса.
Щёлк. Впервые картинка дышала.
С моря надвигалась длинная, как пояс, туча. На севере дожди приходят без предисловий: за минуту ветер меняет лицо, воздух наполняется ароматом зелени и ржавчины, и где-то на дальних пальмах начинают хлопать листья – слышно издалека, как шаги армии.
Мы спрятались под выступом лодки. Дождь ударил. Крупный, горячий, мягкий – как будто кто-то вылил на остров ведро теплой воды. Песок тут же запил его, как жаждущий. На мокрой древесине проявились годичные круги – светлые и темные, как записи в старой книге.
– Ты откуда? – спросил Маде.
– Из Петербурга, – сказала я. – Но это раньше. Сейчас – из везде. Фотограф.
– Фотограф, – повторил он вкусно. – Значит, ловишь не только рыбу. Menangkap cahaya – ловить свет. Смотри, как он сейчас ложится, – он показал на борт. – Как чешуя.
Мы молчали. Дождь отсчитывал минуты сверх точно.
– Я хочу сделать книгу, – сказала я вдруг. – Не про «Бали с открытки». Про ваши perahu – лодки. Про вас. Про это место. «Кладбище лодок», только живое.
– Сделай, – сказал он. – Но всё по-честному. И не фотографируй там, где людям больно, как будто это артефакт.
– Обещаю.
– И ещё, – добавил он. – Если будет книга – пусть одна лодка снова поплывет. Хоть маленькая. Чтобы наши мальчишки помнили, как скрипит сухая веревка.
Я кивнула. Это было условие контракта – не бумажного, настоящего.
Вечером я вернулась. Северный берег темнеет иначе, чем южный: без ресторанного электричества, без петель музыки, без загара на языках. Только жёлтые лампочки у двери, запах жареной рыбы и гамбус – старый струнный инструмент, на котором играют сидя на ступеньках.
Женщина в светлом кебая разложила на ткани маленькие подношения: рис, кусочки банана, пару печений, щепотку соли, каплю святой воды. Поставила рядом безымянной лодке. Пламя благовоний в темноте было виднее, чем солнце.
– Кому вы делаете подношения? – спросила я осторожно.
– Чему, – улыбнулась она.Мы благодарим море, что не забрало нас в этом году. И лодки – за то, что держали.
Где-то за спиной хохотали мальчишки, гоняли друг друга вокруг связок сетей. Один из них пнул пяткой старую доску – она издала знакомый, хриплый звук: «я ещё здесь».
Следующие дни я записывала первые наброски для книги. У Ибу Команг – руки в мелких белых шрамах от плавников, она говорила спокойно, как будто перечитывала молитву, но на слове «шторм» горло предательски подрагивало. У Кадека Тамина – аккуратные руки, на мизинцах ногти по 3 сантиметра,он смеялся над собой ретроспективно, как мальчишка, пойманный на воровстве папайи, и говорил, что его двое сыновей теперь «водят людей на дельфинов» и снова летом покупают kites – воздушные змеи размером с гараж, чтобы запускать их между рисовых полей.
Был ещё Путу, который вытаскивал с рифа ikan kerapu (групер) только на леску, без катушки. Ему было под семьдесят, он называл море «босиком» и говорил, что «лодка чувствует, куда ты смотришь». Его лодки здесь не было – её распилили на табуреты для свадьбы внучки.
– Табуреты стояли вдоль одного длинного стола, – сказал он с гордостью. – Все сидели, и никто не падал. Вот и хорошо.
А ещё был Пак Нюман, молчун, у которого умер брат – не в море, на суше, от сердечного приступа. Его лодка лежала здесь, потому что никто не решался её трогать: она казалась продолжением дыхания. Он много молчал, чуть улыбается – «пусть лежит».
Я записывала каждую нелепицу. Как они спорят о тонкостях узлов. Как один ненавидит фирменные «джутовые» веревки и клянется на старой конопле. Как другой говорит, что современные моторы слишком «гордые» и не терпят влажности. Как третий уверяет, что mata на носу – глаз – обязательно должен быть слегка косым: «море любит смотреть вбок».
Я училась словам: banjar – община, purnama – полнолуние, ngaben – кремация, boks es – ящик со льдом. Училась измерять расстояния не километрами, а «полчаса до того рифа, где живёт солнце». Училась слушать паузы, потому что именно в них обитают старые страхи, к которым никто не хочет прикасаться – ни языком, ни памятью.
Сначала мои снимки были «про лодки». Потом – «про людей». И лишь на третий день они стали «про между»: то место, где рука в старой соли становится продолжением дерева, а дерево – продолжением молчаливой гордости.
Я перестала снимать лодки целиком. Я снимала зигзаг трещины – как карту реки. Узел, где веревка впилась в дерево, оставив под кожей лодки чёткую шрамовую борозду. Пятно от масла, которое по цвету как янтарь. Тень от ладони на борту.
И да – море. Оно стало не фоном, а владельцем кадра. Иногда я делала всего один снимок за час, а остальное время просто сидела на корточках, медленно дыша. Мимо меня, как тени, проходили люди. К лодкам никто не относился «сверху»: их обтирали, о них спотыкались, на них сидели. Как на стариках, которых уважают не за наставления, а за то, что они просто выдержали.