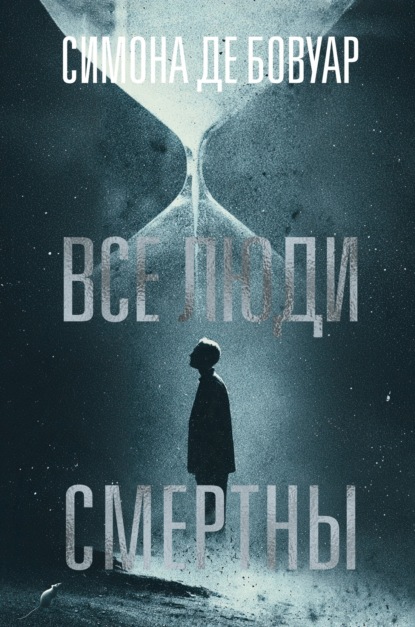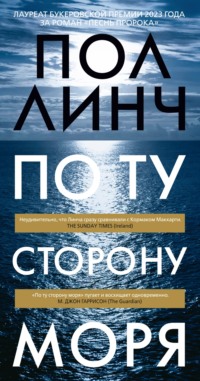Полная версия
Черный снег
Позднее кто-то остался стоять у могилы, тихонько переговариваясь, а другие отошли в сторону, а Барнабас наткнулся походя на Франа Глакена: тот остановился и вперился в него красными пробойными глазами, вгляделся так, будто осматривал кого из своей скотины. Гляжу, ты оправился, Барни. С тем повернулся он к двоим своим сыновьям и жестом позвал их с собою. Пора мне, сказал он. Позвал и сестру свою, Пат Глакен, та стояла и беседовала с Эскрой. Пат была квадратной и бесполой, старая дева, сбитая плотно, словно кости у ней из тугого дерева, и плотность эта добиралась ей и до лица. Ею стянуты вместе были мелкие глазки за очками, сползавшими у Пат с носа. Она сурово кивала Эскре, у Эскры же взгляд порхал, следя за Билли: тот был с какой-то девчонкой.
Барнабас обернулся и с минуту стоял и глядел в небо, застеленное холодными белыми простынями, и на путь проглоченного солнца, и увидел, что никакого там обещанья нет, что день потеплеет. Услышал, как кто-то к нему приближается, поворотился и увидел, что это Козел Маклохлин вперил свирепые глаза в него, на ходу оглаживая бороду когтистой рукою. Извлек он руку из белой кудели и протянул ее Барнабасу, и Барнабас принял ее в свою и почувствовал кожу, подобную старой вощеной бумаге.
Так, Барнабас.
Так, Козел.
Старик стоял и смотрел на Барнабаса, и Барнабас полез в пальто и достал самокрутку, а Козел смотрел, как Барнабас ее засасывает, смотрел, как Барнабас кашляет и переводит дух, Барнабас же смотрел, как тот смотрит. Козел глянул в небо и кивнул. День для такого холодный.
Срать кучею, верное дело.
Ты опять на ногах.
Боль-мень.
Разобрался, с чего пожар был?
Барнабас тряхнул головой. Не. Никак не смекаю. Вот вообще не смекаю никак.
Везучий ты, что дом не занялся. Господь на небесях в милости своей решил тебя от того избавить.
Барнабас соснул от самокрутки, и удержал кашель в себе, и на деда взгляд вперил долгий, на бороду рекоструйную и на розовый глянец лысины, видневшейся из-под кепки. Господь на небесях при всей милости своей счел, что не беда это, убить всю скотину мою и забрать у меня средства к существованию, а ведь мне семью кормить. Боже милостивый и все такое, сказал он.
Старик подергал себя за седую бороду, словно пытался выпростать дальнейшие мысли для рассмотренья, и угол ротика у него поджался. И жизнь Мэттью Пиплза, сказал он.
Барнабас зыркнул.
Козел продолжил. Есть такое время в жизни у нас, Барнабас, когда всех нас испытывают, сказал он.
Подался к Барнабасу, и взял в щепоть пальто его, и подтянул к себе поближе, склонился, чтоб положить ему в ухо тихое слово.
Мы все видели, что Баба Пиплз тебе там сделала.
Так. Что ж такого?
Ну. Мне велено сказать тебе, что дальше, если толковать о тебе, дело для своих.
Барнабас выпрямился и улыбнулся, но улыбка та была липовая и вскоре отпала. Старик все еще держал его за пальто. Ты что же за шутки мне тут шутишь?
Я прикидываю, ты понимаешь, о чем я те тут толкую. Мне было сказано, что Эскра с мальчонкой пусть приходят.
Барнабас высвободил рукав из дедовой хватки и выпрямился во весь рост.
Но я человеку друг был. Наниматель.
Мне такое сказано было. Тебе передать. Вот и всё.
Ворона слетела с кладбищенской стены и опробовала воздух быстрым взмахом крыльев. Из-под черноперого своего плаща блеснула металлической синевой, что встрепетала призрачно, словно несла в себе другие оттенки бестелесной части вороньего существа. Птица повернулась к толпе и прокаркала им сообщение на птичьем своем языке, но мысли ее ни услышаны не были, ни поняты, и с тем упорхнула птица. Барнабас отвесил Козлу озлобленный взгляд, словно желал того освежевать, покрасоваться в той его шкуре, а затем вырезаться из нее ножиком. Соснул от самокрутки и забрал в себя покрепче, и Козел смотрел, как оно, что уж там ни поселилось бы в Барнабасе, пробудилось и заявило о себе движеньем, какое сотрясло досаду у него в легких и принудило Барнабаса к лютому кашлю. Барнабас видел любопытство у Козла на лице, и как раз тут возник с ним рядом Билли, тощие руки свесив. Есусе, во я голодный, ну, сказал он. Барнабас выкарабкался из кашля, зыркнул на сына, отшвырнул самокрутку, замер на миг, подзывая в себе слова, и подался к Козлу, и дважды втянул в себя воздух. Иисусе, Козел, дико и зверски несет от тебя свиным говном.
Рот у Билли открылся нараспашку, будто подрезали ниточки у нижней челюсти. Козел в запале поворотился и принялся было отступать, но обернулся вновь и заговорил. Она говорит, ей обмыть его не досталось, Барнабас. Говорит, не досталось обмыть.
Он лежал в постели, свернувшись на боку, и нянчил свой кашель, и пускал ум бродить по былой жизни. Как был он один из тех немногих, кто вернулся из Америки, как поглотила их целиком пустота. Как воспротивился он ходу истории. Возвратился тридцати трех лет от роду с женой и ребенком и жестким светом ушлости в глазах. Двенадцать лет тому уж как. Тогда он все знал про сталь, а про фермерство ведал мало, однако имелись у него идеалы и тяга, и того было достаточно. Вновь жить в этом месте, кое было когда-то домом. Выстроить что-то в этой новой стране, как случилось ему в Нью-Йорке. На судне в Америку оказался он мальцом, отрезан от всего, что было ему знакомо, и большие темные глаза отмечали его лицо. В редкий миг уловить можно оторопь, навсегда запечатленную у него в душе, вид этот он таил, и, возможно, то, что люди у него в глазах видели, было отметиной скорби. Мать его скончалась от туберкулеза первой, а следом и отец. Ни братьев, ни сестер, и, когда он осиротел, его забрала к себе материна бездетная сестра, а вторженье это ее тяготило. Недолго он задержался, выслали его кораблем в Америку, с письмом к некой родственнице, в году 1915-м, в ту пору знавал он мальчишек ненамного старше себя, кто перемещался за море на восток, чтоб воевать с гансами. Он жил у той родственницы в Бруклине, и была она ему чужая, и приставлен был к работе уголек лопатить, покуда руки его не утратили белизну и уж не мог он отмыть грязь с лица, и одно только в силах был – спать. Но однажды темным утром, когда стало ему шестнадцать, подался он беззвучно навстречу уличным теням, и те его не вернули.
Он спросил ее, как мог случиться пожар, и она сказала, не ведаю того. И сказал он, такое не случается ни с того ни с сего, верно? Не было ничего, что начало б его. Я просто не понимаю. Недолго помолчал он, а она смотрела, как он расхаживает по кухне, кулаком растирая себе щеку и посасывая самокрутку то и дело. Как, к бесам, мог такой пожар убрать весь хлев, убить все живое, что у нас есть? Всю нашу скотину? Он прищелкнул пальцами. Вот так запросто. Что мы такого натворили, чтоб это заслужить? Я все делал правильно, ей-ей. Делал все, как они мне наказывали, для безопасности. Я даже известку наружу вынес, кучу ту, какая лежала в хлеву. Мэттью Пиплз сказал мне, что при определенных условиях она воспламеняется. Шутник херов. Теперь известка та лежит себе у гумна, холодная да мокрая, как грязюка. Сено недостаточно сухое, чтоб заняться. Молнии в небе не случалось, я в тот день на улице был.
Не знаю, Барнабас. Просто не знаю. Мне кажется очевидным, что это просто какое-то несчастье. Но думать об этом без толку. Что сделано, то сделано. Ничего не остается, только жить дальше.
Он закашлялся, а когда перестал – продолжил, сказал, кто-то наверняка это подстроил, вот просто знаю я.
Она сказала, прекрати сейчас же, Барнабас. Не глупи. На каком это все основании? Вздохнула. Барнабас, ничего нам тут не поделать, не изменить. Глянула на него и ощутила, как сжимается горло. Подадим заявление на страховку и все выстроим заново, будет лучше прежнего.
Он быстро к ней обернулся. Насчет того, что меня в дом не позвали, Эскра. После похорон. Надо было тебе, Эскра, сходить с мальцом.
Не после того, Барнабас, как с тобою обошлись.
Он стоял, миг вперившись в стену, словно разверзлась она перед ним и явила некую сияющую истину. Эскра, сказал он. Они все считают, что я его убил.
Дни шли дальше, знакомые звуки фермы – игра лишь их умов, словно призрак того, чего они старались не слышать. Лишь ветер, дувший так, будто завоевал себе свободу носиться по двору, ленивая оттяжка, что разметывала пыль по каменным плитам и лохматила перья оставшимся курам. В воздух взметывалась черная пыль, цепляясь за ветер, и вслепую швыряло ее на поле, черными пятнами рака по зелени, отчего трава казалась больной. Или же оседала на подоконниках и марала стекло, застя вид, и взгляд в кухонное окно обращался мгновением памяти, день соскальзывал обратно в тот вечер, какой они всё пытались забыть. Эскра вперялась в окно, морща лоб. Брала ведро, наполняла его мылом с горячей водой из чайника и мыла окна до скрипа. За работою хмурилась, все прерывалась, чтобы прибрать наметы волос, падавшие ей на лицо, замечала, как вода размягчает коросту на пальцах. Домыв, брала газету, комкала, сердито возила ею по окну. Два дня спустя окна по краю вновь были темны.
Каждое утро она просыпалась в тишине фермы и оставляла его лежать мешком на постели. Шла к огню, будила угли под их пепельными пеленами. Далее завтрак и чай на печи, и она возобновляла уборку. Чем больше мыла, тем больше чувствовала: то, что сделалось для нее ненастоящим, можно силою вернуть в прежнее обличье.
В поле рядом с хлевом налетели и осели темные птицы. Строй в черных нарядах, круживший над полем неостановимо. Она видела сгущение птиц-падальщиков, не живых существ вовсе, а мазки темени, как будто бы то, что выпущено было пламенем в некоем сне, одушевилось. Когда день угасал, птиц словно бы прибавлялось до сотен, они исполняли шершавую свою охочую до мяса песнь, и Эскре казалось, будто рвут жилы. Начала скотина гнить там, где завалилась беззвучно среди полей, подпертая под неожиданными углами ее умирания на траве, у одного животного, словно оголенные зубы, уж показались ребра. Птичий пир. Наблюдала она за ними из окна, говорила себе, это просто природа, однако в нутре своем, глядя на них, не могла увернуться от руки ужаса.
Плуг все там же, на косом поле, замер в крене зверином за миг до нападенья, зубы обнажены, выжидают, чтоб броситься землю за шею драть, но сидел с собачьим терпеньем дни напролет в лютой стуже, а следом в дожде, и не было сил у Барнабаса к нему вернуться. В те дни после пожара солнце взбиралось к своей высочайшей точке покоя прежде, чем Барнабас выбирался из постели и, кашляя, возникал на первом этаже. Бродил по дому и бродил по двору, Циклоп с одноглазым любопытством следил за ненаправленным маршрутом хозяйских шагов, а Барнабас вперялся в покатое лицо лошади и темное стекло ее глаз и видел лишь себя отраженного, будто погнули его молотком.
Наблюдал за Эскрой, как оттирает она окна. Как отмывает белую торцевую стенку от дым-грязи. Как выметает копоть со двора. Как расставляет по дому лаванду, которая на Барнабаса не действовала никак, ни запаха, ни цвета. Это место, что сделалось мертво. Стоял он себе просто, курил так, будто терпеть этого не мог, покурка в пальцах большом и указательном, лицо небритое, когда он всасывал, стягивалось в узел, легкие слали ему короткие злые депеши обиды. Дым прожигал его, опалял заново, а когда кончал он с одной покуркой и закаблучивал ее во дворе в землю, уже вытаскивал табачную свою жестянку из рубашечного кармана и скручивал следующую. Эскра покрикивала на него, чтоб прекращал курить. Затянуться да скривиться, вышагивал далее по двору, отпинывая пса с дороги, сидел на крыльце, вновь вставал, кашляя. Эскра наблюдала за ним из окна, как он бродит, своею собственной тучей накрытый, словно мысли у человека обрели явь, а сам он под той тучей исчез в себя же, в дали собственной темени, куда и ей-то не дотянуться. И когда налегала на длинную рукоять-слезу колонки во дворе и колонка зевала и принималась вышептывать воду, он Эскру не видел вообще, пока та стояла, на него глядя, и Эскра, закрыв дверь, принималась плакать, видела, как все может утратиться.
Слышно было, как старикан кричит мне из хлева, что ему подмога нужна со скотиной, но тогда была Рождественская ярмарка, и я поэтому проскочил мимо, будто нет меня дома. Потом подался в город, ну и шныряю между прилавков, да и нарвался на разговоры с Джоном Волокитой, дребедень блядская, ну, – я, значит, курил себе и думал, что всем насрать, а тут подходит кто-то сзади да и дергает меня за лопух. Паршивец этот Брок[7], учитель, ну, и забирает у меня покурку изо рта, и сапогом ее растирает, а потом меня отпускает, ухо мне открутив. Волокита всю дорогу подсматривал, а как учитель-то отпустил, Волокита подбирается и достает мне покурку у себя из-за уха. Эй, сэр, говорит. Я слыхал, Волокита чуток на голову чудной, и ходила про него старая байка, что, когда он был пацан еще, взял свою мелкую сестричку-младенчика погулять да коляску-то отпустил, и коляска укатилась в реку, и сестричка утонула. И с тех пор головой он так и не поправился. А когда я спросил старушку-то про это дело, она сказала, то все неправда, но чудной он стал, наверно, когда мамка его померла жуть какая молодая, а отец у него был тяжелый. Как по мне, Волокита очень даже вполне был, чокнутым от него не пахло вообще, только что глаза, один другим, серым, цветом меченный, отчего вид у Волокиты чуток странный. Да и непохоже было, что он на четыре года старше. Пошли мы по заднему переулку, и он перелезает через стенку и шасть на задний двор гостиницы Доэрти, ноль внимания на пса, какой там был, и возвращается с двумя бутылками «Гиннесса». Мы их обе выпили, и вкус был горький, как вода болотная, ну, но мне вродь как понравилось, что в голове стало мечтательно. Во мы нахихикались жуть как, и он тогда говорит мне, ты знал, что мы с тобой соседи, а потом обзывает меня Козлякой Билли и сразу следом рыгает. Как давай хохотать, и хохочет он, будто бы булькает. Волосы у него жуть какие кучерявые, будто темные папоротники на голове, а глаза не задерживались вообще ни на чем ни на минуту. Грю ему, ага, Козляка, уж конечно, и брыкаюсь я тоже. Ему будто нахер дела никакого ни до чего, и сразу раз и я понял, что он интереснее всей прочей ребятни моего возраста и выпить добыть ему жуть как запросто. В другой день объявляется у нашего дома, а у старушки-то руки в таз, месит рождественский пудинг и смотрит на него, будто он телок тупой, а на меня смотрит подчеркнуто, когда мы с ним уходим. Ну и нахер ее, старую сучку. Слышу, как старик в хлеву орет на скотину, а Здоровяк Мэтти Пиплз выходит из хлева, и прикладываю палец к губам, чтоб он цыц, и быстро убегаю, пока старик не заметил. Умелись мы нахер к речке Гленни, и я с собой на веревке Циклопа забрал. Волокита достает свой здоровенный всем-пиздец ножик, шестидюймовик, весь извитой, как вродь из расфуфыренной книжки сказок, и дает подержать, и я свои инициалы на дереве вырезаю хорошенечко. Спрашиваю его, где он такой раздобыл, а он в ответ ничего, и как давай запруживать речку. Это всего-то ручей на самом деле, и стоит он над ним все равно что владыка и повелитель и плюхает камни, все во мху-слизи, и один у него из рук выпадает, и его всего окатывает. Он о штаны вытирает руки насухо, и на них полосы грязи остаются, и выпрямляется и как давай хохотать. После этого пошел куда-то, я за ним, и стал носить покурку за ухом, как он. Спрашиваю, куда идем, а он опять хохочет и говорит, бери пса с нами. Грю, пес, черт бы драл, с нами пойдет в любом разе, хошь не хошь. Подались мы через поля, а небо стало темное, и Циклопа я держал на веревке поближе к себе. Странно оно было идти на холмы в пунцовистом свете, и я все поглядывал в небо. Если глядеть на облака по-особому, они становились островами, все такие в тумане и далеко в море, и я представлял, будто я капитан корабля, у нас приключенье и мы плывем к ним. Вся извитая грунтовка там была, и шли мы по ней и увидели чуть в стороне от нее темное очертанье дома, может, где Макклюр жил, но не точно, и оттуда собака залаяла, но ничего не светится. Циклоп на веревке бесится, а Волокита подается ко мне и собаку забирает. Держимся все равно подальше, оба-два дуем дым на те острова в небе. Болото ночью уж такое другое. Не поля никакие, а один только простор земли, как будто ничья нога не ступала, и мы забрались прилично так высоко, чтоб посмотреть на все внизу, Карнарван все темней, и город вдалеке, и последний свет над заливом. Я слыхал, там, наверху, были старые пещеры, их самогонщики себе прибрали, и прикинул, не туда ли мы направляемся. От Волокиты перла сила, будто что-то в нем было на взводе, будто все ему по плечу, и тут он принимается орать, реветь всякие проклятья в небеса, и я тоже принимаюсь орать, пока не начинает он выдумывать проклятья совсем без смысла, и я ему про это говорю, и мы просто хохочем, надсаживая жопы. Голоса наши прут наверх к небесам, и на миг все, что в мире, было наше, и мы забрали себе пунцовые небеса со всеми звездами, а когда перестали, услышали, как проглотила наши голоса тишина, такая полная, будто нас никогда и не было. Двинулись мы дальше, а потом наткнулись на них. Блядские тупые твари, в том свете они были вроде как индиго, и я видел, как меняется Циклоп, навостряется на веревке своей, как волк, будто пробуждается в нем самая суть его. Увидел, как у него разъезжаются губы и зубы показываются, и псина стала, нахер, зверем. Волокита отпускает веревку и орет псу вперед, и Циклоп несется, как выстрел, будто никаких ему блядских приказов не надо. Потеха была смотреть, как овцы стоят такие, тупые, и смотрят на нас, а потом разбегаются, будто миленький, нахер, Иисусе вместе с душою вон. И звук такой был вроде тихого грома от их копыт по вереску, и Циклоп несется за одной, и как давай сновать зигзагами, будто нужен ему второй глаз, которого нету, чтоб определиться. Волокита побежал за псом, на бегу кричит и вопит, и так он бежал, что ноги у него будто петли без двери, а ревел и хохотал он без передыху. Пес зубами клацает у овечьих копыт, а потом бросается за другой, и хохотал я, глядя на эту дурь, и тут пес кидается на одну, какая поперла прямиком на него, попутав, и он на нее прыгает и тянет за шею к земле. Волокита бегом, руками плещет, и сзади подобрался к собаке, и закатился этим вихлявым хохотом, как забулькал. Там, где мы оказались, ветра было еще больше, и, когда овцы разбежались и остановились, чтоб за нами следить издалека, стало слышно, как ветер тихонько насвистывает. Пес-то твой слепой наполовину, а все равно чисто волк, говорит Волокита и как улюлюкнет вовсю. Тут до меня доходит, что Волокита не больной в том смысле, в каком про него толкуют, а просто вольный, как ветер, вот и все. Никаких камней у него к ногам не привязано, в отличие от большинства. И пошел я к овце глянуть, и жуть как быстро стало мне странно, как лежала она и не рыпалась, и глаза смотрели вверх на меня таким взглядом, какой у собаки, которая подлизывается после порки, но я понимал, что овца подыхает, потому что ей выдрали глотку. И сел я к ней незнамо почему и положил ей руку на живот. Эта с дитем, сказал я. Вдруг почувствовал, как у меня упало внутри, и увидел, что Циклопу уже неинтересно и он ходит кругами, нюхает воздух, настоящий дикий зверь, а вовсе не обыкновенный пес, как мы про него думали. Темень теперь стала еще гуще, и место вокруг нас поменялось. Лицо Волокиты скрылось впотьмах, а когда он пошел ко мне, я задумался, чувствует ли он то же, что и я, но, увидев его поближе, я увидел тот же дух в нем, чисто как в Циклопе. В глазах один только голод по дикарству. Давай, грит, еще разок, а я ему не, мне пора домой к чаю, а не то старушка меня убьет. Побыли там еще сколько-то, молча. Овца лежала, и ее обдувало ветром, и казалось, будто она дрожит, и я повернулся и увидел, что Волокита давай толковать сам с собою очень быстро, и я прикидываю, что за херня с ним такая, ни слова не разберу, о чем он толкует, и вдруг он как припустит бегом во всю прыть. Я встаю и смотрю, как он сбегает с холма, и понимаю тут, что с головой у него вообще все не так, и оборачиваюсь, и еще раз гляжу на животину, мне видно, как лежала она, бестолковая, горло у ней порвано, чудной угол, под которым голова у ней, и глаза на меня глядят так, будто просят о чем-то, о некой милости в ее смертный миг, какой я дать ей не мог, и видно было, как кровь ее промочила мох до темного. Ягненочка у ней внутри я чуть ли не видел. Небось как стану стариком сам, прочту этот рассказ, который записал, и посмеюсь над глупостями, каких натворил.
В пустоши порожних дней длинны сделались часы. Он слонялся по двору, как человек, не пытавшийся выглядеть занятым, до того потерявшись внутри себя, что больше и не слышал он ферму, того, что опустошилось в тишину, да и на погоду над фермою внимания не обращал – на то, как необычно затянулась сушь, от чего земля отвердела, а затем тусклой печалью пролился дождь. А идя среди пустых своих полей, нечувствителен был к переменам вокруг, к брызнувшей зелени, что смягчила изгибы деревьев, природа как медлительное нечто в грузном сдвиге к весне. Как зазеленела трава и проросла косматая, без ртов скотины, что кормится ею. Одно лишь происходящее у него на уме, лишь попытки расплести узел долгого вервия, что привело к спящему гневу. К чувству в уме у него, что его обманули. Бродил вокруг зачерненного хлева, недо-видя его, или же заходил внутрь и распинывал перемешанные обломки, выискивая намеки среди металла стойл, частью скрученных подобно вопросительным знакам, чтоб мучить его.
Слишком много дней просидел он, ссутулившись в кухонном кресле, отплывая в тенета памяти или соскальзывая в беспокойный сон. Она смотрела, как он задремывает с разинутым ртом, смотрела на лицо его в покое – и видела другим, видела, как то, что держится тугим у него в лице, невесомо опадает. Ей хотелось говорить. Бабочка света из прихожей ласкала ему щетинистую щеку, и она видела его юным, таким, каким он был. Как начинал работать еще шестнадцатилетним юнцом на высотной стали, то труд опасный, и был словно некий богочеловек, но того не ведал, освоился запросто. В работе суровый и молчаливый, трудился с мохоками, самыми бесстрашными из людей, и с ирландцами, каким доставало отваги. Бум небоскребов в Нью-Йорке. Они перелепливали небо сталью своей, гуляли по несущим балкам, как чайки. Нью-Йорк под ними что книжка с объемными картинками, какую можно закрыть руками. Слушал он тишь неба сквозь грохот стали, пришепетывающие силы ветра, будто небо дышало. Тучи немые, скользившие, чтоб уложить тени свои слябами поверх города. Люди работали подобно опасным ангелам, и звук, ими творимый, был воплощеньем ада, тянулся в рай злодейством, каким искажалось устройство воздуха, сводило с ума даже птиц. Чайки напирали на ветер, чтоб посмотреть, как эти чудны́е созданья разгуливают по узким балкам или командами по четверо трудятся на мостках лесов не шире, чем на двоих. Он, бывало, объяснял ей порядок движений, как нагревальщик клал уголь в крошечный горн и вытаскивал источавшие пар заклепки, лицо от жара кривя, подбрасывает румяную сталь в воздух, ее в жестянку ловит другой, а третий извлекает временную заклепку. Балка ждет, зрак в ней зияет, ожидает, чтоб ошпаренно его запечатали. Заклепка шипящая щипцами зажата и воткнута в око. Как долбил он без устали пневматическим молотком, заклепка мягка от жара, плющил стержень ее в шляпку. Над землей на коленях так, будто владел он ею.
Он проснулся, глаза красны, увидел, что она смотрит на него. Иисусе, можно человеку спокойно вздремнуть. Рот у ней разомкнулся, но ни слова не вышло, удалилась она из комнаты безмолвно. Он склонился вперед, и встал, и прошелся по кухне, и остановился, и выставил руки над печной плитою. Подался в гостиную, к шкафу, достал бутылку виски и потянулся за стаканом, и скрипнула у него за спиной половица. Он учуял бурав ее взгляда, раз стояла она в дверях, и повернулся, и поставил бутылку на место.
Ты напугала меня, когда я проснулся, я вот к чему, сказал он. Стояла надо мной вот так-то, я и испугался.
Без единого слова она развернулась и ушла в кухню. Он шагнул в прихожую, забрал пальто. Мне надо пройтись, сказал он.
Вечер был холоден и темен, и по суровой зиме его ума стылыми тропами бродили, не таясь, волки.
Ярок день, и стояла она, довольная, в нем, и видела в поле лошадь. Та подошла ближе, склонила голову и забрала с раскрытой Эскриной ладони сморщенное яблоко прошлой осени, и прислушалась к словам Эскры, и кивнула премудро, словно тон голоса женского донес некие лошадиные смыслы. В поцелованных росою туфлях Эскра оставила поле, лошадь же подбрела к корыту, что держало на дождевой воде своей барабан света, и, когда погрузила голову в тот свет, показалось, будто напрямую пьет она солнечную светимость.
Сходила Эскра за корзиной для стирки и пошла к бельевым веревкам, где взялась за выложенное на них горбылями сухое лыко полотенец. Отцепила прищепки, обмяла окоченелость их руками и сложила. Двинулась с корзиной у бедра, как всякая женщина любого прошедшего века, исполнявшая что полагается женщине, и видела она себя древней и сущностной женщиной. Отнесла корзину наверх, подошла к шкапу и принялась складывать полотенца и убирать их, но вдруг перестала. В глубине увидела скомканные кучей простыни, что вывешены были в день пожара. Небрежно затолкали их поверх сложенного белья, и она, развернув, увидела, что они погублены дымом. Почесала в затылке недоуменно. Сунула нос в те простыни, и навстречу ей попер дух распада. Вынесла те простыни вон, глянула на свету и увидела, как впитали они дым пожара, будто приняли на себя отпечаток того дня, на одной из них полоса темноты рядом с полосой почти белой, словно ветер сложил ту простыню, чтобы часть ее какую-то защитить. Осмотрела простыни попристальней и побледнела от того, что́, как ей показалось, увидела: лицо, какое, подумалось ей, вообразила она, ум ее увидел очерк Мэттью Пиплза, и его широкий рот, и нос широкий, и наморщенный оттиск его лба. Бросила она простыню на плиты, и ушла внутрь, и отругала себя за такие мысли, но позднее тем утром, увидев простыни на земле, нагнулась, подобрала их, расправила. Лицо на них вновь увидала.