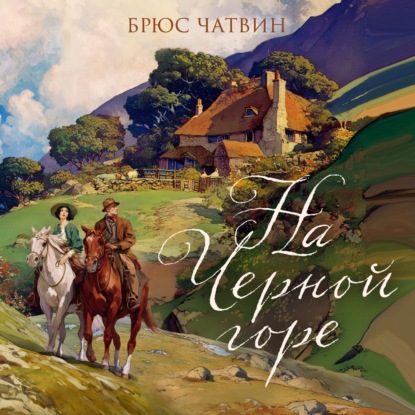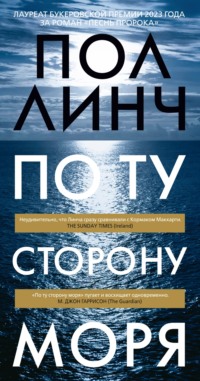Полная версия
Черный снег
Хватают его здоровенные руки. Ворот рубахи на шее петлей, и он почувствовал, как его волокут спиной вперед, прочь за двери хлева, а следом во двор, где и уложили на спину. Глаза, дымом поеденные, зажмурены, и резал их день-свет, не посмотреть на него. Лежал Барнабас на плитняке, голова бессловесно отвернута, и постепенно начал он видеть, мир – жидкая муть, клок неба пуст, как снежный дол, пока не разглядел, как марает небо темный дым. Долевая и уток его дыханья разметаны до грубой штопки.
Он глянул вверх, чтоб поблагодарить Мэттью Пиплза, но тот, кого увидел, был другой. Глазки-самородки соседа Питера Макдейда, один косой – на Барнабасе, второй наставлен куда-то повыше, словно видел он тень кого другого, кто мог бы Барнабаса побеспокоить. Морщины – ниточки смеха, что делали из рта его марионетку, теперь напрочь опали, и ужасная хмарь изрезала ему лоб, в складках дым-грязь. Принялся Питер Макдейд трясти Барнабаса. Убило тебя? Убило? Эскра склонилась над ним, а затем помогла сесть. Воздух смердел, однако ж в тот миг учуял он от нее малость мягких и обыденных запахов, жасмин волос, тень лаванды, собранной в саду, какую нравилось ей расставлять по дому в скляночках, мучная пыль с руки ее, приложенной к его щеке, и в тот самый миг, пусть не мог говорить, ощутил он изверженье небывалой любви и благодарности к ней. А дальше, когда глаза его вобрали всю картину хлева, не чуял он более ничего, один только запах мира растленного[4]. Видел, как бросился Макдейд к хлеву, и видел, как прочь отбивает его дым, перший на него штопором, как вновь двинулся на него Макдейд и встал в дверях, беспомощный, руками держась за голову. Обернулся он, и увидал в Макдейде Барнабас детское, что говорило о человеке, лишенном всякой силы и власти в убыстрении того, что уже сотворялось. Барахтался язык у Барнабаса, и подался он сам вперед, и попытался сплюнуть, голос выцарапался у него из глотки, словно выдран он стал почти весь и оставлен там, в хлеву, криком на полу рыхлым и немым. Рвущимся донести до них слова.
Мэттью Пиплз.
Что за день то был, те, кто потом судачил об этом, едва помнили. Умеренный желтый вечер без дождя оказался забываем. Огонь сотворил собственную погоду, ветер-дым, что крутился да вертелся, все равно что бесы разнузданные, как сказала одна женщина. Распалился тот вечер, будто вскипел от пожара воздух. Сажа мягка, словно снег, пала хрупкою пудрой на кожу. То происшествие так крепко во всех оттиснулось, что поглотило их, будто сказка. Пожар и звук голода его будто некая громадная силища, вырвавшаяся в мир, – нечто былинное, то, что хранило в лютости своей свирепую, каткую мощь моря. Людские очерки, против него восстающие, их малость, волнами напирающая, чтоб лишь оказаться отбитой. Позднее Барнабас даже не вспомнил про трудности их с лошадью. Или о том, что делал в то утро: яйцо с двумя желтками, которое вскрыл в плошку и заметил, что за неделю такое уже вторично. И когда темнота укрыла сажей все, кроме тлевших углей хлева, он не вспомнил о лошади, которую бросили привязанной в поле, пока Билли ему не напомнил. Простояла часы напролет в неудобстве, должно быть. Отправил мальца забрать ее, масляная лампа блекла среди заболачивающей тьмы, а затем вновь надвинулась та свилеватая общность теней.
Всего через несколько минут объявились на помощь соседи. Три брата Маклохлина прибежали через раскуроченные поля, все трое едва ль не один к одному. Мчали они, словно скаковые лошади, грудь навыкат, плечи назад, плеск каштановых грив за ушами. Тени от угасавшего света придавали строгости их покатым лицам, и подошли они к дому, одежда в шипах да колючках, словно, чтобы добраться сюда, продрались Маклохлины сквозь всю природу. Один расцарапался в красноту от запястий до самых закатанных рукавов. Увидали они, как лежит Барнабас, свернувшись, как в утробе, на дворе, Эскра над ним, помогает сесть. Питер Макдейд стоит беспомощный, руки прижав к голове. Мальчонка юркает у дома, словно какой зверек, глаза полоумные, растерянные, старается не показываться. Увидели и Питера Макдейда велосипед, где он бросил его во дворе, заднее колесо вращается медленно и останавливается, словно колесо фортуны на ярмарке в школьном зале.
Вскоре привалило еще людей. Соседский фермер по имени Фран Глакен явился, лицом дюжий, с соседнего поля вместе с двумя своими взрослыми сыновьями, головы их винно-лысые мокры от пота. Погодя жены с детьми, подтянувшись к ферме, уж цеплялись друг дружке за руки, словно друг в дружке могли отыскать стойкость. Этак встали они вместе, словно крепость.
Эскра носилась по двору, но ум ее в яростном размышленье не позволял ей видеть. Фран Глакен схватил ее за плечо и рявкнул на нее, лицо его в нескольких дюймах от ее, а глаза вот-вот лопнут. Женщина. Где ведра? Мужчина перед нею безвозрастная зверюга, безволосый и красный, будто освежеван погодою после многих лет, проведенных в услуженье ей, и брошен затвердевшим, как омар. Она показала на хлев и застыла, пока Глакен вновь не тряхнул ее. Она повернулась к конюшне и проговорила, вон там еще найдутся, смахнула волосы с лица, что застили ей зрение подобно занавесу. Глакен двинулся туда, ноги сокрыты дымом, скользящая махина с громадными членами, и появился с ведрами, и подошел к колонке. Принялся трудиться над сипевшей пастью ее и кивнул одному из братьев Маклохлинов, чтоб передавали ведро мужчинам, выстроившимся цепью. Увидал обок от себя Билли, вид у того растерянный. Билли увидел, до чего копченое у Глакена лицо, глаза горят, словно некое помешательство в них высвободилось, – а может, так оно и было, бо Глакен плоской лопатой ладони потянулся, да и приложил парнишку по лицу. Проснись давай, проорал он. Послал Билли в дом за полотенцами, и Билли, оторопев, бросился в кухню. Остановился у окна поглядеть, увидел отца сломленным во дворе, трое часов тикают, а затем медленный ленивый звук – каждые пробили пять часов. Билли сходил наверх к комоду и вывалил из него все, и тут дошло до него, что́ это было, и рассыпалось оно, мощное, набрякшее у него внутри, и сделался он перед силами его беспомощен. Стоял и смотрел в стену, и глубоко вдохнул, сгреб охапку полотенец и двинулся к зеркалу в коридоре, и тер глаза насухо, покуда не стало смотреться так, будто и не плакал.
Дым висел в кухне и по-кошачьему гнездился в углах. Стеною сгустил он воздух на заднем дворе. Билли пробился сквозь него к колонке, где видел очерк Глакена, словно был тот полусуществом, и подошел вплотную, сторожко, и углядел, как рассекает лоб Глакену набухшая вена. Глакен забрал полотенца, на Билли не глядя, намочил их и передал дальше, велел всем в цепи повязать лицо. Эскра подошла тут к нему, попыталась оттолкнуть бессловесно от колонки. Он отодвинул ее одной рукою и окриком. Тебе сил не хватит, женщина. Заметил пламень в глазах у ней и опередил ее, сунул ей в руки полное ведро. Шевелись, Эскра, коли ведра по очереди передаешь.
Никто не заметил, как возник во дворе Козел Маклохлин, отец троих братьев Маклохлинов. Скользнул сквозь дым быстрыми мелкими шажками, лицо пророческое люто бородатое, одни глаза синие на нем сверкали, будто носил в себе приверженность более праведную, нежели все остальные. Мышцы на костях у него истощились, и свисала подгрудками кожа с жил у него, а шустрые глазки его выловили Франа Глакена у колонки. Встал он молча в цепь и толкнул одного сына своего вперед, и теперь уже трое мужчин метали воду ведрами на крышу, вода рассекала воздух, и огнь-ветер разбрызгивал малость ее обратно во двор им в лица, шаткая карусель конечностей, что начиналась с Франа Глакена и по кругу к нему возвращалась.
Барнабас сидел на корточках, руками держась за голову, дыханье его разруха. Посмотрел через двор и на миг встретился взглядами с женою: женщина качала бедрами, чтоб передать назад пустое ведро, Барнабас усомнился в том, видела ли она его вообще, волосы теперь свисали ей на лицо, словно плевать ей, видит она или нет. Он вперился в горящую дверь хлева и расслышал погибель скотины своей. Среди них тело Мэттью Пиплза. Иисусе нахер. Что ж я натворил-наделал? Мысленно он увидел, как Мэттью Пиплз тянется к стойлам, вслепую, ощупью сквозь дым, будто можно к подобному приделать ручку, дым разбегается из ладони его, словно пыль грез. Такой-то здоровяк, а повергнут. Барнабас видел его там как наяву – вот лежит он, легкие полны, словно тонет. Немое лицо Мэттью Пиплза. И ощутил Барнабас порыв броситься обратно за ним, пусть теперь уж Мэттью Пиплзу быть мертвым, вновь подумал о том дыме, что подымается у него самого в легких, и привело его это в совершенный ужас.
Сперва прокатилось по цепочке оторопело, что Мэттью Пиплз из хлева не вышел, но затем все притихли, осталось оно лишь на лицах. Словно боялись признать это друг перед другом, взгляд сообщал: оно означало бы общую вину в том, что всего лишь один средь них вошел в огонь и вынести мог всего лишь одного человека. Понимали они и опасности, без всякой нужды говорить о них. О том, как обустроены такие здания. Новый сарай, набитый сеном до отвала. Горка торфа под брезентом. Как огнь-ветер рвался к дому. Прикидывали, а ну как добралось пламя к нему, видели, как дым размечал движенье ветра, так что очерк его становился зрим, каллиграфия жестокости, что переписывала себя саму неутолимо, всласть. Питер Макдейд выпал из цепи и бросился к торфу, и принялся отодвигать что мог, но жар оказался чрезмерным. Отмахивался Питер Макдейд от жара так, будто это овод какой надоедливый, закрывал лицо локтем, покуда не пришлось ему отпрянуть. Куры давно разбежались со двора на заднее поле, пока Циклоп носился по двору, лая на кутерьму, но потом развернулся и убрался на тыльное крыльцо.
Козел Маклохлин почуял, что ветер слабнет, и сказал своему старшему: погода делает одолженье. Дом сбережется, сказал он. Произнес это, как мудрец, и сын повернулся и сказал брату своему позади себя. Пожар гудел от самодовольства, а всяк человек тут вытеснял из ума шум скотины – горестные протяжные звуки их умиранья, прореза́вшие воздух подобно фаготам.
Никто не видел, как Барнабас встал в крен и пустился медленным шагом к дому – жуть с рваным дыханьем. Сип в груди у него, будто что-то в нем угнездилось. Он заметил, как дым втиснулся в дом, и все потому провоняло им, и подался к кухонному шкафу, и достал коробку с патронами. Медленно добрался к двери и взялся за ружье с переломным затвором, прислоненное за дверью, – двустволку Браунинга двенадцатого калибра, – и осел на стул. Уложил ружье себе на колени, преломил его и выудил тряскими руками патроны, скормил их стволам. Встал, и набил себе карманы оставшимися патронами, и держался за неструганый стол, втягивал воздух в грудь с хрипом, словно продырявлен из ружья, видел в окно, как дым развоплотил ферму в останки некой призрачной грезы.
Никто не видел, как проплыл он по двору, – медленно шел, как человек, ступающий по гуще песка. У западного конца хлева жар был не такой сильный. Все услыхали два выстрела, и кто-то решил было: там что-то взорвалось. Но тут Питер Макдейд увидал Барнабаса сбоку хлева, как пытается он перезарядить ружье. Побежал к Барнабасу, а тот вскинул ружье и направил его в окно. Макдейд пригнулся, и услыхал третий выстрел, и увидел, как Барнабас метит пальнуть еще. Макдейд уж вот он, отнимает ружье. Иисусе Христе, Барнабас.
Эскра бросилась к ним бегом, рук не видно в рукавах. Губы разомкнула, завидев ружье. Подхватили они его под руки и повели по двору, и увидала она, как Глакен на них посмотрел: взгляд чистого отвращения. Пока шли они к дому, во двор вкатился автомобиль. Из него выбрался доктор Леонард, высокий сутулый старик с седевшей желтой копной волос. Двинулся к ним с сумкою и сигаретой, зажатой промеж кончиков длинных бурых пальцев. Курил он невозмутимо, курил, словно чтоб запечатать себе легкие от того, что вилось вокруг него, озабоченно оглядел Барнабаса, увидел, что тот хвор, и взял его за локоть, но Барнабас вяло выпростался. Не, сказал.
Врач вновь за него взялся. Пойдемте-ка сейчас же в дом, Барнабас.
Мне надо быть тут с ними.
Врач завел его внутрь. Подтащил стул к столу и усадил Барнабаса, увидел у него среди пота и дым-грязи перепуганные плачущие глаза, услышал рваное дыхание его. Прислонил сигарету в пепельнице на столе и помог Барнабасу выбраться из рубахи, направил стетоскоп в вихрь седоватой шерсти на груди и прислушался к буре с добавленной громкостью. Эскра стояла позади них, егозя и рассерженно. Ты что там делал с ружьем, Барнабас? спросила она.
Нож-лезвие в голосе у нее подчеркнул иноземные ноты в ее выговоре, и врач оделил ее долгим взглядом, чтоб оставила человека в покое. Кивнул ей на руки. Вижу, экзема у вас опять проявилась. Барнабас вперил взгляд в женин очерк, глаза прикрыты, и улыбнулся ей с видом, какой показался ей бездумным и бычьим. Оставьте его пока, миссис Кейн. Он очень надышался дымом.
Эскра пала на колени, волосы свесились у глаз, и схватила Барнабаса за рукав, заговорила с ним печально. Скажи мне, что ты делал с ружьем.
Барнабас длил свою странную улыбку, но тут дал ей опасть и принялся шептать Эскре, но она за дыханьем его не расслышала. Подалась поближе.
Я хотел дать им всем чистую смерть.
Что б ни делали они, не дать хлеву сгореть дотла они не могли, пусть ветер, крепкий своим умом, и переменился прежде, чем пожар подобрался к дому. О звуке, с каким погибала животина, не говорил никто, и все молча держали в себе мысль, что примешаны там и человечьи кости. Горенье сделало тьму, павшую вокруг них, туже, и, по мере того как густела темь, затихали звуки скотины. Мужчины теперь утешались присутствием женщин. Кто-то заварил чай, и стали передавать всем парившие кружки. Мужчины сербали из них и утирали грязь-пот с глаз почернелыми полотенцами. Эскра кружила. Барнабаса держал в кухне врач, сидел с ним. Все слышали звук рухнувшего хлева, как последний хриплый вздох чего-то громадного, теперь лишенного жизненной силы. Все балки, какие держались, рухнули с содроганьем, и на том всё. Выдало сполох черного дыма и взблеск искр, стрельнувший жутким янтарем в небеса, и тот прогорел в черный снег. Они слышали и догадались по звуку, что это упала внутрь стена, и отступили, а кто-то охнул. Христе, проговорил кто-то. Остальные подались глянуть. Всяк решил, что ни один зверь там не мог уцелеть, но зрелище темных фигур открылось им, фигур, неопределимых из-за пламени, что поглотило их и обратило в жуткие очертанья, животные голоса неизъяснимо немы. Барнабас протиснулся мимо врача и вышел из дома смотреть. Он увидел, как то, что осталось в живых из скотины, выплеснулось через упавшую стену, кто-то шатаясь и вскоре валясь, другие бегом вслепую, вроде живые, отделившись в некоем медленном взрыве, разметавшем их во все стороны ночи. Пламеневшие звери с жалким стуком врезались в стены или же натыкались на дерево и кончались беззвучно. Одна корова рухнула в дрок, и куст занялся и замигал им зловещим желто-пурпурным, а когда выгорел, животное все еще тихо полыхало, а некоторые не побежали вообще, а просто пали под безмолвным небом, легли в горящих шкурах своих. Барнабас повернулся к врачу, пытаясь заговорить, хватаясь за его руку. Вышептал слова из себя. Будто черные врата ада раскрылись настежь.
Часть вторая
Воздух теперь воздухом не был. Изменился он для Барнабаса, очертанья его стали иные. Он видел атомы искореженными, просмоленными и обремененными весом и запахом, природу великим насилием, на себя же ею навлеченным. Вонь осела на ферме, слишком тяжкая, чтоб ее вытеснить, осела на всей праздности тугим и горьким смрадом. Все обернуто было им, и Барнабасу казалось, что он чуял его так, будто происшедшее сделалось частью его, вшило себя ему под кожу, обжило его, как зараза. Великая утренняя тишина – пещера уму, кой просыпался прежде со скотиною вместе, уму, кой слышал теперь отзвук собственных мыслей пронзительней. Слышал и тишину, оставленную петухом, которого после пожара и не видали, старой ржавоперой птицы с серпом черных перьев, а может, на петухов такое тоже воздействует.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Песня Симеона» (1928), цит. по пер. О. Седаковой. –Здесь и далее примеч. перев.
2
Из сборника «О бытии многочисленным» («Of Being Numerous», 1968), раздел 31.Джордж Оппен(1908–1984) – американский поэт-объективист, лауреат Пулитцеровской премии.
3
Отирл. carn arbhan – курган зерна.
4
Отсылка к 2 Петр. 1: 4.