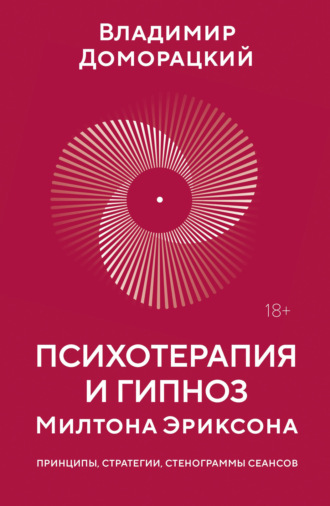
Полная версия
Психотерапия и гипноз Милтона Эриксона. Принципы, стратегии, стенограммы сеансов
Можно выделить ряд общих положений и принципов, которые отличают эриксоновский подход. Это гуманизм и вера в возможности человека; акцент на уникальности каждой личности и индивидуализированный характер терапии; представления о бессознательном как о целесообразной психической структуре; атмосфера доверия и сотрудничества; тщательное присоединение и обращение к пациенту через его систему ценностей; гибкость в работе и терапевтический прагматизм; утилизация; применение многоуровневых коммуникаций и различных методов косвенного воздействия; активизация конструктивных эмоций и творческого потенциала личности через драматизм, юмор и неожиданность; терапевтические предписания поведения вне сессии; подчеркивание позитивного; ориентация на лучшее будущее с акцентом на поиске внутренних ресурсов для достижения поставленных целей.
Метод носит стратегический характер, т. е. психотерапевт определяет основные проблемы пациента, намечает цели психотерапии и предлагает определенные подходы для их достижения. Метод является краткосрочным и прежде всего ориентирован на восстановление душевного и физического самочувствия нуждающихся в психотерапевтической помощи людей до приемлемого для них уровня. Психотерапевтические интервенции во многом выполняют роль рычага, необходимого для запуска процесса изменений. Работая с симптомом, эриксоновские психотерапевты ожидают эффекта «снежного кома», полагая, что трансформация какого-то элемента в системе может привести к изменениям всей системы. М. Эриксон говорил, что психотерапия подчас напоминает толчок первой костяшки домино. Научившись справляться с симптомами, пациенты часто избавляются от ригидных психических установок. Затем благотворные изменения могут затронуть и другие стороны их жизни. Достижение позитивных результатов считается важнее прояснения прошлого или понимания значения и функции симптома. По наблюдениям Эриксона, решение проблемы может быть вообще не связано с тем, что послужило ее причиной. Иногда даже допустимо позволить симптому продолжать существовать и далее, но по-иному, переработав его. Эффективная терапия приводит к позитивным изменениям на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях, что влечет за собой продуктивное разрешение имеющихся проблем и редукцию целого ряда психопатологических нарушений.
Терапия Эриксона относится к поддерживающим формам психотерапии. Она не ориентирована на выяснение скрытых мотивов или глубокие личностные изменения. Метод прагматично сфокусирован на преодолении актуальных жизненных проблем клиентов, а также устранении болезненной симптоматики. Это предполагает, что терапия носит краткосрочный характер и данный подход может быть использован вновь, если пациенты впоследствии обращаются к психотерапевту для работы над другими проблемами.
Дж. Зейг (1990) выделяет следующие основные аспекты эффективного воздействия на пациента в эриксоновской терапии.
• Обращение к пациенту через его систему ценностей.
• Подчеркивание позитивного.
• Использование косвенного воздействия. Причем объем косвенного воздействия прямо пропорционален сопротивлению пациента.
• Конструирование будущих внушений и реакций шаг за шагом.
• Использование алогичных замечаний и замешательства.
• Активизация конструктивных эмоций через драматизм, юмор и неожиданность.
• Использование амнезии.
• Домашние (терапевтические) задания.
• Использование социальных систем.
• Ориентация на достижение лучшего будущего.
В нашей профессиональной среде существует устойчивый миф о том, что только длительная психотерапия, опирающаяся на тщательно разработанные теории личности и психопатологии, способна обеспечить стабильный лечебный эффект, поскольку способствует лучшему пониманию клиентами себя, своих мотивов, ценностей, целей своего поведения и устремлений. Обязательным условием считается достижение инсайта. В то же время любая краткосрочная психотерапия, и в частности терапия Эриксона, нередко трактуется как поверхностная, манипулятивная, не имеющая фундаментальной теоретической основы. Марк Твен говорил: «В руках человека с молотком все вокруг кажется гвоздями». Специалисты, твердо усвоившие, что основная цель психотерапии – реорганизация личности, прежде всего будут стремиться к тому, чтобы научить клиента доверять своим чувствам, брать на себя ответственность, мыслить более рационально и т. п. Если для психотерапевта симптомы или дисфункциональное поведение – отражение более глубокого, скрытого расстройства, то его будет интересовать не их исчезновение, а изменение личностных характеристик, эмоциональных переживаний, самооценки и познания, что является, по его мнению, несомненным свидетельством глубокой терапевтической проработки. Альтернативная точка зрения принадлежала М. Эриксону, которого можно считать родоначальником «психотерапии новой волны», краткосрочной и сфокусированной на достижении конкретных позитивных изменений у клиента. Он писал: «Терапевт не должен настолько не уважать своих пациентов, чтобы быть не в состоянии принять естественную человеческую слабость и иррациональность» («Мудрость Милтона Эриксона», Р. А. Хейвенс, 1999). И еще определеннее: «Необходимо признать тот факт, что для некоторых пациентов полная и исчерпывающая психотерапия вообще неприемлема. Весь их общий паттерн выживания основан на существовавшем долгое время неумении адаптироваться к окружающей среде, причиной которого является их несовершенство. Следовательно, любые попытки коррекции этой дезадаптации будут нежелательными либо просто невозможными. Поэтому правильная психотерапевтическая цель состоит в том, чтобы помочь пациенту функционировать адекватно и конструктивно в такой степени, в какой это возможно с учетом всех его внутренних и внешних недостатков, составляющих неотъемлемую часть жизненной ситуации и реальных потребностей» («Мудрость Милтона Эриксона», Р. А. Хейвенс, 1999).
Судя по количеству русскоязычных специалистов, прошедших обучение эриксоновскому гипнозу, а также желающих овладеть этим методом, на него имеется устойчивый спрос на постсоветском пространстве. Вероятно, это связано с существующим у нас запросом на «народные», краткосрочные формы терапии, а также усилением интегративных тенденций в русскоязычной психотерапии. Безусловно, имеет значение и то, что психотерапия Эриксона легко адаптируется к нашим условиям, отличается экономичностью, универсальностью и достаточной эффективностью. Кроме того, эриксоновский подход весьма демократичен по своему духу. В нем отсутствуют элементы, довольно типичные для ряда импортированных к нам психотерапевтических моделей с их жесткой организационной структурой, формализованными рамками обучения, ступенями для «посвященных», ориентацией обучающихся методу не столько на последующую практику, сколько на преумножение своих рядов и терапию терапевтов, а порой откровенное сектантство. Впрочем, это уже другая история… Но как бы там ни было, за последние десятилетия эриксоновская психотерапия с ее обширным инструментарием, включающим множество оригинальных техник гипноза и формально негипнотических приемов, приобрела у нас широкую популярность.
Составляющие психотерапии Милтона Эриксона
Побуждение к изменениям
Терапия Эриксона была столь эффективной не только потому, что он великолепно гипнотизировал своих пациентов, но также благодаря использованию им стратегий работы так, что это соответствовало «картине мира» обратившегося за помощью субъекта. Он рассматривал как аксиому тот факт, что люди, прежде чем попасть к нему на прием, уже предприняли множество сознательных попыток изменить себя. И только потерпев в этом неудачу, они обратились к психотерапевту, потому что ищут помощи и нуждаются в ней. Обычно они более или менее представляют, что хотели бы изменить в своей жизни, но не знают, как этого достичь. Эриксон подчеркивал: «Все, чего хотят пациенты, – это изменений. У пациентов есть проблемы, и если бы они знали, в чем состоят эти проблемы, они бы не пришли. А поскольку они не знают, в чем на самом деле состоят их проблемы, они не могут вам внятно о них рассказать. Они в состоянии лишь достаточно путано сообщить о том, что думают по этому поводу. А вы слушаете их сквозь призму собственного жизненного опыта и не знаете, о чем они говорят, однако вам следует знать о том, что вы этого не знаете. А затем нужно попытаться сделать нечто, что вызовет в пациенте изменение… любое мало-мальское изменение, поскольку пациент хочет изменений, сколь бы малы они ни были. Он не станет измерять степень этого изменения. Он просто примет его с радостью и надеждой. И изменение начнет развиваться в соответствии с его собственными нуждами… Будто вы лепите снежный ком, катя его по склону холма. Сначала снежок у вас совсем маленький, но вот он скатывается вниз и становится все больше и больше!» («Феникс. Терапевтические паттерны Милтона Эриксона», Д. Гордон, М. Мейерс-Андерсон, 2004).
Эриксон обычно сам решал, в каком новом опыте нуждается обратившийся к нему субъект и что ему нужно делать, чтобы приобрести этот новый опыт, а затем подталкивал его к совершению подходящих для этого действий. И здесь важная роль принадлежит домашним заданиям или предписаниям пациентам определенного поведения, которыми так славится психотерапия Эриксона. Выполняя эти предписания, человек изменяется, причем ему же самому и принадлежит основная заслуга в происходящих изменениях. Роль психотерапевта – обеспечить ему для этого необходимые условия. Причем он должен понять, что любые позитивные изменения в конечном счете происходят в результате его собственных усилий. Но для того, чтобы человек начал меняться в нужном направлении, он должен обладать достаточной мотивацией.
ПримерНельзя заставить человека бросить курить вопреки его желанию.
Однажды к Эриксону пришел мужчина и сказал: «Мне шестьдесят пять лет, я выкуриваю по три пачки сигарет в день; на самом деле я не могу позволить себе тратить деньги подобным образом, но я это делаю. Мне до чертиков надоело кашлять по утрам и по ночам. Я плохо сплю, а еда кажется совершенно безвкусной. Я думаю, все дело в курении, поэтому я хочу бросить». В конце приема Эриксон сказал: «Простите, сэр, за целый час нашей беседы вы не предоставили мне ни единого свидетельства того, что действительно хотите бросить курить». Пациент ушел домой и рассказал все своей жене, которая велела: «Возвращайся назад к этому докторишке и скажи ему, что я знаю тебя лучше, чем он, и я знаю, что ты хочешь бросить курить!» Мужчина снова пришел к Эриксону, который сказал ему: «Вы напрасно тратите время, но я проведу с вами еще один час в надежде обнаружить хоть какое-то свидетельство того, что вы хотите бросить курить». В конце второго часа он сообщил пациенту: «Правда состоит в том, что вы не хотите бросить курить». Тот снова ушел домой и рассказал все своей жене, которая заявила: «Я пойду с тобой посмотреть на этого докторишку». Она пришла на прием вместе с мужем и потребовала, чтобы Эриксон ввел его в транс и заставил бросить курить. И тогда Эриксон сказал ей наедине: «Можно заставить человека бросить курить с помощью различных вызывающих отвращение техник, но их эффект непродолжителен. Можно мотивировать его бросить курить, но, если он не хочет бросить курить, он снова начнет делать это». Но она продолжала настаивать: «Мой муж хочет бросить курить: введите его в транс, и вы убедитесь, что он этого хочет». Эриксон согласился: «Хорошо, я введу его в транс и внушу ему очень сильную мотивацию, чтобы он бросил курить». Он действительно индуцировал транс и сказал мужчине: «Курите сколько хотите. Но попробуйте каждый раз, когда соберетесь зажигать сигарету, отложить ее в сторону, а вместо этого класть в стеклянную бутылку из-под молока мелочь на сумму, равную стоимости одной сигареты». Поначалу мужчина действительно бросил курить, поскольку его очень заинтересовала возможность каждый день класть в бутылку множество монет за невыкуренные сигареты. Первые три недели он был полон энтузиазма, поскольку никогда раньше не копил деньги. Бутылка наполнялась монетками, и он стал планировать путешествие на свои накопления. Но на четвертой неделе мужчина сказал жене: «Я не могу привыкнуть хорошо спать по ночам. Я не могу привыкнуть к тому, что я не кашляю. Я не могу привыкнуть к тому, что пища кажется мне вкусной. И я собираюсь снова начать курить».
ПримерОдна женщина сказала Эриксону: «Я хочу, чтобы вы сделали так, чтобы мне тяжело было курить», на что тот ответил: «Могу предложить вам несколько таких способов, но следить за тем, чтобы курение было для вас действительно тяжелым испытанием, – ваша задача». Она ответила: «А я знаю, что будет для меня тяжелым: я слишком много ем. Прикажите мне держать сигареты в подвале, а спички на чердаке, а выкуривать разрешите только по одной сигарете за раз, – и тогда мне придется спускаться в подвал за сигаретами, а затем подниматься на чердак за спичками; такая зарядка поможет мне снизить вес». Эриксон так и сделал. У женщины появилась новая цель, и вскоре она смогла решать сразу две задачи: снизить вес и бросить курить.
Терапевтические усилия Эриксона часто были ориентированы на то, чтобы побудить людей совершать поступки, которые помогали им получить новый опыт. В результате собственных активных действий они могли убедиться, что в состоянии сами добиться необходимых перемен.
Нередко психотерапевты непреднамеренно создают почву для формирования у клиента зависимости от терапевта. Многие люди завершают психотерапию с чувством удовлетворения полученным результатом и осознанием важной роли в этом психотерапевта. Этот в целом позитивный опыт в дальнейшем может перерасти в правило: «Если я сталкиваюсь с трудностями на жизненном пути, нужно идти к психотерапевту». Возможно, в этом правиле нет ничего плохого, по крайней мере для самих психотерапевтов, которым оно обеспечивает постоянный приток клиентов. Но Эриксон считал, что важно не только разрешить проблемы, с которыми люди обращаются за помощью, но и помочь им стать более самостоятельными личностями, способными пользоваться всеми своими ресурсами, а при необходимости готовыми стать терапевтами для самих себя.
Для Эриксона осознанное понимание субъектом собственных проблем не является обязательной предпосылкой для достижения значимых изменений. Обнажение корней проблемы часто требует длительного копания, например в рамках курса психоанализа. Усердное извлечение на свет своего прошлого было бы оправданным, если бы это знание приводило к желаемым изменениям. Но само по себе знание об истоках проблем редко приводит к выздоровлению. Оно может стать ценным источником информации для психотерапевта и, вероятно, вызывает временное облегчение благодаря катарсису, но само по себе, без обращения к другим средствам, вряд ли способно на большее, чем удовлетворение любопытства пациента. Поэтому существуют серьезные основания сомневаться в том, что понимание собственных проблем является необходимым условием для их коррекции. Вместе с тем ошибочно считать, что инсайт вообще несовместим с эриксоновским подходом, который активирует бессознательное клиента в обход сознательного понимания. В рамках эриксоновской методологии инсайт вполне допустим, но он является всего лишь одним из способов достижения душевного здоровья. Если инсайт способствовал позитивным сдвигам, Эриксон использовал его.
В каком объеме терапии нуждается человек?
Эриксон приводил пример студента, который на втором курсе потерял ногу в автомобильной катастрофе и носил протез. До несчастного случая он был веселым, общительным молодым человеком, душой компании. Но стоило ему надеть протез – и он стал отстраненным, необщительным, потерял всех своих друзей. Декан, который попросил Эриксона помочь студенту, предупредил: «И пожалуйста, не произносите в его присутствии слово “нога”. Он болезненно реагирует на это слово». Эриксон попросил студентов утром, когда все идут на занятия, задержать лифт. Одноногий парень, Эриксон и другие студенты долго ждали лифта, который не приходил, а потом Эриксон, прихрамывающий и опирающийся на трость, сказал студенту с протезом: «Давайте-ка мы, увечные, поковыляем по лестнице, а здоровые пускай ждут лифта». И они заковыляли по лестнице на четвертый этаж. Вскоре к безногому студенту вернулись прежняя общительность и хорошее настроение. Эриксон говорил: «Все, что я сделал, это изменил его образ восприятия вещей. То, как он рассматривал себя. Я поднял его над статусом калеки и идентифицировал с собой, профессором, который также немного хромает. Это придало ему новый статус, и он смог снова радоваться жизни. И сделать это было очень просто. Сколько психотерапевтов начали бы вдаваться в подробности его семейной истории, истории происшествия, предпринятых им усилий по адаптации к нормальной жизни и так далее. А я всего-навсего вырвал его из оков его горестного положения и бросил в новую ситуацию, с которой он мог справиться. А всю остальную часть терапии проделал он сам, без посторонней помощи. Такова краткосрочная терапия, терапия без осознания, без самозабвенного копания в прошлом и бесконечного разглагольствования по его поводу… Нельзя ведь ничего изменить в прошлом. Вы будете жить завтра, на следующей неделе, на следующий год. Поэтому вас прежде всего интересует то, что ждет за поворотом. И наслаждайтесь жизнью на этом пути» («Феникс. Терапевтические паттерны Милтона Эриксона», Д. Гордон, М. Мейерс-Андерсон, 2004).
Эриксон также любил рассказывать историю о парне по имени Джо, который много раз попадал в исправительные учреждения. Не успев выйти на свободу, он снова совершал что-то такое, за что оказывался под судом, а затем в тюрьме. Все были уверены, что в тюрьме он и закончит свою жизнь. Однажды он спросил очень красивую девушку, пойдет ли она с ним на танцы. Она ответила: «Да, если ты джентльмен!» Он ответил: «Я буду джентльменом!» И стал им. По сути, это была единственная терапевтическая помощь, оказанная Джо. И она смогла круто изменить его жизнь.
Эриксон считал, что для того, чтобы люди могли наслаждаться счастливой и продуктивной жизнью, им важно усвоить некоторые уроки. Чаще всего в своей работе он обучал пациентов гибкости, развивал у них чувство юмора по отношению к себе и окружающему миру, а также способность с оптимизмом смотреть в будущее.
Гибкость
Можно описать проблемы клиента с позиций наличия или отсутствия гибкости. Под «гибкостью» мы понимаем способность человека рассматривать ситуацию с различных точек зрения или способность реагировать на различные ситуации соответствующим им адекватным образом. Клиент, который говорит: «Каждый раз, когда я приглашаю девушку на свидание, я начинаю так нервничать, что теряю дар речи», фактически сообщает о том, что он не обладает гибкостью поведения на свиданиях. Конечно, существуют ситуации, в которых безмолвие является уместным, скажем в театре. Поэтому молодому человеку недостает именно гибкости поведения, чтобы он мог помолчать там, где это необходимо, но мог бы свободно общаться с девушкой на свидании. Эриксон утверждал, что чем больше гибкости и разнообразия проявляет в своем поведении человек, тем легче ему успешно адаптироваться к превратностям повседневной жизни. Кстати, для психотерапевта это качество является, пожалуй, еще более важным, поскольку ему необходимо уметь приспосабливаться к самым различным людям. Сам Эриксон обладал уникальной способностью адаптировать свое поведение к каждому конкретному клиенту. Причем нередко он направлял свои усилия на повышение гибкости у клиента.
Чувство юмора
Эриксон осознавал пользу юмора в преодолении неудач и досадных неожиданностей и не только эффективно использовал собственное заразительное чувство юмора, но и умел на примере внушить своим клиентам подобное легкое отношение к превратностям человеческой судьбы. «Фундаментальное положение, которое люди должны усвоить, состоит в том, что в их жизни не должно быть места уязвленным чувствам. Когда у вас появляются уязвленные чувства, бегите, не просто идите, а бегите к ближайшей помойке и избавьтесь от них, и вы заживете куда счастливей. Если кто-то хочет оскорбить вас… ничего страшного», – говорил Эриксон («Феникс. Терапевтические паттерны Милтона Эриксона», Д. Гордон, М. Мейерс-Андерсон, 2004). В качестве примера он приводил анекдот об одном ирландце и раввине. Ирландец по имени Пат ненавидел евреев. Однажды утром он встретил раввина и начал его поносить, называя всеми оскорбительными прозвищами, какие только знал. Когда поток ругательств Пата иссяк, раввин мягким голосом сказал: «Пат, когда кто-то дарит тебе подарок, а ты его не хочешь, что ты делаешь? Ты его возьмешь?» – «Конечно нет!» – ответил Пат. Тогда раввин сказал: «Ты подарил мне кучу оскорблений, а я их не хочу, так что оставь оскорбления себе». Эриксон считал, что психотерапевту надо учить своих клиентов отделываться от горестей смехом и наслаждаться радостями жизни.
Действительно, в краткосрочной психотерапии юмор чрезвычайно полезен. Клу Маданес[14] считает, что «достичь терапевтического изменения возможно лишь при наличии у психотерапевта достаточного оптимизма и умения видеть в грустном смешное» («Стратегическая семейная терапия», Клу Маданес, 1999). Это мнение разделяют многие специалисты, полагающие, что в основе большинства эмоциональных страданий лежит слишком серьезное отношение человека к себе. В психотерапии юмор способен:
• снизить эмоциональное напряжение и разрядить негативную энергию;
• облегчить контакт между людьми, которые вместе посмеялись; хорошее чувство юмора делает психотерапевта в глазах клиента менее опасным и более легким в общении;
• помочь взглянуть на проблему со стороны, часто по-новому (когда человек смеется, он диссоциируется от проблемной ситуации);
• облегчить восприятие существующих проблем и жизненных трудностей;
• активизировать творческий потенциал для решения проблемы;
• помочь исследовать «запретные» темы в более благоприятной обстановке;
• спародировать, доведя до полного абсурда, то или иное поведение клиента, чтобы он мог лучше понять его мотивы и скрытый смысл.
Хороший психотерапевт должен уметь тактично и со вкусом шутить, чтобы обезоружить клиента, устранить его сопротивление и помочь разобраться с болезненными проблемами.
Ориентация на будущее
Эриксон рассказывал, что у него в психиатрической лечебнице был пациент по имени Джон, который приставал ко всем, кто заходил к нему в палату. Он изводил сиделок объяснениями: «Меня сюда упрятали безо всякой причины. Я тут случайно». Эриксон проинструктировал весь персонал отделения: каждый раз, когда он скажет, что он тут случайно, просто отвечайте: «Но вы же все равно уже тут». Получая один и тот же ответ полгода кряду, Джон наконец сказал: «Я знаю, что я тут». Персонал отделения доложил об этом Эриксону, тот пошел к Джону и сказал: «Но вы же все равно уже тут». Он ответил: «Я знаю, что я тут». На что Эриксон сказал: «Вот именно, вы тут. И теперь, когда вы тут, что вы хотели бы сделать, чтобы выбраться отсюда?» Не прошло и девяти месяцев, как его выписали, он устроился на работу, помогал сестре окончить колледж и оказывал материальную поддержку семье. Он не прошел никакой психотерапии, кроме «Вы тут». Очень важно вынудить пациента признать, где он находится в данный момент своей жизни, встретить его в этой точке, а затем перекинуть мост в будущее.
Самым значительным достижением Фрейда является представление о том, что ключ к теперешним проблемам погребен в прошлом. Тот факт, что истоки своих проблем следует искать в прошлом, не подлежит сомнению. То, что истоки проблем и ключ к их решению – это одно и то же, уже куда менее бесспорно. Знание о том, «почему» человек делает то, что он делает, не обязательно помогает ему измениться. Более того, независимо от того, где и когда был найден ключ, если его и повернут в замке, то произойдет это сейчас или в будущем, но никак не в прошлом. Обычно клиенты приходят к психотерапевту, принося с собой длинную историю своих проблем. По мнению Эриксона, подолгу копаться в прошлом – пустая трата времени, и бо́льшая часть его терапевтической работы явно или неявно была направлена на переориентацию его клиентов на взгляд вперед, а не назад.
Эриксон рассказывал об одном коллеге-психиатре, который был очень компетентен в профессиональном отношении, но в личном плане был совершенным невротиком. В 1933 году он сказал Эриксону, что собирается оставить работу и пройти курс психоанализа. Тот спросил: «Боб, почему вы хотите пройти психоанализ?», и коллега ответил: «Понимаете, я хочу избавиться от страха перед женщинами. Я хочу жениться, обзавестись домом и детьми». В 1965 году умерла его мать, а он все еще проходил психоанализ. Некоторые из лечивших его аналитиков уже умерли, а он все еще проходил терапию. Когда мать Боба умерла, он женился на ее компаньонке, которой некуда было податься. Он женился на женщине, которая была старше его на пятнадцать лет. Ей было уже восемьдесят, когда ему исполнилось шестьдесят пять: это вряд ли можно было назвать браком. Она уже давно не могла иметь детей, а он так и не обзавелся домом – только маленькой квартиркой в Бостоне. И все же, когда он работал в госпитале, он был очень компетентным в том, что касалось его пациентов. Но с 1933 по 1965 год и дальше до самой его смерти он проходил психоанализ. Эриксон рассказывал, что встречал множество пациентов, проходивших психоанализ, которые проводили годы в бесполезном копании в прошлом! Поэтому он часто говорил своим пациентам: «Давайте забудем прошлое и взглянем вперед, в будущее… и превыше всего во всем, что вы делаете, будем ставить юмор!» («Феникс. Терапевтические паттерны Милтона Эриксона», Д. Гордон, М. Мейерс-Андерсон, 2004).

