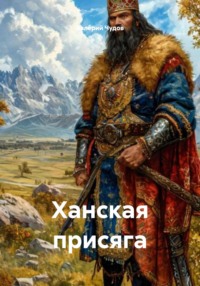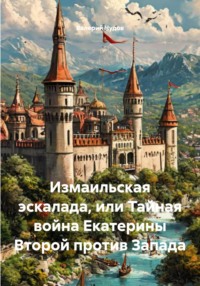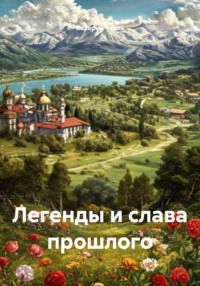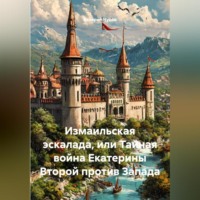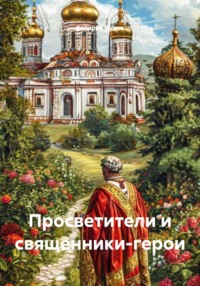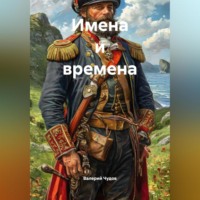Полная версия
Имена и времена
Там, под руководством известного в то время своими работами астронома Дерптского университета Струве11, Вронченко приобрел основательные знания в астрономии и геодезии. Здесь же он ознакомился с методикой математической обработки результатов измерений. Привлекался к производившимся Струве триангуляционным работам и выполнял астрономические наблюдения. Одновременно Вронченко, стремившийся к широкому, разностороннему образованию, посещал, наряду с лекциями по математике, астрономии и геодезии, также лекции по другим предметам, в частности по литературе. За годы пребывания в Дерпте (1824—1827) он пополнил свое общее образование. Основательно изучив несколько иностранных языков (немецкий, английский, итальянский), он уже в то время использовал их знание для ознакомления с лучшими произведениями мировой литературы.
Именно в Дерпте, где Вронченко находился до 1828 года, раскрылось его переводное творчество. Он не был переводчиком-профессионалом. Поэтический перевод был увлечением, которому Михаил отдавал свободное от службы время.
Перевод «Гамлета», выполненный тогда Вронченко, был новаторским для своего времени. Он первый решился воссоздать пьесу Шекспира на русском языке в истинном виде, без произвольных изменений, какими отличались распространенные в начале XIX веке французские переводы-переделки, и при этом старался, «решительно преодолев боязнь показаться странным, удержать сколько возможно необыкновенный его (Шекспира) способ выражения мыслей, часто столь же необыкновенных». Одобрение, которым был встречен перевод, побудило Вронченко продолжить работу над Шекспиром.
По окончании занятий в Дерптском университете Вронченко, в марте 1828 года выехал из Дерпта в Петербург, где ему было присвоено звание поручика. Он был зачислен в распоряжение генерал-квартирмейстера12.
В следующем году, в связи с началом русско-турецкой войны (1828—1829), Вронченко был назначен на Балканский театр военных действий и в апреле был командирован в Молдавию, Валахию и Болгарию. Здесь Михаил Павлович производил астрономические определения географических координат различных пунктов, предназначенных для связи выполнявшихся особым отрядом топографических съемок. Были произведены также барометрические определения высот мест астрономических пунктов и в некоторых местах магнитные наблюдения.
Эти работы выполнялись не только в годы войны, но и в последующие (1830—1832), поскольку русские войска лишь постепенно эвакуировались с Балканского полуострова. Здесь Вронченко оставался до 1832 года. Ему было присвоено звание капитан.
Астрономические работы Вронченко в период 1828—1832 годов привлекли внимание ученых астрономов и создали ему большой научный авторитет. За свою деятельность был награжден Орденом Святой Анны 2-й степени.
В свободные часы он продолжал переводить европейских поэтов. Вронченко за это время достаточно хорошо изучил турецкий, болгарский, молдавский, старо- и новогреческий языки, что имело большое значение в дальнейшей его деятельности. Кроме того, он был отличный кавалеристом, прекрасно владел холодным и огнестрельным оружием.
Именно поэтому в 1833 году Вронченко, владевший в совершенстве турецким и греческим языками и имевший большой опыт по военно-географическому обследованию, был выбран для особой миссии. По поручению русского царя Николая Первого под дипломатическим прикрытием он был направлен в разведывательную военно-географическую экспедицию во владения Оттоманской Порты в пределах полуострова Малая Азия. В его задачу входило определение географического положения ряда пунктов и сбор сведений о населении, промышленности, торговле, климате и природных богатствах этой, почти еще не исследованной в то время страны.
Для выполнения этого поручения требовались не только специальные знания (по военным наукам, математической географии, картографии и пр.), но и физическая выносливость, умение ориентироваться и действовать в сложной обстановке. Эти качества в полной мере были присущи Вронченко.
В то время, путешествие по Малой Азии считалось предприятием в высшей степени опасным, сопряженным с риском непредсказуемых ситуаций.
В начале 1834 года Михаил Павлович выехал из Валахии в Константинополь. А оттуда он вместе с переводчиком и денщиками отправился в город Смирну. И на этом пути у Никомидии они встретили турецких рекрутов. С чего и началось наше повествование.
Через две недели после Константинополя Вронченко со своими подчиненными въезжал в Смирну. Проплутав по узким переулкам азиатской части города, маленький отряд выехал, наконец, на широкую дорогу. Это была уже европейская Смирна. Русские подъезжали к гостинице, когда впереди раздались крики. Улица вдруг заполнилась людьми, а потом также неожиданно опустела. Подъехавшие всадники увидели лежавшего навзничь человека, из груди которого лилась кровь. Рядом стояли несколько греков и ругались.
К вечеру хозяин гостиницы, француз, рассказал Вронченко подробности трагической истории. Год тому назад, в кофейне произошла ссора между двумя греческими рыбаками. Один из них убил другого ударом ножа и скрылся. И вот спустя год двоюродный брат погибшего выследил убийцу и отомстил ему. «Впрочем, – заключил хозяин гостиницы, – драки между лодочниками здесь нередки».
На следующее утро Вронченко прибыл в русское консульство и вступил в должность секретаря. Генеральный консул пожал ему руку и заверил, что сделает все возможное для подготовки экспедиции вглубь страны.
Мусселим (правитель) города Смирны внимательно прочитал фирман13 из Константинополя, отложил его и спросил:
– Так это вы – секретарь русского генерального консульства, которому мне приказано оказывать всяческую помощь при проведении географических работ?
– Капитан Вронченко, – представился русский офицер. На вид ему было за тридцать. Он был небольшого роста и хорошо сложен. Приятные черты лица с темными волосами и усами несколько портил холодный, и даже высокомерный, взгляд серых глаз.
– В чем будет заключаться ваша работа? – Голос мусселима звучал приветливо.
– Я буду ездить верхом на лошади по Анатолии и производить астрономические, топографические, маршрутные и другие измерения. Эти данные позволят составить более точные карты местности, что очень важно как для вашей страны, так и для всего мирового географического сообщества.
– Вы собираетесь ездить один?
– Нет, меня будет сопровождать чиновник константинопольской миссии, господин Моисеев, как переводчик. Еще со мной будет денщик. Конечно, мне нужны будут проводники. Для некоторых работ придется нанимать местных жителей. Сюда я буду возвращаться для обработки результатов и отдыха между поездками.
– Хочу вас предупредить, господин Вронченко, что ездить по некоторым нашим глухим местам весьма небезопасно.
– В этом я уже убедился, как только въехал в Смирну, – усмехнулся офицер.
– А что случилось? – удивился правитель.
– На моих глазах перед кофейней убили человека.
– Ах, это… Ссоры между греческими рыбаками. Голь отчаянная. Один грек отомстил другому за своего брата, убитого покойным год тому назад, и скрылся. Здесь такое бывает.
– Надеюсь, полиция его найдет?
– Не знаю, – пожал плечами турок. – А вот, чтобы у вас не было проблем с местными властями, когда вы будете ездить по провинциям, я выдам вам паспорт, где к вашему имени добавлю титул «бейзаде» (князь), что заставит всех любопытных относиться к вашему путешествию с почтительностью.
– Буду весьма вам признателен, ваше превосходительство, – ответил с поклоном головы русский офицер.
– Добро пожаловать в Анатолию, бейзаде, – сказал ему на прощание мусселим.
Консул, выслушав Вронченко, посоветовал:
– Может вам испросить охрану для поездок?
– Не надо, – улыбнулся офицер, – мне ведь их придется кормить.
Два месяца Вронченко со своими подчиненными готовился к поездке и ждал разрешения. В свободное время они знакомились со Смирной и ее окрестностями, бродили по кривым улочкам и по товарным рядам. Дожди, которые так утомляли в марте, прошли, и теперь люди наслаждались весенней свежестью, ласковым солнышком и запахом моря. К середине мая все было готово, и 20-го числа немногочисленная русская экспедиция вышла в свой первый поход. Маршрут, намеченный Вронченко, шел с запада, от Смирны, на восток до центральной части полуострова, а затем на север, к Синопу на Черном море. Экспедиция состояла из Вронченко, как руководителя, драгомана Моисеева, одного казака-денщика и проводника. Все ехали на лошадях и были вооружены винтовками, пистолетами, саблями и кинжалами. Отряд дополняли три вьючные лошади, нагруженные оборудованием для исследовательских работ, имуществом и припасами.
Первые дни двигались по равнине в окружении невысоких гор. Вронченко ехал молча, часто оглядываясь по сторонам и тщательно записывая увиденное карандашом на тряпичные лоскуты. Моисеев, наоборот, изнывал от молчания и вначале попытался поговорить с денщиком, но тот только буркнул в ответ несколько слов. Он вообще терпеть не мог турок и их порядки. «Я их рубал под Силистрией, – говорил казак, – они друга моего убили, а вот теперь дружбу с нами заводят». Впрочем, переводчик нашел себе собеседника в проводнике, словоохотливом турке. Так они и ехали впереди, болтая о всяком. Иногда в разговор включался Вронченко, справляясь об окружающей местности. Район был плотно заселен. Часто встречались небольшие селения, окруженные полями, на которых работали люди. Попадались и придорожные кофейни. Прямо у дороги, под деревом, сидел ее владелец, готовый тут же приготовить кофе для путников. Несколько раз Вронченко останавливал свою группу у какой-нибудь кофейни, отдохнуть и выпить чашечку напитка. Казак кофе не пил, просил принести воду. При каждой остановке вокруг русских собиралась толпа любопытных, от мала до велика. Начинался разговор, из которого Вронченко выуживал много сведений о местном быте. Как ни странно, но в этой местности, несмотря на мусульманскую настороженность, отношение к русским было доброжелательное. Каждый вечер капитан делал записи в полевую тетрадь и переносил чертежики с лоскутов на бумагу. В двух небольших городках отряд сделал остановки на несколько дней. Вечером и ночью Вронченко проводил астрономические определения мест.
Некоторое время они ехали еще по низменности, а потом дорога стала уходить вверх. Отряд поднялся на Анатолийское плоскогорье. Теперь уже ночи стали прохладнее, хотя днем было по-прежнему жарко. Однажды вечером, возле местечка Ушак, после астрономических наблюдений, Вронченко и Моисеев лежали на рогоже и курили, глядя в бездонное, звездное небо. От Луны струился приятный свет, и все вокруг казалось наполнено волшебством. Моисеев вдруг спросил:
– Скажите, Михаил Павлович, как в вас сочетается внешняя сухая строгость и романтическая увлеченность. Ведь вы не только хороший математик, астроном и геодезист, но прекрасный поэт, переводчик.
– А я и сам не знаю, – задумчиво проговорил Вронченко, глядя на тлеющий конец сигары. – Еще учась в гимназии, я имел склонность к математике, черчению и рисованию. Одновременно увлекался литературой, пробовал силы в стихосложении. Потом поступил в Московский университет, но, не закончив курса, перешел в училище колонновожатых, где готовили к службе по квартирмейстерской части Генерального штаба, выполнявшей астрономические, геодезические и топографические работы. После училища я продолжил обучение в Дерптском университете и там же начал переводить Байрона. Стихотворение «Сон» опубликовали. Мне нравились и геодезия и стихи. Я приступил к Шекспиру. В 1828 году вышел отдельной книгой «Гамлет» на русском языке в моем переводе и том же году меня направили в зону боевых действий на Дунае. С тех пор я живу в походных условиях. Уже без меня напечатали в Петербурге «Манфреда» Байрона и несколько переводов в Одессе.
– В 1828 году я заканчивал Петербургский университет, – тихо сказал Моисеев. – Мне довелось читать вашего «Гамлета». Отличный перевод.
– А у кого вы учились востоковедению?
– У профессора Сенковского Осипа Ивановича, на кафедре турецкого и арабского языков.
– Не знаю такого. Да и не мудрено, я ведь шесть лет не был в Петербурге.
– Сенковский – великолепный знаток Востока. Он сам проехал от Константинополя до Каира. Самостоятельно выучил ряд восточных языков. Когда-то служил в нашей константинопольской миссии и меня туда же рекомендовал. Кстати, он тоже хороший переводчик. А я вот только востоковед, ориенталист, стихов сочинять не умею, математику и астрономию не понимаю.
– Не отчаивайтесь, может, вы в чем-то другом проявите себя.
– Не знаю. Скажите, Михаил Павлович, вы, как я заметил, и сейчас работаете над каким-то переводом?
– Я перевожу «Макбет» Шекспира.
– О! – восторженно воскликнул Моисеев.
Вронченко лишь удовлетворенно хмыкнул от такой оценки своих трудов.
И они замолчали, продолжая любоваться звездным небом и думая каждый о своем.
Чем дальше на север продвигался маленький русский отряд, тем пустынней становилась местность. Голая, ровная, почти без холмов и возвышенностей, равнина. Реже попадались селения, меньше в них было населения. Почти исчезли придорожные кофейни. Люди здесь жили победнее, чем на побережье. Меньше было любопытства, больше подозрения и даже страха. Впрочем, помогал титул «бейзаде», даже местное начальство становилось подобострастней.
Вокруг населенных пунктов виднелись поля, засеянные пшеницей и кукурузой. Паслись отары овец, хотя трава была пожухлой и выгоревшей. Казак Григорий возмущенно топал ногой по земле и говорил:
– Если бы наши стада паслись на такой земле, они бы подохли с голоду!
Правда, во всех селениях и городках были колодцы и ирригационные каналы (арыки) для полива. В низинах встречались озера, некоторые из них соленые. Одно время экспедиция даже ехала вдоль реки Сакарья.
До местечка Ангора добирались вместе с караваном – десятка четыре мулов, навьюченные небольшими тюками. Как-то остановились на ночлег в хане (постоялом дворе). Не желая спать в душном помещении, русские поставили рядом палатку. Ночью к ним подобрались шакалы, и чуть было не утащили сапоги, беззаботно оставленные на свежем воздухе. Благо не спал денщик и успел отогнать хищников головней из костра. Потом местные жители рассказали, что шакалы ловкие воры. Они ходят стаями и могут ночью подкрасться к спящим и унести все, что сумеют найти – сапоги, уздечки, шапки и другие предметы. По окрестностям бегало много бродячих собак, среди которых, по рассказам здешних жителей и к удивлению русских, не было бешеных. Так что по ночам часто слышались лай собак и вой шакалов.
За Ангорой дорога пошла в гору. Появились кустарники. Местность стала более лесистая. Люди и лошади начали уставать, сказалось скудное питание. Перебравшись через хребет Кероглу, остановились отдохнуть в местечке Кастамония. Затем, перевалив через Западные Понтийские горы, стали спускаться к Синопу. Появилась влажность, в воздухе запахло морем.
В Синопе пробыли с неделю. Тут закончился первый круг поездки. Путешественники побродили по городу, заглянули на многоголосый базар, полюбовались морем и, конечно же, сходили в баню. Там в течение двух часов банщики распаривали, растирали, вытягивали и сжимали тела своих подопечных и только после этого их мыли.
После Синопа маршрут отряда лежал тоже в приморский город Самсун. Начинался второй круг путешествия. Они шли вдоль моря, а справа возвышались горы. Контраст удивительный. Правда, пришлось им пробираться и через болотистую местность в устье реки Кызыл-Ирмак, где обитали тучи комаров и мошкары.
В Самсуне путники основательно запаслись провизией для людей и ячменем для лошадей, так как путь их теперь лежал на юг, опять через Анатолийское плоскогорье. Спустившись до Кесареи, отряд сделал крюк и пошел на север к Кастамонии, вновь пересекая Анатолийское плоскогорье. В Кастамонии, где путешественники уже побывали ранее, закончился их второй круг. Третий круг они прошли вдоль северной, западной и юго-западной части плоскогорья, оставляя справа от себя горы, и закончили его в небольшом местечке Булавадин. Отсюда начинался четвертый, последний, круг их поездки. Он шел на юг, к берегу Средиземного моря. Сделав остановку в городке Конья, группа Вронченко подошла к горам Западного Тавра. Здесь им посчастливилось наблюдать живописное зрелище.
Была уже середина сентября, в горах наступили холода, и кочевые племена, да и жители окрестных селений спускались с гор, с летних пастбищ, на свои зимние квартиры, в кишлаки. Сперва тянулись бесконечные вереницы верблюдов, лошадей, ослов, мулов, коз и овец, затем – группы мужчин и женщин в пестрых костюмах. Верблюды несли самые тяжелые вещи: палатки, столбы и прочее, более легкая утварь была распределена между ослами и мулами. Вооруженные длинными ружьями, пистолетами и кинжалами мужчины шли пешие или ехали верхом на лошадях, в зависимости от достатка. Небогатые женщины следовали за мужьями пешком; те же, кто могли себе позволить некоторый комфорт, – верхом на муле, посадив детей перед собой или сзади. Богатые матроны устроились в своего рода корзинах, напоминающих по форме кузова маленьких карет. Обычно верблюд был нагружен двумя такими корзинами – по одной с каждого бока, где помещались женщины, утопающие в подушках и одеялах. Дополняли картину собаки, огромные и свирепые, которые показывали своим угрожающим видом, что они не подпустят чужаков.
Перевалив через Западный Тавр, группа Вронченко вышла к Средиземному морю у местечка Келендери. Отсюда четвертый круг продолжился по берегу на запад. Двигались тяжело. Наступил октябрь, и осень давала о себе знать. Похолодало. По ночам над болотистой, низменной, лихорадочной прибрежной местностью стлался густой, пахучий туман, который расходился только поздно утром. Днем еще припекало солнце, и от повышенной влажности тяжело было дышать. До крупного города Аталия они добрались уставшие, измученные и простуженные. Там отряд остановился на несколько дней.
Как-то под вечер Вронченко с Моисеевым сидели на набережной и молча курили. У их ног тихо плескалось море. Волны, то медленно уходили, расставаясь, то, будто раскаявшись, вновь возвращались, разбивались с легким шумом о берег, засасывались песком, травами и пропадали. И тут же на их место приходили следующие. Вечное движение…
Неожиданно Моисеев спросил:
– Михаил Павлович, вы боитесь смерти?
Удивленный Вронченко ответил не сразу:
– Видите ли, мой друг, будучи у стен осажденной Силистрии, я добровольно побывал на наших батареях и в траншеях. Меня влекло туда желание обогатиться новыми ощущениями. Необъяснимое волнение чувствовал я, когда надо мной шипели ядра и свистели пули. От сознания, что стою перед вечностью, мне сделалось хорошо. Потом я понял, что не смерть пугает человека, а род смерти тяготит его душу. Тогда же меня обошли стороной чума и лихорадка. С тех пор я не думал о смерти. А ты-то почему спросил меня о ней?
– У меня нехорошее предчувствие.
– Так гони его прочь!
– Не знаю… Попробую.
А Вронченко вспомнилось, как однажды он чуть было не погиб от собственной неосторожности. Это было под Силистрией, на привале. Пока денщики готовили походный обед, он сел отдохнуть на какие-то вьюки, не заметив, что у его ног лежит мешок с порохом. Ему захотелось покурить. Он высек огонь и, положив трут в трубку, начал ее раскуривать. Кто-то отвлек его и он обернулся. Горящий трут свалился и упал на мешок с порохом. Трубка не раскуривалась, и офицер, возвращаясь в прежнее положение, вдруг с ужасом увидел дымящийся трут на пороховом мешке. Мгновения хватило, чтобы снять огонь. Еще бы несколько минут и Вронченко взлетел на воздух.
Из Аталии они пошли через отроги Западного Тавра. От чистого, горного воздуха Моисеев повеселел. Но когда спустились к Средиземному морю у местечка Макри, переводчик снова начал кашлять. Пошли дожди. Здесь в устье небольшой речки, в узкой болотистой местности, втиснутой между двух гор, в воздухе неподвижно висела водяная взвесь. У Моисеева начался озноб. Поскакали в Кюджас, но тамошний лекарь только развел руками, дал какие-то пилюли и посоветовал делать уксусные компрессы. Вронченко нанял арбу, уложил на нее Моисеева, укутал его, и они двинулись в сторону городка Мугла. По дороге молодому человеку стало лучше. Он подозвал Вронченко и сказал:
– Михаил Павлович, вы помните, как мы искали могилу Ганнибала в окрестностях Никеи?
Вронченко улыбнулся. Тогда весной они спросили о захоронении у местного коджи, приходского учителя, старика лет семидесяти. Тот указал на курган за городом и сказал, что туда ходят, бог зачем, все проезжающие «френки», то есть европейцы. И когда они, усевшись на курган, готовы были объявить, что здесь покоится прах великого полководца, коджи вдруг, вероятно по наивности, добавил: «…правда, отец мой помнит, что прежде, в годы его детства, «френки» ходили к другому кургану. Однако со временем тот сгладился, его запахали и начали ходить к этому». Неудачные искатели вскочили и сбежали с кургана. Разрушилась мечта записать в дорожном журнале: «Сидел на могиле Ганнибала».
– Почему ты спросил об этом? – поинтересовался Вронченко.
– Я хочу сказать, что коль могила знаменитого человека осталась неизвестной, то уж про мою могилу забудут все.
– Не думай об этом. Ты выздоровеешь.
Вечером у Моисеева поднялся жар, и он впал в беспамятство. Утром молодой человек очнулся и попросил Вронченко прочитать что-нибудь из «Гамлета». Офицер только начал читать монолог «Быть или не быть…» и его спутник скончался.
Похоронили Моисеева в Мугле на греческом кладбище. На следующий день после похорон заболел сам Вронченко. У него поднялась температура и началась лихорадка. Он успел дать указание денщику Григорию продать лошадей и добираться до Смирны морем. Казак на руках отнес своего хозяина на судно и не отходил от него до прибытия в порт. Вронченко проболел месяц, но выздоровел. Так закончилась первая поездка экспедиции.
За зиму Вронченко окончательно поправился и окреп. Во время своего выздоровления он читал газеты, которые ему любезно предоставлял хозяин гостиницы, консул и, иногда, мусселим. Это помогало ему ориентироваться в событиях, происходящих в Оттоманской империи и за рубежом. Из «Смирнинского курьера» офицер узнавал о местных новостях и сплетнях. Правительственные газеты – «Оттоманский вестник» на французском языке, и «Календарь событий» на турецком – публиковали преимущественно официальные материалы. Но кроме указов и распоряжений, в них печатались также статьи, восхваляющие реформаторскую деятельность султана, информация о внутренних событиях, иностранные известия и даже стихи. Позже он стал посещать кофейни, бродил по городу, беседовал с различными людьми и слушал разговоры. Все полученные сведения и свои соображения Вронченко заносил в тетрадь, готовя, таким образом, материалы для определенной статьи своего «Обозрения». Кроме того, он не прерывал работу по переводу «Макбета».
Однажды ему удалось побывать на маневрах регулярного полка. В то время это было единственное турецкое воинское подразделение в Смирне, численностью 1500 человек. Вронченко был поражен неопрятностью офицеров и уродливостью солдат: фески засаленные и без кистей, шея и грудь открытые, поношенные полотняные куртки с цветными воротниками и оборванными пуговицами, панталоны немного ниже колен, а под ними голые ноги в изодранных туфлях.
В конце января Вронченко начал готовиться к новой поездке. В этот раз офицер решил ехать сам, с денщиком, взяв с собой еще проводника и двух вьючных лошадей с грузом.
– Я уже достаточно хорошо владею турецким и греческим языками, – говорил он консулу, – поэтому переводчик мне не нужен. Все научные работы провожу я один, а лишних людей держать незачем.
Экспедиция отправилась в путь рано, в марте. Вначале маршрут пролегал на юго-восток, по приморской дороге до селения Мугла. Время было неудачное – шли весенние дожди, погода стояла пасмурная, небо затянуто тучами. Вронченко ехал в турецком плаще с капюшоном, хмурый и недовольный. В Мугле он побывал на могиле Моисеева и отправился назад к местечку Айдин. Из-за погоды удалось сделать наблюдения лишь в трех пунктах. Из Айдина группа продвинулась к востоку, поднялась на Анатолийское плоскогорье и пошла на север. Погода установилась хорошая, и руководитель экспедиции повеселел. В городке Афиум-Кара-Гиссар, в котором они побывали еще во время первой поездки, закончился первый круг. Такова была методика проведения астрономических и съемочных работ Вронченко. Определения широт населенных пунктов он проводил по звездам, поэтому работал ночью, когда все, успокоившись, спали. При наличии четырех основных пунктов (Смирна, Синоп, Пера – предместье Константинополя и Аталия), установленных при английской описи берегов Средиземного и Мраморного морей, долготы остальных пунктов определялись путем перевозки хронометров, которые он носил у себя за поясом. Ограждая от сотрясения эти чувствительные приборы, он научился легко садиться на лошадь и слезать с нее, держаться в седле так, чтобы не было толчков, стоять на стременах, когда лошадь идет трусцой. Данные наблюдений Вронченко тайно заносил в полевую тетрадь, которую никому не показывал. Все маршруты имели общие пункты, которыми они связывались воедино, что позволяло контролировать точность наблюдения. Таким образом, один и тот же город экспедиция могла посещать несколько раз за поездку.