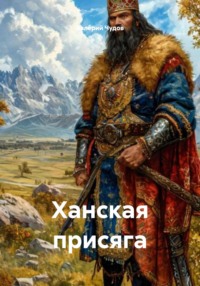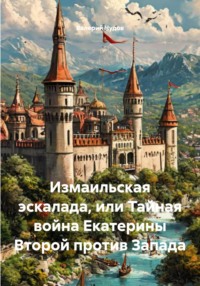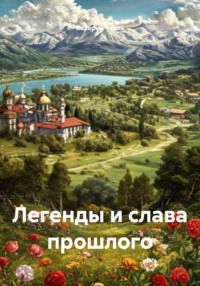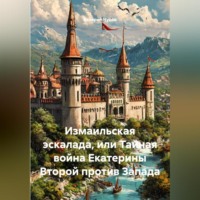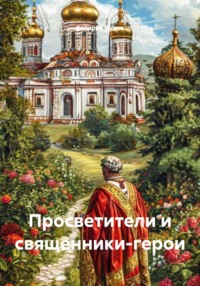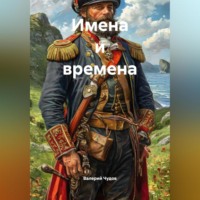Полная версия
Имена и времена
Осенью 1833 года появилось объявление от имени книгопродавца А.Ф. Смирдина о начале издания в Санкт-Петербурге с 1834 года грандиозного, ежемесячного, толстого, энциклопедического журнала под названием «Библиотека для чтения». Объявление было подписано Сенковским и Гречем как редакторами нового журнала, который должен был соединить в себе все русские литературные силы. Программа его была обширна и также, как и внешний вид, послужила образцом для всех последующих русских ежемесячных учёных литературных журналов по 60-е годов 19-го столетия. Журнал должен был выходить с января 1834 года книжками около 20 печатных листов. Годовое издание стоило 15 рублей, с пересылкой – 16 рублей 50 копеек. Авторы статей, вопреки существовавшему прежде обычаю, получали гонорары, и весьма хорошие. Смирдин денег не жалел. Первая книжка «Библиотеки для чтения» на 1834 год вышла в свет и была разослана петербургским подписчикам накануне Нового года. В книге фигурировали все знаменитости: Пушкин, Жуковский, Греч, Булгарин, Полевой, Погодин и другие. Сам Сенковский для первого номера дал научную статью о скандинавских сагах и остроумную, оригинальную повесть под названием «Вся женская жизнь в несколько часов», где очень талантливо рассказана о судьбе бедной институтки, влюбившейся в шалопая. Успех журнала был колоссальный. Однако сразу же после выхода первого номера начались нападки на журнал. Как со стороны прессы, так и со стороны цензуры. Дошло до того, что уже в январе 1834 года, Сенковский был вынужден не только отказаться от редакции «Библиотеки для чтения», но и напечатать в «Северной пчеле» о том, что он снимает с себя обязанности редактора. Столь блестяще начатая карьера журналиста готова была оборваться. Страсти улеглись лишь после того, как учредители пообещали остаться вне партий, отказаться от споров с другими журналами, не отвечать на выходки и критику, не предпринимать анти-критику. Сенковский вернулся к редакторству и с этого поста уже не уходил.
В течение семи лет с 1834 по 1840 годы «Библиотека для чтения» была, в буквальном смысле слова, законодательницей в области русской литературы. А её редактор, в котором публика узнавала фантастического «Барона Брамбеуса», достиг небывалого до него успеха.
Сенковский смело мог назвать «Библиотеку для чтения» своим собственным журналом. Фактически Греч не участвовал в работе. Его имя было чисто номинальным. А вскоре оно вообще исчезло с первого листа. Сенковский был и редактором, и сотрудником, и корректором, и подчас переводчиком. Он работал с юношеским жаром, нисколько не заботясь о своем здоровье. Вечно сидел у себя в кабинете, зарывшись в книги и рукописи. Отдыхал всего-навсего один или два дня в месяц. Ни одна статья, ни одна самая крошечная заметка не миновала его рук. Осип Иванович сам выполнял всю работу по сбору и подготовке материала. Кроме того, давал в каждый номер свои произведения – повести, фельетоны, научные и критические статьи, заметки, обзоры. Подписывался он, в основном, «Барон Брамбеус». Именно первые годы «Библиотеки для чтения», когда редактор её был невероятно загружен журнальными хлопотами, стали самыми плодотворными годами в литературной деятельности Барона Брамбеуса. Он появлялся в журнале во множестве обликов. Был и критиком, и рецензентом и судьей. От литературных приговоров Барона Брамбеуса зависели судьбы книг и славы писателей. Журналы постоянными выходками против «Библиотеки для чтения», называя его Чингисханом и Батыем, больше способствовали увеличению интереса к ней публики, чем вредили редактору.
Как-то в доме одного генерала собрались гости для встречи Нового года. За четверть до полуночи позвонили в дверь, принесли номер «Библиотеки для чтения». Хозяйка дома, образованная и остроумная женщина, взяла журнал и, не удержавшись, открыла его. Стихи Пушкина! Тут же прочитала всем гостям. Прелестно, жаль, что мало! А что дальше? Дальше повесть Барона Брамбеуса. Но она длинна, прочтём потом. А сейчас надо взглянуть, как начинается. Хозяйка читала и читала. Все слушали. Когда же она кончила, оказалось, Новый год наступил. И никто не слыхал, как пробило полночь. Таков был интерес к Барону Брамбеусу.
Работа увлекала Сенковского, тем более, что она сопровождалась огромным успехом. За один 1834 год количество его личных произведений составляли 60 печатных листов, или около 1000 страниц. И днём и ночью он не отрывался от письменного стола, пока не доводил до конца заданного себе труда. Ложился, когда уже утомление и даже изнеможение давало знать. Накануне выхода книжки он проводил день и ночь в типографии, чтобы быть уверенным в непременном появлении её первого числа. Только потом успокаивался и позволял себе отдохнуть день-два. На третий уже начиналась мучительная работа для следующей книжки.
Ещё в 1833 году Сенковский ушел с должности цензора, но университетскую кафедру не оставил. Стал лишь реже появляться в университете. Тянул своё профессиональное дело только ради пенсии. При таких условиях исполнялось оно, конечно, уже неважно. А лет через десять фактически отошёл от активной научной деятельность. С начала 30-х годов его биография стала биографией писателя.
Замысел Сенковского состоял в том, чтобы дать русскому читателю идеальный массовый, популярный печатный орган. И он добился своего. Первые годы существования «Библиотеки для чтения» – это образцы его блестящей профессиональной редакторской деятельности. Каждый номер журнала нёс на себе отпечаток личности его создателя. «Библиотека для чтения» была изданием новаторским. Это был первый в России журнал энциклопедического типа, охватывавший практически все стороны жизни образованного русского человека. Не только «словесность» и «науки», но и «хозяйство», «промышленность», «новости», «моды»!.. Объём «Библиотеки для чтения» доходил до 30 печатных листов. При этом Сенковский, в противовес прежним дилетантским представлениям о журнале, стремился утвердить единый стиль, цельный ансамбль всего издания. Каждая статья должна быть компонентом единого целого. Забота о журнальном «духе» диктовала требование жесткой редактуры, которая отнимала много сил у Сенковского. Он был, в силу обстоятельств, совершенным хозяином своего журнала. Его ум, широкое образование и природная властность натуры вели к тому, что он, не только не стеснялся поправлять статьи своих сотрудников, но прямо изменял их по своему произволу. Такому изменению подвергались и учёные статьи, и романы, и повести, в которых Сенковский бесцеремонно менял не только расположение частей, но и самую сущность произведения, так называемую «интригу», «завязку» и «развязку». Конечно, такое отношение к чужому литературному творчеству поселило вражду между сотрудниками (то есть литераторами, которые писали для журнала) и редактором. Поэтому более независимые, при первой же возможности, уходили из «Библиотеки». Сарказм Сенковского находил для себя обильную пищу в неприглядной массе, выходивших тогда, русских книг. Он беспощадно бичевал в своем разделе «Литературная летопись» бездарных писателей и ограниченных квази-учёных. Нередко сарказм редактора доходил до крайности, и он позволял себе печатно просто шутовские выходки. Конечно же, за подписью «Барона Брамбеуса». Впрочем, Пушкин печатался в «Библиотеке для чтения» до 1836 года. Там были напечатаны: «Пиковая дама», «Гусар», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», несколько баллад и элегий, отрывок из «Медного всадника», «Кирджали» и другие. До 1837 года печатался в журнале Одоевский. В 1835 году в журнале появилась поэма Лермонтова «Хаджи-Мурат».
Новым для русского читателя было и то, что «Библиотека» выходила точно в срок: каждое первое число месяца. Точность доходила до анекдотов. Рассыльные, боясь гнева Сенковского, переправлялись через Неву, с риском для жизни, даже во время ледохода.
«Библиотека для чтения» с первой же книжки встала во главе русской журналистики. План её как нельзя лучше соответствовал потребностям русской публицистики, ещё недостаточно подготовленной для специальных журналов и серьезных сочинений, но жаждавших чтения, новостей и легко приобретаемых знаний. Публика требовала чего-нибудь полегче, поинтереснее, позанятнее и терпеть не могла думать и задумываться. У неё была жажда познания в форме элементарного любопытства. Даже статьи по химии, она требовала, чтобы те были повеселее. Редактору предстояла трудная и едва ли особенно благодарная работа – заставить читателя думать, не показывая, однако, вида, что преследуется столь великая цель. Заставить читателя приобретать знания, развлекая его анекдотами и шутками. Целью журнала было знакомство читателя посредством перехода от легкого чтения повестей, стихов, романов к предметам более важным – к европейским литературе и науками. В основу этого были избраны занимательность и доступность. Все важные открытия и новости в области наук и словесности излагались в «Библиотеке для чтения» так, что даже неподготовленный читатель с удовольствием пробегал учёную статью и незаметно для себя приучался к работе мысли.
Сенковский находился на вершине славы. Остроумный Барон Брамбеус смешил Петербург, смешил провинцию. За это его хвалили, ему платили громадные деньги. Он занимал великолепный дом, имел много лакеев, чудных лошадей, давал пышные обеды. С конца 1830-х годов в его доме стали устраиваться музыкально-литературные вечера. Приглашались популярные музыканты. Среди слушателей были братья Брюлловы (Александр Брюллов и Сенковский были женаты на родных сестрах), известный художник Ф. П. Толстой, поэты Н. В. Кукольник и Э. И.Губер, композитор М. П. Глинка. Тщеславный и надменный Сенковский бросал деньги направо и налево. Собирал вокруг себя литературных хамов и без церемоний расправлялся с ними, когда они ему надоедали. Быть может даже в гордости своей он полагал, что его слава вечна. Но жизнь решила иначе.
Более семи лет подряд «Библиотека для чтения» пользовалась громадным успехом. Несомненно, она была самым распространённым и наиболее читаемым журналом России. Особенные симпатии она приобрела среди своих провинциальных подписчиков. Те имели полное право радоваться, что регулярно, в начале каждого месяца, в их руках оказывался толстый, прилично изданный том, наполненный разнообразными и прекрасно написанными статьями. Однако время шло, и русскому обществу суждено было демократизироваться. Его убеждения, его литературные взгляды изменились. Там, где прежде общество искало одного наслаждения и отдыха, где прежде молилось одной красоте, оно стало искать идеи и общественные тенденции. Сенковский ничего этого обществу не давал. А именно интеллигентных требований и интеллигентных запросов. Тем более те требования и те запросы, которые назревали в русском обществе в бурную эпоху 1830-х годов, «Библиотека для чтения» удовлетворить не могла. Когда наступили сороковые, ей пришлось дать место другим изданиям, которые поняли, чего искала и чего хотела лучшая часть русского общества. С этого момента пошла на убыль как громкая слава Сенковского, так и громадная популярность его журнала. Публика пресытилась шутками, остротами, дерзостью Барона Брамбеуса. Ей надоело, что Сенковский пишет ради писания и острит ради остроты. К тому же он, очевидно, устал. Тяжелая карьера журналиста расстроила здоровье, надорвала силы. Он продолжал смеяться, но это уже был старческий, деланный, никому ненужный смех. Началось падение «Барона Брамбеуса».
«Библиотека для чтения» продолжала сдавать позиции. Одновременно ухудшалось и здоровье Сенковского. Ему пришлось изменить образ жизни. В 1846 году он по совету врачей провел четыре месяца за границей. А в 1847 году уезжал на лето в Москву. В 1848 году Сенковский заболел холерой, и эта болезнь окончательно подточила его и так уже расстроенное здоровье. Он почти полностью оставил «Библиотеку для чтения». Редакцию пришлось передать в другие руки. Больной, изможденный Сенковский с этого времени только влачил существование. Страдая от безделья, он придумывал себе разные увлечения: изобретал музыкальные инструменты, занимался фотографией, создавал какую-то особенную мебель. Но это была лишь внешность. Внутри, в душе у него всё больше назревала тяжелая мысль о бессмысленно прожитой жизни, о даром потраченных силах. К началу 1850-х годов роскошная жизнь и неудачные финансовые обороты разорили Сенковского.
Время с конца 1848 года до конца 1851 года было самое тяжёлое и в цензурном отношении. Невозможно было себе представить всех придирок и притеснений, которые выносила тогдашняя журналистика. Было много и смешного. Сенковский перевёл из одного английского журнала небольшой рассказ какого-то путешественника, который, спасаясь от медведя, влез на дерево и вдруг очутился лицом к лицу с большой обезьяной с палкой. Статью эту цензор не пропустил. Осип Иванович сам поехал узнать причину. Оказалось, эта статья была принята за сочинение Барона Брамбеуса. Дерево, путешественник и медведь, по мнению цензора, изображали Австрию, Венгрию и Россию. А большая обезьяна с палкой – такое лицо, которое цензор даже назвать не смел.
В конце жизни ненадолго ещё раз вспыхнул его талант. В журнале «Сын отечества» с 1856 года стали появляться его «Листки Барона Брамбеуса». Весёлые, остроумные, бойкие рассуждения обо всём, но, к сожалению, очень неглубокие. Их писал умирающий. Умирало тело, а дух по-прежнему беспокойно метался.
Болезненное состояние Осипа Ивановича ухудшалось и в 1858 году его не стало.
Сенковский оставил нам богатое литературное наследие – в основном повести бытового, сатирического и восточного характера. Не мог он и не коснуться столь популярной в те годы романтической темы. Но и здесь за ширмой фантастического повествования отчетливо виден улыбающийся и шутящий Сенковский.
«Библиотека для чтения» под редакцией Сенковского имела весьма серьёзное значение, как в истории русской образованности вообще, так и в истории русской журналистике в частности. Во-первых, она соединила в себе всю тогдашнюю русскую литературу, начиная с заслуженных корифеев и кончая начинающими прозаиками и поэтами. Во-вторых, она воспитала потребность в чтении у русской публики, преимущественно провинциальной. В-третьих, она распространяла в обществе массу самых разных сведений по всем отраслям знаний, теоретических и прикладных, популяризируя их в общедоступном, легком и нередко даже в фельетонном изложении. В-четвертых, она впервые поставила литературную критику на подобающую ей высоту. В-пятых, «Библиотека для чтения» в статьях Сенковского много способствовала к дальнейшему, после Карамзина и Пушкина, усовершенствованию нашего литературного языка. Его ученый редактор журнала постоянно стремился приблизить к разговорной, народной речи, изгнав из него архаизмы, обломки церковно-славянской книжности и неологизмы, преимущественно французские. Такое значение «Библиотека для чтения» могла приобрести только благодаря энциклопедически образованному и неутомимому работнику, каким был Сенковский.
Осип Иванович был человеком блестящих задатков, которым не суждено было реализоваться… Способнейший ученый, он так и стал выдающимся исследователем Востока. Одарённый писатель, он оказался интересен, прежде всего своими не свершившимися возможностями и неисполненными «ожиданиями». Замечательный журналист, редактор, он и в журнале своём не сумел реализовать себя.
Н. Г. Чернышевский писал о Сенковском (Бароне Брамбеусе): «Сколько залогов плодотворной деятельности! Учёность, проницательный и живой ум, остроумие, умение верно понять обстоятельства, подчинить их себе, приобресть огромные средства для действия на публику, трудолюбие, сознание собственного достоинства – всё в высокой степени соединялось в этом писателе».
Михаил Вронченко – выдающийся геодезист и географ
Михаил Павлович Вронченко – русский ученый-востоковед, военный геодезист и географ, исследователь Малой Азии. Кадровый разведчик Российской армии. Генерал-майор. Его основная деятельность была связана с работами по геодезической и топографической подготовках театров военных действий. Член-учредитель и активный сотрудник Русского географического общества. Однако получил он известность главным образом благодаря своей литературной деятельности. Вронченко был первым переводчиком на русский язык «Гамлета», «Макбета», переводил произведения Байрона, Гёте, Мицкевича.
В начале марта 1834 года по дороге из Константинополя в Никомидию1 медленно продвигалась небольшая группа людей. Впереди ехали два всадника европейской внешности: один – смуглый мужчина, одетый в русскую военную форму, второй – молодой, хрупкий блондин в гражданском платье. За ними следовали два казака. Замыкали отряд две крытые арбы, запряженные мулами. Погонщики-турки шли пешком и громко переговаривались друг с другом. Всадники ехали молча, с любопытством поглядывая по сторонам. Неподалеку от Никомидии им навстречу попалась странная толпа: около сотни турецких мальчиков, лет от 12 до 17, плохо одетых, бледных и изнуренных. По бокам шло несколько солдат с ружьями, а впереди гордо шагал офицер, в мундире и… босиком. В руках он нес сапоги европейского покроя, вероятно, из-за экономии и чтобы не испачкать их в грязи. Впрочем, в этом отряде все были босы. За первой толпой тянулась другая: около 20 таких же юношей с железными кольцами на шее, скованные цепями по три и четыре. Это были рекруты из внутренних областей Анатолии2. Сковали, очевидно, тех, кто пытался бежать.
Всадники и арбы остановились, пропуская процессию. Один из погонщиков кивнул головой в сторону проходящей молодежи и с улыбкой сказал, обращаясь к всадникам:
– Видите, бейзаде3, каких «победителей» собирает наш падишах? Хорошо, что мы с вами, русскими, сейчас приятели, а то куда бы вам сладить с такими молодцами!
В ответ русский офицер задумчиво проговорил:
– Как я понимаю, в турецкой армии нашему слову «рядовой» соответствует «фети», то есть «победитель». Под Силистрией4 я видел совсем других турецких бойцов – отчаянных и храбрых. То были достойные противники.
Офицером был Михаил Павлович Вронченко, капитан Генерального штаба русской армии по квартирмейстерской части. Согласно подорожной, он являлся секретарем русского генерального консульства в Смирне и следовал из Константинополя к месту своего назначения. Его сопровождал чиновник константинопольской миссии – драгоман (переводчик) Моисеев, и два казака-денщика. В двух арбах помещалось их имущество и оборудование для производства геодезических и топографических работ.
Появление этого маленького русского отряда в Анатолии было вызвано несколькими причинами.
Первая – политическая. В 1831 году египетский паша Мухаммед (Мехмед) Али выступил против своего повелителя, турецкого султана Махмуда Второго, за свою самостоятельность и расширение владений. Его военные действия были настолько успешными, что появилась угроза уничтожения ослабевшей Османской империи. Махмуд Второй, не получив помощи, которую он просил у западноевропейских держав, обратился к России. Прибытие русского десанта на Босфор весной 1833 года укрепило позицию султана и остановило наступление египтян. В мае было достигнуто соглашение между Махмудом Вторым и Мухаммедом Али, а в июле того же года султан подписал со своей союзницей Россией Ункяр-Искелесийкий оборонительный договор на восемь лет. Наступила полоса мира и дружбы между двумя странами. Появились благоприятные условия для изучения турецкого государства изнутри, чем не преминула воспользоваться российское высшее политическое и военное руководство.
Вторая причина – научная. В 30-ые годы 19-го столетия для русской, да и для мировой науки, Ближний Восток был землей малоизвестной. Географические материалы – карты, описания и отрывочные сведения о Малой Азии, которые имелись в распоряжении исследователей – были очень скудны, противоречивы и ненадежны. Возникла необходимость серьезной научно-исследовательской работы в этом регионе.
Третья причина была военно-разведывательная. Российскому Генеральному штабу требовались более точные сведения о географическом положении ряда пунктов, о населении, промышленности, торговле, климате, природных богатствах Османской империи. Очень важны были данные о состоянии дорог, горных перевалов, береговой линии и портов. Изучение территории страны предполагало создание карт различного назначения и военно-географических описаний.
В связи с этими обстоятельствами Российский Генеральный штаб принял решение послать экспедицию для обследования Малой Азии (Анатолии) и проведения там геофизических работ. Возглавить ее должен был человек энергичный, целеустремленный, с широким геополитическим кругозором, знанием восточных языков и нравов местного населения, с высокой профессиональной подготовкой. Кроме математических и военных знаний от него требовались еще проницательность, мужество и благоразумие.
Всеми этими данными обладал капитан Вронченко, шесть лет до этого проводивший военно-топографические съемки в Европейской Турции. На него и было возложено особое поручение по изучению Малой Азии.
Михаил Павлович родился в январе 1802 года. Его отец – священник дворянского происхождения протоиерей Павел Кузьмич Вронченко – служил тогда в городе Копысь Могилевской губернии. Мальчик рос любознательным, нрава веселого.
Начальное образование Михаил, как обычно в таких семьях, было домашнее. Затем его отдали в Могилевскую гимназию, где он получил среднее образование. Там наметились те интересы, которые являлись доминирующими во всей его последующей деятельности. Если в детстве, по его собственному признанию, он был упрям и ленив, то в старших классах уже учился хорошо, проявляя особенную склонность к математике, черчению и рисованию. В это же время у него возникает интерес к литературе, и юноша с увлечением читает Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, пробует свои силы в области стихосложения. Самый ранний из сохранившихся его поэтических опытов – стихотворение на смерть директора Могилевской гимназии Гриневича – обнаруживает приверженность к одической традиции XVIII века, особенно державинской.
Стихотворение написано в 1819 году. И уже в том же году Вронченко поступил в Московский университет. Однако проучился он там меньше года и уже в конце апреля 1820 года перешел в московское училище колонновожатых5, где обучались будущие офицеры Генерального штаба. Вронченко готовился здесь к службе в квартирмейстерской части штаба, выполнявшей астрономо-геодезические и топографические работы. В сохранившихся биографических заметках, составленных, по-видимому, с его же слов, говорится, что он «род службы избрал, как кажется, более по необходимости, чем по внутреннему желанию». Вполне возможно, у родителей на тот момент не было достаточных средств, чтобы обеспечить безбедное учение сына в университете, и это побудило его избрать военную карьеру.
К этому времени определяются литературные вкусы Вронченко. Еще в пору кратковременного пребывания в университете он слушал профессора русской словесности, известного поэта Мерзлякова6. Теоретические построения профессора, его риторика не нравились юному студенту. Но темпераментные лекции, содержавшие разбор лучших произведений мировой литературы, прославлявшие Шиллера, романтически истолкованного Шекспира, способствовали углублению литературных интересов Вронченко.
Начатые в университете литературные занятия он продолжил и в школе колонновожатых. Воспитанники училища живо интересовались политикой, философией, литературой. Особенно ценилась новая романтическая поэзия, произведения которой заучивались наизусть. Ранние романтические веяния коснулись и Михаила Павловича. Он переводит только что вышедшие стихи Ламартина7. Лирический герой стихов мало соответствовал действительному характеру молодого Вронченко, обычно веселого и жизнерадостного. Но таков был романтический штамп, восходящий к Жуковскому, очень упрощенный и схематизированный.
Последующие переводческие искания Вронченко развивались в том же романтическом направлении.
В 1822 году Вронченко окончил училище и получил звание прапорщика по квартирмейстерской части, но оставался при училище до 1823 года в качестве руководителя практиками учащихся. Одновременно он пополнял свои знания. В феврале 1823 года Вронченко был направлен в распоряжение генерал-майора Теннера8, под руководством которого в то время производились триангуляционные9 работы в Виленской губернии. Очень скоро молодой, исполнительный и сообразительный офицер настолько завоевал доверие выдающегося ученого геодезиста Карла Ивановича Теннера, что тот поручил ему уже через четыре месяца совместной работы самостоятельное выполнение ответственного задания: установление тригонометрической связи между Виленской триангуляцией и городом Двинском (Динабургом). Что и было успешно произведено молодым офицером.
В конце 1824 года Вронченко, неудовлетворенный полученным в училище образованием, решил пополнить его по собственному желанию. Он добился командирования в Дерптский университет10 для изучения практической астрономии. Туда с этого года Военное ведомство стало направлять офицеров квартирмейстерской части для дальнейшего совершенствования в избранной специальности.