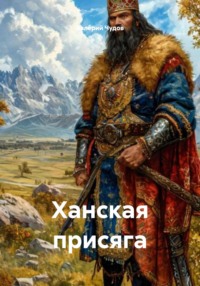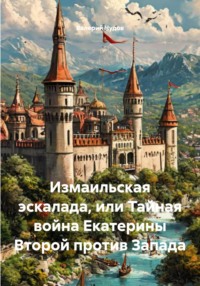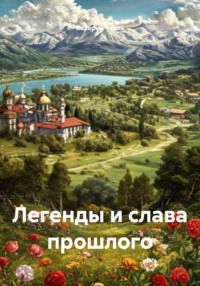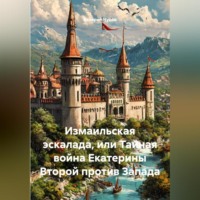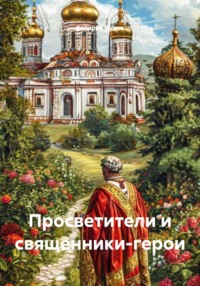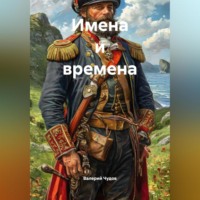Полная версия
Имена и времена

Валерий Чудов
Имена и времена
Осип Сенковский – ученый, писатель, журналист
Осип Иванович Сенковский – российский писатель, блестящий журналист, известный ученый-востоковед и лингвист. Редактор первого русского массового «толстого журнала» «Библиотека для чтения». Основатель прославленной Петербургской школы ориенталистики. Родоначальник русской фантастической прозы. Удивительный и талантливый человек!
Барон Брамбеус – литературный псевдоним писателя и имя героя многочисленных его произведений.
Петербургский книгопродавец и книгоиздатель Смирдин был доволен. Уж полгода, как его книжная лавка переехала из скромного помещения у Синего моста в трёхэтажный флигель на Невском проспекте, который до этого был лютеранской церковью Святого Петра. Тогда он устроил грандиозный обед в честь новоселья. На нём присутствовали все, кем могла тогда похвастаться русская литература. Были Пушкин, Гоголь, Крылов, Жуковский, Вяземский, Греч, Булгарин, Хвостов и другие известные литераторы. После обеда гости решили составить общими трудами альманах для Смирдина и назвать его «Новоселье». Каждый обязался сообщить для журнала статью.
Стук в дверь прервал приятные воспоминания книгоиздателя. Заглянул секретарь:
– Александр Филиппович, к вам господин Сенковский…
– Проси.
В кабинет вошел молодой, начинающий полнеть мужчина, среднего роста, с гордой посадкой головы. Большие карие глаза и пухлые губы выделялись на красивом, с правильными чертами лице. Смирдин встал, обменялся с гостем рукопожатиями через стол и указал на кресло напротив:
– Прошу, Осип Иванович, присаживайтесь.
Оба хорошо знали друг друга. Встречались и по делам и на светских приемах. Сенковский был известным ученым-востоковедом, профессором, членом-корреспондентом Академии наук, преподавал в Санкт-Петербургском университете восточную и турецкую словесность. Занимал должность цензора в петербургском цензурном кабинете. Смирдин знал и о первом опыте Сенковского в русской литературе – цикле «Восточные повести», которые, в сущности, были наполовину переводами с восточных языков. Они печатались в «Полярной звезде», «Северных цветах» и «Альбоме северных муз». Этот цикл был прекрасным сплавом литературы и востоковедения, созданный зрелым мастером-филологом. Одна из этих повестей – «Витязь буланого коня» – даже получила высокую оценку Пушкина: «Арабская сказка прелесть…» Два года тому назад Смирдин купил у Сенковского перевод книги Морриера «Хаджи-бабá в Лондоне», а в прошлом году еще и «Похождения Хаджи-бабá в Персии и Турции». Обе книги он издал и тогда же посоветовал: «Оставьте ваши переводы, Осип Иванович! Как бы хороши они ни были, вы все-таки должны заниматься другим. Сочиняйте сами!»
– Прекрасное у вас новое помещение, Александр Филиппович, – похвалил Сенковский, усаживаясь в кресло.
– Что же вы, Осип Иванович, не посетили мой обед по случаю переезда на новое место? – поинтересовался Смирдин, тоже устраиваясь за своим столом. – Я ведь вам пригласительный послал.
– Вы уж извините меня, Александр Филиппович, приболел я тогда, некстати.
– А жаль. Были известные личности. Обещали «Альманах» составить из своих произведений. И вот уже почти все прислали свои статьи. Да и вы обещали несколько своих сочинений.
Хозяин кабинета понимал, что причиной отсутствия Сенковского на обеде было вызвано отнюдь не его болезнью, а разногласиями, царившими в литературном мире. В нем почти каждый считал себя величиной и знаменитостью, а других не любил и даже ненавидел. Очевидно, самолюбивый Сенковский к некоторым из них также не испытывал дружеских чувств.
Смирдин вздохнул. Он был человеком честным и бескорыстно преданным книжному делу. Но в то же время, как купец (сын московского торговца полотном), вследствие своего купеческого разумения, не понимал всех противоречий между литераторами. Поэтому его заветной мечтой была мысль об объединении всех крупных писателей под его книгоиздательской эгидой. Устраивая обед в честь новоселья, он надеялся, что положит начало к всеобщему примирению. Таким актом примирения должен был стать альманах «Новоселье».
– Я по этому поводу и пришёл к вам, Александр Филиппович, – заявил Сенковский. – Принес пару своих опусов для «Новоселья».
– Очень хорошо, – обрадовался Смирдин, – рад и премного благодарен.
– Но у меня еще одно дело к вам есть.
– Ну что ж, готов выслушать вас.
Сенковский встал и прошёлся по кабинету. Движения его были энергичными и порывистыми. Вдруг он остановился и посмотрел на Смирдина:
– Простите, Александр Филиппович, это у меня привычка такая профессорская – походить перед тем, как начать излагать свои мысли.
– Ничего, Осип Иванович, говорите.
– Мне нужна ваша помощь. Я хочу издавать журнал. Ежемесячный. Толстый. Чтобы он был интересен для всех слоев общества.
Книгоиздатель удивился. Такого он не ожидал.
– А кто будет редактором?
– Я.
– Тогда изложите ваше видение журнала.
– Это будет журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод. Думаю назвать его «Библиотека для чтения». В нем будут семь разделов: русская словесность, иностранная словесность, науки и художества, промышленность и сельское хозяйство, критика, литературная летопись и, наконец, смесь. Всё, чем интересуются люди. Он будет выходить каждый месяц к первому числу. В каждой книжке 25-30 печатных листов. Две книжки образуют том. Чтобы журнал читали и в провинциях, его надо пустить по подписке.
– Ну, с русской словесностью – ясно, а кто будет вести иностранную?
– Я сам буду делать переводы.
– Сколько же вы языков знаете, Осип Иванович?
– Я свободно пишу и разговариваю на пяти языках, – улыбнулся гость. – К ним ещё знаю с десяток.
– Удивительно! – покачал головой книгоиздатель. – И какой же вы планируете тираж?
– Три, а, может, и пять тысяч экземпляров.
– Ого! – воскликнул Смирдин. – Это размах.
– Если журнал будет интересен, то так оно и будет!
– Хорошо. Я – не против, Осип Иванович. Но вернемся к этому разговору в следующем году. А сейчас главное – выпустить альманах. И вас я попрошу написать к нему предисловие.
В тот день, придя домой, Сенковский сказал жене: «Кажется, я его уговорил».
А Смирдин после ухода гостя долго сидел, размышляя о сделанном предложении. Оно было заманчивым. Российская журналистика была в упадке. Журналы хирели и закрывались. Открывать новый журнал было бы риском. Для того чтобы предпринять крупное издание в 1833 году, нужно было обладать не только смелостью изобретателя и прожектёра, но и проницательностью Сенковского. «Но в то же время, – думал Смирдин, – если журнал будет энциклопедическим, интересным для всех слоев общества, от мала до велика, это будет прорыв». И он не ошибся.
Осип Сенковский родился 19 марта 1800 года в поместье Антоколон (в пятидесяти верстах от Вильны), которое принадлежало его матери, урожденной белоруской (в девичестве Буйкова).
Школьные годы Сенковского прошли как нельзя более удачно. Быстрые способности при необыкновенной памяти, облегчили первоначальное домашнее воспитание мальчика. Происходило оно под надзором образованной матери, которая до конца своей жизни (в сороковых годах) с восторгом следила за блистательными учеными и литературными успехами своего излюбленного сына. К тому же, его учебой дома (в имении матери, в Виленской губернии) руководил родственник по материнской линии – профессор Гроддек.
Подросток рано познакомился с классическими языками и в четырнадцать лет поступил в Минский коллегиум, основанный и управляемый знающими педагогами-монахами на прочной и разумной классической основе. Но там он оставался недолго. Гроддек, говорил, что в коллегиуме ему нечего делать, и посоветовал матери поскорее отпустить сына в Вильно, в университет, где сам читал греческую и латинскую словесность.
«Мой наставник в греческой литературе, Гроддек, – писал Сенковский тридцать лет спустя – был один из ученейших немцев, мастер на сводки, на разночтения, известный в греко-латинском мире комментатор и издатель нескольких трагедий Софокла и Еврипида. Эрудиция его казалась нам еще громаднее его горба. Несмотря на изысканный педантизм, чтения его приносили нам большую пользу, осваивая с текстами классических поэтов. Первою нашей любовью был Гомер. Мы обожали этого слепого нищего старика, мы проводили целые ночи в обществе несравненного ионийского бродяги, слушая его бойкие живописные рассказы. С восторгом, но без восторженности, без ученых преданий, без теорий, беседовали мы с ним об этом странном мире, из которого прикочевал он петь нам свои уличные рапсодии. Счастливые времена, счастливые нравы, сладкие воспоминания!»
Здесь же, в Виленском университете, благодаря лекциям Лелевеля и наставлениям того же Гроддека, Сенковский заинтересовался Востоком. «Гроддек, – вспоминал Сенковский, – заохочивал нас к изучению Востока, его нравов, понятий, литератур и говорил: «Через него вы яснее поймете Древнюю Грецию. Востоком объясняется Греция, Грецией – Восток; они родились, выросли и умерли вместе. Ройтесь во всех развалинах, сравнивайте все, что ни найдете здесь и там; тут есть сокровища, еще не ведомые нынешнему разуму». Сенковский, не откладывая дела в долгий ящик, принялся самоучкою за изучение арабского, еврейского и других восточных языков.
В юноше рано проявились две особенности его дарования – стремление к энциклопедичности и юмор. Он увлекся Востоком, но это нисколько не помешало ему заниматься медициной, естественными науками, литературой и историей. Как юморист он был самым деятельным членом «Товарищества шалунов», в котором председательствовал профессор Виленского университета филолог Снедецкий. Весёлое товарищество издавало в конце 1816 года юмористический листок, имевший огромный успех у публики. Сенковский принимал участие в выпуске этого журнала в качестве одного из остроумнейших сотрудников. Желая показать, что шутка не мешает делу, он перевел с арабского языка на польский басни Лукиана. Затем издал их в 1818 году с введением и посвящением: «Товариществу шалунов» от «непременного его члена». Это были первые шаги юноши на поприще литературы. Через несколько месяцев после этого, в 1819 году, он окончил университетский курс. Профессора возлагали на него большие надежды, но Сенковский бредил только Востоком. Он задумал отправиться туда путешествовать, и даже недостаток денег не останавливал его. Деньги, впрочем, нашлись. Мать собрала для этого последние крохи. Ещё некоторая сумма, хотя и неполная, была предложена виленскими литературными и учеными обществами в счет гонорара за статьи, которые юный ученый по собственному желанию обещал высылать во время своего путешествия. Кроме того, накануне отъезда Сенковский женился на одной виленской красавице. Именно она вместе с рукой и сердцем добавила ему недостающую для поездки сумму.
1 сентября 1819 года путешественник выехал из Вильны и к декабрю прибыл в Константинополь. Там он явился в российскую миссию, чтобы отметиться. Русским посланником при Оттоманской Порте был тогда опытный дипломат барон Григорий Александрович Строганов, умный и просвещенный вельможа. Ему сразу понравился бойкий, остроумный и ученый молодой путешественник. Он тотчас оценил всю пользу, какую Сенковский может принести как дипломат здесь на Востоке. Поэтому, выслушав юношу, он предложил:
– Не желаете ли, Осип Иванович, поступить на службу в нашей миссии, под мое начальство?
Предложение было неожиданным, и Сенковский замешкался. Видя его смущение Строганов, продолжил:
– Подумайте, я вас не тороплю. При этом вам предоставляется полная свобода в предпринятом путешествии, которое можете считать приготовлением к этой службе.
Сенковский не мог не принять столь лестного предложения, тем более что частной его дорожной суммы недоставало бы на дальнейшее путешествие. Барон Строганов сделал тогда же представление государственному канцлеру графу Румянцеву, и Сенковский был причислен к константинопольской миссии с 1820 года. Сверх того, по положению Комитета Министров, ему было выделено «за успехи в науках» шестьсот рублей серебром из сумм виленского университета, от которого он ничего не получил при отправлении в путешествие.
Таким образом, служебное поприще молодого востоковеда казалось обеспеченным по дипломатической части.
Пробыв недолго в Константинополе, Сенковский отправился на берега Малой Азии, а затем в Сирию, где предполагал остаться на более продолжительное время, для усовершенствования себя в арабском языке. Там он учился у востоковеда Антона Арыды, профессора восточных языков в Вене, автора нескольких сочинений об арабском языке, основавшего семинарию для изучения восточных языков.
С жадностью и настойчивостью Осип Иванович принялся изучать арабский язык, арабские рукописи, географию, этнографию и древности Сирии, а затем бродить с места на место с книгами за плечами и с твердой уверенностью в том, что нельзя понять жизни Востока, не научившись предварительно думать на тех языках, которыми говорит Восток. В своем рвении к науке его не останавливали ни тяжелые условия жизни, ни скудость пищи, ни климат, непривычный северному человеку.
В Сирии Сенковский прожил около семи месяцев и в ноябре 1820 года был уже в Александрии. Здесь и в Каире он пробыл около трех месяцев, изучая местное наречие. А в феврале 1821 года молодой дипломат отправился вверх по Нилу, посетил пирамиды и исторические развалины древнего Египта и проник в Нубию и Верхнюю Эфиопию до Дар-Махана, крайнего предела его странствований в Африке. В чалме и восточной одежде, изъясняясь по-арабски на чистом сирийском диалекте, хаваджа (господин) Юсуф – так называли Сенковского на Востоке – мог безопасно делать наблюдения нравов и быта жителей Нильской долины.
В это время разгоралась греческая революция. Россия готовилась к разрыву с Оттоманской ІІортой. Русским подданным, как единоверцам с греками, было опасно находится в ее владениях.
Сенковскому надобно было спешить возвращением в Европу. Незадолго перед тем, его занимала мысль перевезти в Россию знаменитый дендерский зодиак, древнее астрономическое изваяние на камне, вделанное в потолок дендерскаго храма. С помощью своего служителя Сенковский вырубил камень из потолка и загрузил его на барку, чтобы вести в Александрию и оттуда в Россию. Вести о греческом восстании и разрыве с Портой принудили его оставить это предприятие.
В июле 1821 года русский посланник барон Строганов покинул турецкую столицу вместе со всей российской миссией в Константинополе в знак протеста против наложения Турцией эмбарго на товары, провозимые кораблями под российским флагом, и запрета греческого судоходства в проливах.
Двадцать второго июля 1821 года Сенковский покинул Египет и из Александрии отправился на австрийском купеческом судне в Европу. В Архипелаге корабль не раз встречался с греческими пиратами, но благополучно миновал опасности и прибыл в Константинополь. Оттуда Сенковский, наконец, добрался до Одессы.
Путешествие Сенковского продолжалось немногим более двух лет, считая со дня его отъезда из Вильно. За короткое время молодой ученый усовершенствовал себя в турецком и арабском языках. Выучился персидскому, новогреческому и итальянскому языкам. Всесторонне изучил страны, где побывал. Он постигал мусульманский Восток в его рукописях и живом быте. Усваивал его религию, законы, литературу, предания, суеверия, нравы и обычаи. Он приобрёл всё, что только можно приобрести из знаний на Востоке, чтобы стать первостепенным ориенталистом (востоковедом). Сенковский вернулся с богатым запасом сведений по восточной лингвистике. Вывез массу ценных наблюдений и немало любопытных памятников старины, в том числе, старинные арабские рукописи.
Из Одессы Сенковский отправился в Вильну, чтобы проведать мать и жену. Пробыл он там недолго, после чего выехал в Петербург. Все-таки он принадлежал дипломатическому корпусу, и ему надо было отчитаться за свое путешествие. Наука, история, политика, география, торговля и промышленность мусульманского Востока были изучены Сенковским так, как если бы он был дипломатическим представителем России, отправившимся в путешествие со специальными политическими задачами. Эти знания не могли оставаться без применения в России двадцатых годов, для которой восточный вопрос был генеральным вопросом всей внешней политики. Вот почему выбор между Варшавой и Вильно был сделан Сенковским в пользу Петербурга.
Тотчас же по прибытии в столицу России он был принят государственным канцлером графом Румянцевым, получил двести червонцев за «успешное приготовление себя к службе» и был зачислен на службу переводчиком Коллегии иностранных дел с жалованием 2500 рублей ассигнациями.
Более того, в июле 1822 года он был назначен ординарным профессором Санкт-Петербургского университета, получив сразу две кафедры – арабского и турецкого языка, сохранив за собой жалованье, которое получал по константинопольской миссии из министерства иностранных дел.
Сенковский не сразу был назначен на эти кафедры. Во-первых, ему было еще только 22 года, для ординарного профессора он был слишком молод. Во-вторых, он знал так много языков, что, казалось, не знает ни одного. Оба препятствия были устранены: в послужном списке Сенковскому прибавили два года; знаменитый ориенталист, член Академии наук Френ выдал ему аттестат, в котором писал, что «г. Сенковский совершенно способен занять с честью и пользою кафедру арабского языка и столько же может быть полезен и на поприще дипломатическом». Он прибавлял также, что в отношении разговорного арабского языка Сенковский так силен, что он, Френ, не смеет и меряться с ним, «изучав этот язык только по книгам, рукописям и памятникам».
Но у Сенковского было в руках еще одно преимущество, которое делало его единственным кандидатом на вакантные кафедры: он был уже тогда лучшим специалистом по турецкому языку, знание которого было в двадцатых годах высококачественным дипломатическим товаром.
Следующее за этим годом десятилетие было посвящено Сенковским главным образом научным трудам. Его переводы, лингвистические и грамматические исследования высоко ценились современниками.
Краковский университет поднес ему диплом на звание доктора, он был избран членом Общества любителей наук в Варшаве, членом Азиатского общества в Лондоне и членом-корреспондентом Русской Академии наук.
Словом, ученая карьера удалась. В конце двадцатых годов он был знаменитым ученым.
Среди преподавателей-ориенталистов Сенковский былл звездой первой величины. Он не только с увлекательностью и основательностью объяснял свой предмет, но и побуждал слушателей к учёным занятиям, развивал в них жажду знаний. Его лекции не ограничивались языком и литературой, а были живою энциклопедией науки о Востоке. Профессор объяснял понятия и идеи слов, вводил слушателей в местный быт, знакомил их с историей и топографией. Нередко он выходил за пределы Востока, чтобы показать параллельные явления в Греции, Риме или Европе, разбирал критические европейские сочинения о Востоке, указывал путь к самостоятельным исследованиям.
Как преподаватель восточных языков и словесности, Сенковский основательно и глубоко знакомил слушателей со своим предметом, создавая, таким образом, плеяду достойных последователей. Фактически, Сенковский стал основателем прославленной впоследствии школы русской ориенталистики. Многие из его учеников внесли крупный вклад в развитие русского востоковедения. В этом его заслуга перед Россией. Другая заслуга Сенковского, как русского профессора, состояла в значительном влиянии на слушателей в отношении умственного развития и пробуждения любви к науке вообще. А в этом они очень нуждались. Большая часть профессоров того времени придерживалась нетворческих, схоластических методов. Они состояли в том, чтобы студенты заучивали наизусть пройденные им лекции и дальше их ничего не знали. Сенковский же требовал от слушателей знания отчётливого, живого и основанного на источниках, а не на авторитетах, которых он никогда не признавал.
Еще в 1822 году молодой, талантливый профессор сошёлся с тогдашними петербургскими литераторами Булгариным, Гречем, Бестужевым-Марлинским и участвовал в выпусках ряда журналов. Но быть блестящим профессором и сотрудником журнала было мало для деятельной натуры. Сенковский по характеру был не только кабинетным ученым. Его влекло в публицистику, в литературу.
Первым его опытом в русской литературе стал цикл «Восточных повестей», которые наполовину были переводами с восточных языков. В «Полярной звезде на 1823 год» была опубликована повесть «Бедуин», в следующем выпуске альманаха – «Витязь буланого коня». В «Полярной звезде на 1825 год» появились сразу три повести: «Деревянная красавица», «Истинное великодушие» и «Урок неблагодарным». Позже в «Северных цветах» были напечатаны повести «Бедуинка» и «Вор», в «Альбоме северных муз» – «Смерть Шанфария».
В 1827 году в газете «Северная пчела» опубликовал первый его опыт в пародийно-сатирическом наукообразном жанре. В 1828 году научный памфлет вышел отдельным изданием на французском языке под названием: «Письмо Тутунджи-оглы-Мустафа-аги, истинного турецкого философа, г-ну Фаддею Булгарину, редактору «Северной пчелы»; переведено с русского и опубликовано с учёным комментарием Кутлук-Фулада, бывшего посла при дворах бухарском и хивинском, а ныне торговца сушёным урюком в Самарканде».
К началу тридцатых годов, когда становится совершенно ясным, что служебная карьера кончена, Сенковский совершенно охладевает и к университету, и к своему положению в нем.
В 1828 году он назначается цензором в петербургский цензурный кабинет. В том же году развёлся со своей первой женой. А в следующем – вступил в брак с дочерью бывшего придворного банкира Раля, Аделаидой Александровной, весьма образованной и милой дамой, которая всегда восторженно смотрела на мужа.
Должность цензора, которую он занимал до апреля 1833 года, имела немалое влияние на его литературную судьбу. Поставленный в обязанность следить за русской литературой, он сближался с ней, узнавал ее лучше и кончил тем, что сам принял деятельное в ней участие. Уже в это время родилась в нем мысль сделаться русским журналистом.
К этому времени Сенковский начинает тяготиться своими профессорскими обязанностями как докучливым делом, отвлекающим его от журналистики, которая с 1832 года занимает все его внимание и время. Еще в 1829 году он предполагал издавать в Петербурге «Всеобщую газету», политическую, торговую, ученую и литературную (3 раза в неделю) на акционерных началах. Однако проекту Сенковского не суждено было осуществиться. Но он не сдавался и в 1832 году обратился к книгоиздателю Смирдину с предложением создать журнал «Библиотека для чтения».
Начало 1833 года было тяжёлым для Сенковского: скоропостижно скончалась от болезни сестра жены, умер его тесть, сам он опасно заболел. Когда он уже начал выздоравливать, к нему зашёл Смирдин. Принёс первый номер альманаха «Новоселье» и обрадовал больного:
– Я согласен на издание вашего журнала. Выздоравливайте и начинайте готовить материал, а я займусь официальными бумагами.
Альманах «Новоселье» сразу же привлёк внимание публики. В нем были напечатаны «Сказка о царе Берендее» Жуковского, «Домик в Коломне» Пушкина, новые басни Крылова, стихотворения Баратынского, Гнедича, Вяземского… Предисловие написано Сенковским. Среди этих знаменитостей блеснуло имя одного писателя, которое само по себе ничего не говорило читателю. Очень странное имя – Барон Брамбеус. В альманахе этим именем были подписаны два нашумевших произведения – наполовину повести, наполовину фельетоны: «Большой выход Сатаны» и «Незнакомка». За фантастическими, невероятными ситуациями этих повестей угадывался автор, склонный к насмешке, к злой и иронической шутке, скептически относящийся к авторитетам. И в то же время это был писатель весьма начитанный, образованный, понимающий вкусы и интересы читателей, тонко чувствующий литературную ситуацию времени.
В этом же 1833 году вышли «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса» – веселое, остросюжетное повествование о невероятных похождениях неунывающего барона (в чём-то похожего на барона Мюнхаузена). В книге были и серьёзная научная полемика, и литературная пародия, и пессимистическая насмешка над бессмысленностью человеческого бытия. Для публики и литераторов 30-х годов 19-го столетия это экзотическое имя сразу же стало одним из популярнейших. Известность его достигла небывалых размеров. Сам Сенковский, таким образом, стал основателем русской научно-фантастической прозы.
Барон Брамбеус начинал свой взлет, а вместе с ним и писатель Осип Сенковский, который никогда не отделял себя от своего литературного героя и не расставался с ним до конца жизни. Этим же псевдонимом писатель и журналист подписывает впоследствии большинство своих многочисленных произведений и статей.