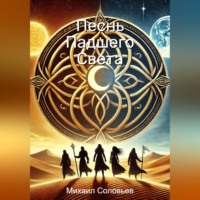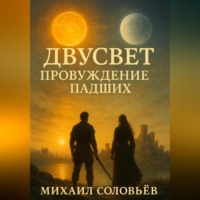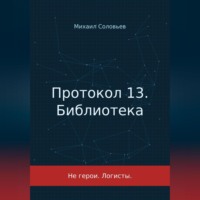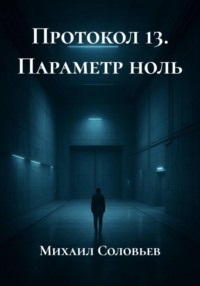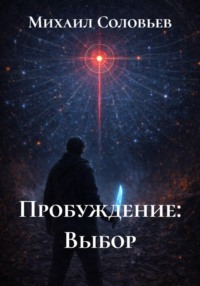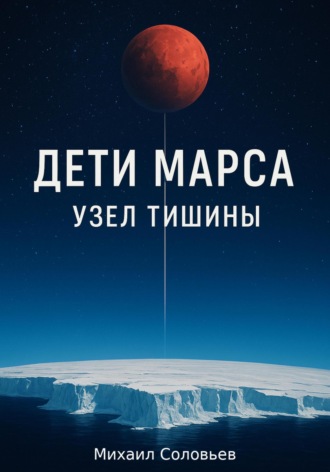
Полная версия
Дети Марса. Узел тишины. Книга 1
– Сегодня не делаем ничего сложного, – сказала Данна. – Мы проверим «нулевую», «перила» и «связку». Если «угол» останется прежним, перевесим одну «вешку» – не для шага, для рук.
Мирр развернула детский лист. Там было написано мелко и дышало важностью: «Сначала вода». «Если страшно – сказать раньше». «Обнять можно». Учительница провела пальцем по словам, как по узлам, и сказала: «Готовы».
Первое «белое» окно отыграло уверенно. «Черты» – нет. Перила – на месте. «Пальцевые» – в шахматном. «Кисти» – по ладони. Пьезо – базовая. Возврат – по «две секунды». На верхней перекладине инеем ничего не проступило. Лайа написала «без отличий», поставила точку, похожую на шляпку винта, и мы пошли к «сухому».
Там ветер положил «дужку» – как положено. Блик – один, угол – 52±1. Песок не пытался собраться в «квадрат». В капсулу лёг прозрачный «игла», магнит прошёл мимо. Журнал: «чисто». Мы любим такие окна, потому что после них можно позволить себе добавить к листву ещё одну честную строчку.
Ко второму «белому» окну мы занялись «связкой». Это две тонкие «вешки», между ними – язык для рук. Они нужны не для «вперёд», а чтобы пальцам было куда возвращаться взглядом. Тал на «музыкальной ленте» провёл ещё одну «полку» в паузе – короткую, как вдох. «Тот самый» принёс мятую бумажку: «С‑1 – чист; С‑2 – держит; „улыбка“ – холодная; колокола – чисты». Данна поверх написала «видела».
– Поставим первую «вешку» на «полтора», – сказала она. – Вторую оставим на «два с половиной». Мы не зовём «когда», мы показываем «где».
Перекладина «дома» в этот час осталась немой – ни «косой», ни «двойной». Колокольчик – молчал. Пьезо – ровно. Возврат – как в тетради. На «сухом» песок попытался, пожалуй, из вежливости, собрать «спираль». Мы ответили «улыбкой» на пол-четверти тише. Спираль передумала. Журнал: «спираль – сорвана».
Днём город занимался тем, что мосты любят сильнее всего: мелочами. У библиотеки лист «после» пополнился ещё одной строкой: «говорить „спасибо“ – можно, но тихо». Мирр провела по ней квадратную рамку. Учительница закрепила на стойке у «дома» маленькую горизонтальную метку: «глазами отдыхать – здесь». Детям нравятся такие метки. Взрослым – тоже.
Старики у лестницы сидели «тишина – по двое». Анкас принёс им тонкую подушку на табурет и сказал своё «завтра позже». «Тот самый» сменил тряпку на колоколе и прислушался к проводке – шум был «как дождь». Это у нас лучшая оценка дня.
Третье «белое» окно принесло тонкую «косую» на толщину инея выше привычной «черты». «Пчела» отметила фазу. Колокольчик молчал. Перила не звали. Возврат – ровно. Лайа записала «косая +1/2 – без выводов». Больше в этом окне сказать было нечего, и это было хорошо.
На «сухом» в это время прошёл «двойной блик» с задержкой меньше секунды. Песок нарисовал короткое «схождение» и сам себя стер. В капсулу вернулся плотный «кирпичик» слежавшейся пыли, которая под иглой ломалась чисто. Нер произнёс «ноль» в том тоне, которым у нас говорят поздравления.
Синхрон с «Элладой» пришёл как привычное «рядом». «Их» «метка-3» в паузе держалась на +1/4 и отпускала ровно в наш «обратно». Тал на своей ленте заштриховал плитку пауз гуще – на пол-клетки. Мы не ставили восклицательных знаков. Мы ставили перила.
– «Нулевая линия» – подтверждена, – сказала Данна на вечернем Совете. – «Перила» – держат. «Сухой» – пишет, не зовёт. «Вода» – ноль. «Угол» – прежний. «Связка» – стоит.
Анкас кивнул, как кивают люди, которые всю жизнь строили мосты так, чтобы о них потом не писали. И спросил, как всегда: «кому тяжело?» Мирр назвала двух. Он переставил смены. Совет закончился.
Ночью «пчела» «там» пропела лестницу на «обратном». На перекладине инеем коротко проступила «нитка» – как волос – и исчезла. «Колокол» не сказал ничего. В лаборатории ультрафиолет показал тот же «хвост +1/2» на стекле. Магнит собрал крошки чёрного в северный угол – где у лотка будто бы есть свой полюс. Слюда под иглой распалась на тонкие листы; каждый лист тихо шевелился в своём ритме. Лайа написала: «новостей нет – хорошо». Это у нас лучший заголовок для отчёта.
Утро следующего дня началось с честного «почти». На доске внизу, под привычными строками, появилась новая: «семейный – отдельно – позже». Это значило: кто-то из маленьких вчера устал сильнее. Мы не спрашиваем публично «кто» – у нас для этого есть глаза и уши. Мирр поставила галочку напротив «тихий разговор – был». Учительница сложила ладони на уровне груди – у нас так обозначают «спасибо» без слов.
Первое «белое» окно – ровно. «Черты» – нет. Перила – держат. Колокольчик – молчит. Пьезо – базовая. Возврат – по «две секунды». На перекладине – пусто. Лайа записала «без отличий». Мы выдохнули тихо – у нас для этого тоже есть маршрут.
Во втором «белом» окне «сухой» чуть заметно поменял настроение: ветер захотел сыграть «квадрат», но не нашёл союзников. «Нити» держали, «улыбка» была короткой, «кисти» – на месте. Песок выдохнул и лёг обратно «дужкой». Магнит в капсуле поймал игривую крошку чёрного и удержал её на краю, словно припомнил ей старые трюки. Нер записал «попытка „квадрата“ – сорвана». Язык не терпит сюрпризов в неподходящий момент.
Днём мы вернулись к «нулевой линии». Это было глупо красиво: полоса мелованной крошки, едва заметной на доске у «дома», и точно такая же, только настоящая, – на плитке «пятачка». Дети подошли и сказали «здесь» по очереди. Мы слушали и думали про старую Аркадию, где «здесь» часто означало «внизу». Теперь «здесь» было на поверхности – и это было правильно.
Учительница вынула из сумки тонкий букварь, который мы писали для них все вместе: там буквы были не «А-Б-В», а «пчела», «перила», «порог», «пауза», «пусто». Напротив каждой буквы – маленький рисунок: линия, дуга, две точки, улыбка, точка. Дети улыбались, листая его пальцами. Мы взрослые тоже улыбались – незаметно, как положено у перил.
Вечером на перекладине легла «черта» на шестьдесятой. «Пчела» отметила фазу; колокол молчал. Возврат – ровно. На «сухом» финальное окно подарило «ничего». В капсуле – пусто. Лайа поставила в журнале длинное «-» – знак «как вчера». Анкас произнёс «хорошо». Это означает у нас «держит».
Иногда кажется, что мы повторяем одно и то же. На самом деле мы воспитываем привычку. Привычку возвращаться. Нулевая линия – это место, где ей легче всего родиться.
– Когда-нибудь, – сказала вечером Учительница, глядя на пустую доску, – кто-то перепутает нуль с чем-то большим. Мы должны сделать так, чтобы ему не захотелось. – Сделаем, – ответил Арен. И поставил точку – маленькую, упрямую.
Ночью мне снилось, как «пчела» и «колокол» меняются местами. Колокол поёт лестницу, а «пчела» молчит. Я проснулся от тишины – хорошей, подтверждающей. Открыл блокнот и написал: «нулевая – держится». Иногда это всё, что нужно для моста.
Утром доска встретила нас как старого друга. И мы снова пошли к «дому» – не за чудесами. За «ровно».
На третий день «нулевой линии» мы решили сделать то, что всегда откладывали: пересчитать «пальцевые» швы как музыку. Тал поставил на ленте метки не по слуху, по узлам. Оказалось, что наши «раз-и-два-и» совпадают с расстояниями точнее, чем мы думали. Учительница сказала: «У детей есть имя для этого – „пальцы знают“.» Мы записали: «пальцы знают», – в большой тетради города, туда, где обычно лежат «вода – ноль» и «перила – держать».
Во втором «белом» окне ветер опять попытался сыграть «квадрат». Данна опустила «улыбку» на четверть, Мирр подвела «кисть» «на пол-ногтя», «нити» держали «в ладонь». Песок уступил. Колокол молчал. Пьезо – базовая. Возврат – ровно. В капсулу лёг плотный «кирпичик». Журнал: «попытка „квадрата“ – сорвана (быстро)». Такие строки помогают спать.
Днём «Эллада» прислала, кроме привычного «рядом», снимок: у них на перекладине «дома» инеем коротко проступила «двойная». «Пчела» отметила фазу в ноль. Мы показали снимок детям. Они спросили: «Это как у нас?» – Это как у нас, – ответила Учительница. – Только берег другой. Дети поставили по маленькой точке на бумаге рядом с фото. Так у нас рисуют «держит».
Старики у лестницы рассказывали истории про Аркадию. Один сказал: «У нас раньше тоже была „нулевая“, только мы её не называли. Мы думали, что знание по умолчанию держится само. Оно не держится. Его тоже надо перилами обвивать». Мы записали эту фразу на лист «после», внизу, мелко. Не чтобы все видели, чтобы не забыть.
К вечеру у «дома» случилось «совпало». На шестьдесятой легла «черта». В момент «обратно» на табличке «мы вернёмся» инеем прошёл тонкий штрих. Колокол – молчал. Перила – держали. Возврат – по «две секунды». Лайа написала: «совпало – без выводов». Это у нас означает «радоваться разрешено, но тихо».
На «сухом» финальное окно ухватило «двойной блик» и отпустило. Песок разровнялся. В капсулу – пусто. Самая дорогая строка дня была короткой: «ничего – подтверждено».
Ночью я проснулся от того, что вспомнил Аркадию не как место, как звук. Это был шум, который «тот самый» называл «как дождь по тенту». Я встал, пошёл к щиту и тоже послушал. Шум был таким, как должен быть. Я записал в блокноте: «нулевая – не переехала». Такие записи важнее сна, но короче. Поэтому я снова лёг и уснул, как взрослый, который знает, что «обратно» рядом.
Четвёртый день «нулевой» принёс маленькое «почти». На перекладине во втором «белом» окне мелькнула «косая» к «притвору». На «сухом» ветер попробовал «схождение». Мирр первой заметила, что у второй «нити» «пальцевой» шов сел близко к узлу. Опустила «в ладонь». Косины не случилось. Мы записали: «исправлено (Мирр)». В городе ценят такие строки больше всяких «сделал герой».
Анкас вечером сказал: «Нулевая – стоит. Мы называем – значит, держит». Это фраза теперь висит у библиотеки на отдельной бумаге без рамки. Некоторые вещи лучше держатся без рамок.
Под конец недели мы позволили себе маленький праздник – пирог на «после». Не потому, что «успех», а потому что неделя «ничего». В списке галочек появилась новая – «поели – да». Дети смеялись правильно – тихо. Старики пили воду. Учительница рассказывала историю про букварь, где первая буква «здесь». Мы слушали. И в этом слушании наш мост снова становился толще на одну точку.
В последнюю ночь цикла «нулевой» я задержался у «дома». Луна стояла так, что иней на перекладине светился изнутри. «Тот самый» сидел чуть поодаль и читал список запасов – не потому, что их мало, а потому что список – тоже перила. – Ты веришь, что «нулевая» может переехать? – спросил я, вспоминая вопрос девочки. – Если мы будем лениться – может, – сказал он. – Перила не держатся сами. Их держат руки. – А если мы не будем? – Тогда «здесь» останется «здесь». Слова любят, когда их на месте произносят.
Мы посидели молча ещё минуту. Потом я встал, подошёл к табличке и дотронулся до неё пальцами – как делают дети. Холод был правильный – не обжигающий, а напоминательный. Я сказал «здесь» и услышал, как рядом кто-то тоже сказал «здесь». Это «кто-то» оказалось тенью от моей руки. Но смысл – не изменился.
Утром я записал в блокноте: «нулевая – держится – да». На языке нашего города это означает: мост сделал ещё один незаметный шаг, который никто не называет шагом.
Перед тем, как поставить новую дату на доске, Учительница тихо сказала: – Спасибо, «нулевая». Дети переглянулись и тоже прошептали «спасибо». Мы улыбнулись глазами. В списке «после» кто-то нарисовал маленький треугольник – как под камнями. И рядом поставил точку. Мы ничего не стерли.
Арен провёл пальцем по строкам и вслух перечитал завтрашнее. Слово «ровно» прозвучало, как крышка, которая закрывает коробку с важными вещами, – не плотно, но точно. Мы пошли работать. И в этом «пошли» было всё, ради чего мы держим нулевую линию: не героизм. Возвращение.
Глава 3. Крах системы
День начался тревожно. Северный купол выстоял, но повреждения оказались серьёзными. По улицам ходили слухи, что несущие фермы держатся на временных заплатах и не выдержат следующего удара. Люди шли молча, сжимая в руках маски, хотя уровень радиации был признан «безопасным». Магазины открывались, но торопливо, будто каждый хотел закончить день заранее. Город жил, но в каждом движении чувствовалась хрупкость.
Арен пришёл в обсерваторию затемно. На терминале ждал новый пакет от Сейрана из Эллады: «Фронт движется по дуге. Периодичность растёт. Совпадения с трещинами выше девяноста процентов». Вложение – запись: над горизонтом пробежала тонкая полоса света, и сразу после этого датчики ушли в перегрузку. Внизу сухая подпись: «Это не случайность».
Лайа вошла с термосом и усталым «привет». – Совет снова врёт, – сказала она. – В отчёте: «несколько пострадавших». В медблоке – тридцать семь. Двое в критическом. Двое мертвы. – Они думают, смерть можно спрятать, – ответил Арен. – Но смерть не любит прятки.
К девяти в зале собрались инженеры, техники, несколько студентов-добровольцев. Никто не ждал указаний сверху. Работали сами: накладывали графики, сверяли карты. Красная дуга проявлялась всё отчётливее. Это был не шум геологии. Это был ритм. Почерк. Чужая работа.
К полудню земля снова дрогнула. Сначала лёгкая вибрация, потом сильнее. На юго-восточном секторе вспыхнули красные огни. Люди бросились в укрытия, на лестницах слышался топот и плач. В небе вспыхнула ровная линия света, слишком точная, чтобы быть природной. Она прошла точно по линии трещин, как по натянутой струне.
– Оно учится, – сказала Лайа, не отрываясь от спектрограммы. – Амплитуда ровнее, чем вчера. Оно повторяет. – Оно проверяет нас, – ответил Арен. – Играет нашей атмосферой, как музыкант инструментом.
Хлопок был коротким и страшно чистым. Юго-восточный купол не выдержал. Тонкая трещина превратилась в зияющий разрыв. Внутрь рванул серый шквал. Дроны взвились, потянули аварийные плёнки, но буря уже кружила под куполом, как пойманный зверь. Свет погас, и сектор утонул в грязной мгле.
Арен и Лайа кинулись туда с инженерной группой. Пыль хлестала в лицо, забивалась под фильтры. Они крепили каркасы, натягивали ленты, вытаскивали застрявших. В ушах стоял вой сирен, крики множились эхом. Один техник рухнул рядом – кровь пошла носом и ушами, сердце не выдержало. Радиация убивала быстро и бесстрастно.
Когда бурю удалось задушить, улица походила на поле боя. Обугленные балки, осколки, кровь на плитах. Медики выносили тела. Среди белых носилок Арен увидел мальчика с браслетом-клубникой. Мир сузился до красной пластиковой полоски на маленьком запястье. – Мы не можем защитить всех, – прошептала Лайа. – Но можем предупредить. – Тогда будем говорить, – ответил Арен. – Даже если нас не услышат.
К вечеру начались похороны. Под куполом, где ещё пахло гарью, собрались сотни. Имена звучали дольше, чем ожидали. Каждый держал красную ленту – тонкую, как линия на карте. Когда тела опустили в общую нишу, толпа молчала. Но это молчание было громче любого заявления Совета. Дети стояли с опущенными глазами; взрослые смотрели на небо, которого у них становилось всё меньше.
Вечером Совет собрал заседание. Зал сиял холодным светом, стены затянули проекциями зелёных лесов и голубых рек – утешительные картинки с прошлой планеты. – Ситуация под контролем, – начал Анкас. – Купол восстановлен. Паника опаснее трещин. Арен поднялся. На экране возникла красная дуга. Он показал графики, видео прорыва, список имён. – Это не теория. Это реальность. Если мы не признаем угрозу, мы погибнем.
Тишина тянулась, как трещина по стеклу. Наконец женщина в центре стола сказала: – Ваши данные неполны. Мы усилим ремонтные бригады, объясним населению, что явление природное. Эвакуация неприемлема. Слово «исход» даже не прозвучало – будто сам язык его отвергал.
В коридоре, уходя, Арен услышал двух советников. – Если это оружие, мы бессильны, – шептал один. – Тем более надо молчать. Паника убьёт быстрее, – отвечал другой. Они знали, но выбирали отрицание.
– Они нас оставили одних, – сказала Лайа у окна. – У нас есть город, – ответил Арен. – И люди, которые умеют слушать. Этого хватит, чтобы начать.
Ночью они поднялись на крышу обсерватории. Небо было чистым – страшнее алого сияния. В этой пустоте что-то смотрело на них. Ветер шёл с пустыни, шуршал пылью, и казалось, что планета говорит тихим, трудным языком. – Это крах, – сказал Арен. – Не кризис. Крах системы. Если хотим выжить – построим новую.
Он долго сидел, слушая дыхание города. Машины качали воздух, но ритм был неровным, словно сам город задыхался. Далеко лаяли сторожевые дроны, реагируя на тени. В каждой тени теперь жила угроза. Под утро он открыл дневник и написал одно слово: «Исход». Обвёл его кругом. Не как решение – как неизбежность.
На рассвете на центральной стене кто-то провёл красной краской дугу – от края до края. Люди молча остановились перед ней. Никто не признался, кто это сделал. Но все понимали. Город начинал слышать правду, даже если Совет её запрещал.
В полдень в обсерваторию пришли добровольцы – пилоты, инженеры, подростки, умевшие управлять дронами. Они просили учить их работать с датчиками и читать графики. Лайа улыбнулась впервые за многие дни. – Город учится, – сказала она. Арен кивнул. Крах не конец. Крах – начало.
Медблок гудел низко, как улей. На входе стоял дезинфектор, пахло спиртом и горячим пластиком. На каталке лежала женщина с обожжёнными руками; рядом – мужчина с повязкой через глаз, он держал в ладони смятый бумажный талон, как талисман. В дальнем боксе тихо плакала девочка – медсестра выстригала из её волос стеклянные крупинки. Главврач, сухой и злой, подписывал назначения скорописью. – Что вам нужно? – бросил он, не поднимая глаз. – Статистика, – ответил Арен. – Честная. Нам нужна правда о дозах и поражениях. – Правда у меня на столах, – отрезал врач. – Забирайте её в носилках. А цифры… напишите сами. Я сегодня не умею.
Они прошли мимо ряда лежаков. Мужчина в дыхательной маске поймал Арена за рукав: «Скажите… это правда закончится? – В голосе было не отчаяние – просьба о праве на надежду. – Закончится этим городом, если мы будем молчать, – ответил Арен. – Или начнётся другим, если мы заговорим. Мужчина кивнул, как будто получил рецепт».
Вечером обсерватория стала штабом. На столах лежали распечатанные карты трещин, на стены вывели схему «красной дуги». Студенты отрабатывали развёртывание полевых датчиков на макете – квадрате песка с воткнутыми флажками. Пилоты спорили о маршрутах: идти прямой дорогой через гряду или огибать, чтобы не попадать под «ветер» фронта. – Прямой путь быстрее, – настаивал рыжий пилот Нер. – Если нас прижмёт – вернёмся по следу. – Возвращаться по следу глупо, – возразила инженер по щитам Данна. – Если «оно» читает рельеф, оно прочтёт и наши следы. Лайа разделила группы: «звено датчиков»; «звено эвакуации»; «звено связи». Арен взял на себя координацию и связь с Элладой. К ночи на доске появилось первое настоящее расписание – не для парада, для выживания.
Совет выпустил новый ролик. На экране улыбающаяся ведущая рассказывала о «временных атмосферных явлениях», о «дисциплине и спокойствии», о «том, как важно верить в стабильность». Внизу бегущая строка сообщала о льготах на фильтры и бесплатных заменах масок. На площади кто-то остановил проектор. Аплодисментов не было. Было молчание – то самое, что громче слов. В ответ на ролик по городским каналам пошёл другой поток – любительские записи: треск фермы, ровная линия света, крик ребёнка, рука в пыли, тянущаяся к пустому воздуху. Эти записи никто не утверждал, но их смотрели.
Похороны продолжались и на второй день. В зале памяти – простые плиты без надписей, только тонкие голографические метки, которые можно было прочесть на личных устройствах. У входа выдавали красные ленты. Люди сами придумывали новый ритуал: привязывали ленту к перилам над площадью, и ветер заставлял их шуршать – как тихий хор. К Арену подошла женщина – мать мальчика с браслетом. – Вы были там, – сказала она. – Скажите… зачем? – Потому что кто-то решил, что мы – статистика, – ответил он. – А мы решили, что мы – голоса. Она кивнула. Потом неожиданно спросила: «Вы уйдёте? – Когда придёт время – да. Но так, чтобы вернуться. Иначе всё это будет напрасно».
Ночью с Сейраном удалось связаться напрямую. Его голос шёл с задержкой, но был твёрдым. – Мы поставили дополнительную буровую на дуге, – сказал он. – Керн снова светится. И ещё… видели управляемый вход объекта на верхних высотах. Прямой, ровный, как по линейке. – Источник сверху? – спросил Арен. – Либо сверху, либо мы имеем дело с отражателем где-то внизу, – ответил Сейран. – В любом случае, узел – за вашим горизонтом. Если решитесь – я пришлю координаты и окно, когда фронт «уснёт». – Решимся, – сказал Арен. И понял, что сказал это не для красоты.
Утро очередного дня началось с проверок. Добровольцы получали комбинезоны, тестировали фильтры, зашнуровывали ботинки с магнитной подошвой – пыль липла ко всему. Данна прошлась по каждой группе, щёлкала предохранителями, ловко перекладывала ремни. – Никакого геройства, – повторяла она. – Наш подвиг – вернуться. Лайа выдала каждому переносной датчик – маленькую «пчелу», что умела строить карту полей в реальном времени. На экране штабной панели жила новая сеть – тонкие линии, готовые ожить, как только люди выйдут за пределы города. Перед стартом Арен поднялся на крышу. Небо снова было чистым. Но теперь чистота казалась паузой между двумя ударами. Он подумал: «Если это действительно почерк, его можно прочитать. А если можно прочитать – можно ответить».
Они выехали на закате – не в узел, а в тренировочный круг вокруг города. Нужно было проверить маршруты, связь, поведение машин на кромке щитов. Гусеничная платформа шла мягко, оставляя две ровные борозды. Радио дышало голосами: «звено один – слышу», «звено два – вижу», «на востоке – чисто». Несколько раз ветер приносил с пустыни странный сладковатый привкус – как от раскалённого металла. На гряде их встретил старый картограф, Тал. Он лет двадцать рисовал «живые карты» для геологов и, как никто, знал, как выглядит неподдельная трещина и чем от неё отличается рез. – Это рез, – сказал он, глядя на кадры. – Ровный, как будто кто-то провёл ножом на автоматической линейке. Так природа не любит. – Значит, будет второй рез, – сказал Арен. – И третий, – кивнул Тал. – Пока кто-то не поймёт, что нож встретил кость.
В городе тем временем начинали новые порядки. Магистрали перевели в экономичный режим, фонтанам приказали молчать, проекторы отключили на ночь. Люди приносили в обсерваторию батареи, кто-то – домашние фильтры, кто-то – просто еду. На входе висела табличка: «Мы принимаем не только вещи, но и идеи». Под ней лежала коробка с записками. В одной рукой подростка было написано: «Если фронт любит дуги, построим наши дуги так, чтобы он промахнулся». Эта детская дерзость неожиданно оказалась полезной – Данна к вечеру нарисовала схему, как «свернуть» локальные поля.
Арену всё чаще снились древние берега. Он шёл по линии высохшего моря, и песок хрустел, как стекло. У кромки воды – хотя воды не было – стояли столбы света, и каждый раз, когда он пытался подойти ближе, столбы уходили на шаг дальше. Просыпаясь, он узнавал этот ритм в графиках. И это было хуже любых слов – потому что сон не требовал доказательств.
Глава 4. Узел
Пустыня начиналась сразу за городом – ровная, как стол, и коварная, как лёд. На закате песок становился темнее, и тени глинобитных гряд тянулись, будто хотели дотронуться до гусениц машины. Арен сидел в передней кабине, за спиной у него – Лайа и Данна, инженер по щитам. Позади в грузовом отсеке полосами лежали собранные датчики – «пчёлы», и два складных каркаса для временного экрана.
– Связь с Элладой стабильная, – сказала Лайа. – Сейран даёт окно на три часа. Он считает, что фронт «уснёт» на это время. – Если это правда, – пробормотала Данна, – мы успеем поставить кольцо датчиков и вернуться.
Машина шла на юго-восток, вдоль линии, где по расчётам находилась точка пересечения дуг. Над головой проплыл Фобос – чернеющий камень, который бежал по небу быстрее, чем успевал до конца подумать. Его движение не приносило удачи; суеверные всегда сжимали кулаки, когда он появлялся в поле зрения.
– Смотри, – сказала Лайа и вывела на экран карту высот. – Впадина за грядой – как на снимках Сейрана. И в центре – то самое «окно». – Держим дистанцию, – сказал Арен. – Сначала датчики. Если это ловушка, пусть она схлопывается вокруг железа.
Они остановились на краю плоской чаши. В центре лежал круг – идеальный, тёмный, зеркало без отражения. По краю круга песок был «вычесан» в радиальные полосы, будто здесь много раз садились и поднимались невидимые плоскости. Воздух над кругом казался плотнее: звук шагов глох, как в снегу.
– Пчёлы – по периметру, – скомандовала Данна. – С интервалом в двадцать метров. Частота сканирования – максимальная.
Датчики одна за другой оживали зелёными огоньками, шёпотом разговаривали между собой, строили сетку. На панели штабной консоли линии данных сложились в красивую картинку: в центре «окна» – провал сигнала; по краю – ритмические ходы, как дыхание. Это не было камнем. И не было пустотой.