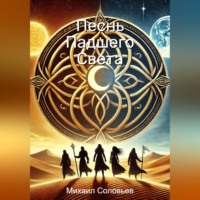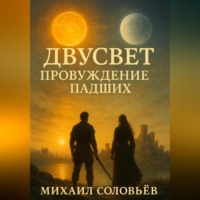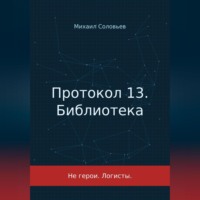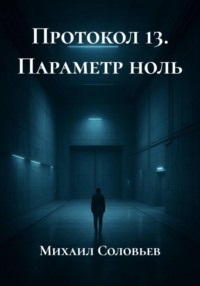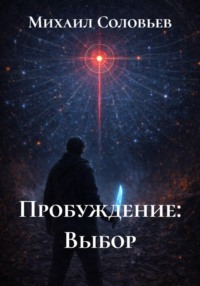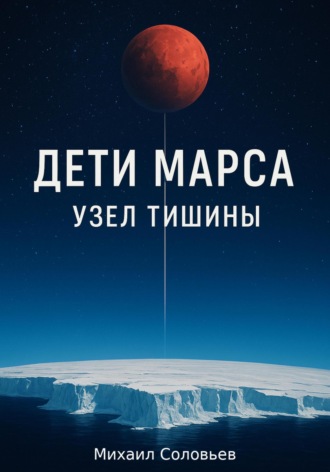
Полная версия
Дети Марса. Узел тишины. Книга 1

Михаил Соловьев
Дети Марса. Узел тишины. Книга 1
Пролог. Красная тень
До того как появилось слово «обратно», был только ветер. Не этот, терпеливый и лаконичный, а другой – хищный, сухой, рваный, который сдирал краску с куполов и песок с равнин. Тогда ещё не было ни табличек, ни «пчёл», ни привычки говорить «вода – ноль» перед тем как спорить. Была Аркадия – слово, которое пахло пылью, горячим железом и йодом. И был город, наученный жить под тонкой оболочкой, как под кожей, – ровно, экономно, без фейерверков.
Они называли себя не именем, а глаголом: «держим». Держим давление, держим ритм, держим рассвет от слишком быстрых шагов. В учебнике для младших, на первой странице, была нарисована рука на поручне, и подписано: «Начинай с этого». У взрослых был свой букварь – карты трещин в оболочках, сводки по износу клапанов, графики радиации в подвалах. На всех графиках линия ходила вверх – медленно, как старик к постели, и в этом движении не было ни капли сенсации. Сенсация пришла позже – вне графиков.
Сначала загудела «сеть» – тонко, как струна, когда её задето краем ногтя. Потом мелкая пыль, которая обычно ложилась горизонтальной плёнкой на подоконники куполов, внезапно поднялась на высоту плеча и закрутилась спиралью. Затем у первого купола у «Гидры» стрелка нагрузки перелезла в жёлтую зону и не вернулась, как будто кто-то держал её пальцем. И откуда-то с дальних плато, где виделись только багровые холмы и старые швы магистралей, пришёл короткий сигнал: «край».
Слово «край» тогда ещё ничего не значило. Потом оно стало названием целого поколения решений. Сначала перевели детей в нижние галереи и разложили коврики под лотки с водой, – если треснет, чтобы лужи было меньше. Потом вытащили из музейного запасника толстые аварийные костюмы для тех, кто был худ, – чтобы прибавить веса там, где это вдруг стало важно. И только потом дошло до «почему» – старые спутники встали в ряд не по расписанию, верхний лёд под равнинами «Сирта» отозвался стоном, похожим на живую трубу, и у края Аркадийского моря небо стало темнее, чем положено в этот час.
– Нам не хватит рук, – сказал тогда один из хранителей. – Значит, будем держать линию.
И они держали. Подкачивали воздух как воду. Обрезали через день всё, что можно обрезать, пока обрезание само не стало рутиной. В лаборатории на столах лежали стеклянные осколки с белыми хвостами, похожими на смех замёрзшей соли. В квартале «Кассини» выносили последнюю зелень из огородных ящиков – корни выживут в тёмной воде под лестницами. В поселении у «Элизия» младшие учились завязывать «пальцевые» швы на учебных шнурах – не потому, что «героизм», а потому что так быстрее.
Когда первая оболочка дала шов, никто не кричал. Просто стал тише голос на «сети». И стало слышно, как растягиваются между куполами старые нити, от которых эту сеть и назвали сетью. Они гудели разными голосами. В одной ноте слышалось «сейчас», в другой – «вовремя», в третьей – «успел». Эти три слова легли в один и тот же ритм – семнадцать и двадцать три, – и, как потом выяснилось, этот ритм умеет жить и там, где нет ни куполов, ни этих линий.
Потом научились считать другой звук – не гудение, а «щелчок», едва ниже слуха, когда шов переставал быть «правильным», становился «опасным» и в то же мгновение – «нашим». Его включали в тетради так: «шов перестал быть – стал нашим» – и рядом ставили точку. С тех пор точки стали важнее восклицаний.
Они не писали «эвакуация». Они писали «перенос». Не «земля», а «равнина», внизу, куда месяцами готовили тихие шлюзы, собирали «коробки» с крошечными архивами – гены, байты, песчинки памяти. Туда же, в этот «низ», отправили тех, кому суждено было выучить новый язык – без куполов и с другим небом. На дверях последней «школы под куполом» учительница написала крупно мелом: «Мы вернёмся». Она не знала, что эта табличка проживёт дольше самого города.
Тем вечером, когда носовая платформа «Аркадии» встала на отметке «край» окончательно, поднялся ветер, который не ждал разрешений. Песок пошёл волнами между куполами, как брустверы, лёг на старые дорожки, залепил окна мастерской «тот самый», упал тонкой красной пылью на пищевые ленты – и мгновенно высох, как если бы он уже когда-то жил в других, слишком тёплых песках. У «Эллады» стальные нитки запели, кто-то сказал в сетку «держу». Другой ответил «держу». К третьему «держу» их было уже много; и это слово впервые стало звучать как имя.
– Будет холодно, – произнёс один из старых инженеров, тот, что называл вёдра «масса», а не «вода». – У вас внизу. Мы постараемся, чтобы было не слишком быстро.
Никто тогда не записал, как именно были смещены орбиты, какие заслонки на старых полярных зеркалах встали не по графику, сколько спутников сделало лишний виток. В протоколах остаются только «факт – да»: температура – в минус, лёд – растёт, ветры – меняют фазу. В картохранилищах пересчитывают мешки, в подвалах складывают скамейки, чтобы ушедшие не спотыкались. Это аккуратное «стереть и дождаться», которое потом назовут ледниковым, было не синонимом гибели. Оно было попыткой перестроить музыку мира под новые руки.
Они знали, что «там», где им придётся жить дальше, это «стереть и дождаться» будет выглядеть иначе. Там не будет так просто сказать «пауза», потому что там привыкли к словам «сейчас» и «немедленно». Там не поймут, зачем накануне любых решений нужно сначала раздать воду, а потом говорить. И поэтому те, кто уходили первыми, взяли с собой не только коробки архивов и каталоги генов. Они взяли букварь – с первой страницей: «Рука на периле».
– Если вы забудете всё, кроме этого, – сказала учительница перед самым «переносом», – вы вспомните остальное. Потому что «перила» – это не верёвка. Это способ говорить «обратно» себе самому.
Первый шёпот нового мира был не похож на марсианский ветер. Он пах травой и медленной водой, которая хранит солнце глубже, чем кажется. Он отбрасывал тени от сосен – слишком живые для глаза, привыкшего к красным краскам. И когда первые люди из Архива шагнули на эту землю, никто не назвал её «домом». Сначала сказали «ровно». Потом – «вода – ноль». И только на третий день – «мы вернёмся».
Они привезли с собой табличку. Повесили её там, где любой, переходящий порог, мог её увидеть. Дети спросили: «Куда?» Взрослые ответили: «Назад». Но не пояснили «назад куда». Потому что слово «назад» уже было глаголом, а не координатой. Оно означало – вернуться из любого «там», даже если это «там» – новый мир. И этот мир принял это слово без споров: ему тоже нужны были перила.
Прошли десятилетия, прежде чем люди начали замечать странности, которые не вписывались в новый букварь. Камни, сложенные слишком правильно. Линии в песке, повторяющие старую геометрию. Иней, который появлялся на перекладинах не в тех местах, где его ждали. Тогда дети тех, кто держал Аркадию, подняли глаза от хоздворов и перестали говорить «случайно». Они начали говорить «сигнал». И вернули в свою речь старые названия, которые пахли пылью и железом: «Эллада», «Аркадия», «Маринер».
Кто-то из них позже станет Нером, Мирр, Данной, Ареном и Лайей – людьми другого берега одной и той же реки. Но до этого им предстояло сделать то, чему их учили на первой странице букваря: положить руку на перила, вдохнуть и сказать «здесь». С этого начнётся новая часть истории. Не про «героев». Про тех, кто вернулся – и умеет возвращаться.
Мы привыкли думать, что для хорошего пролога нужна большая тайна. У нас её не было. У нас был язык. Мы знали, что в любой тьме, где слышен ветер и стучат в стену крошечные камешки, выживают не лучшие, а ровные. И потому первым словом нового мира было «держим». А вторым – «спасибо» – тем, кто научил. И, может быть, где-то там, под красной пылью, под слоями треугольников и старых швов, это «спасибо» тоже стало чьим-то именем.
И да, если уж нужно одно прошлое, которое объясняет настоящее, оно звучит просто: мы – дети Марса. Не потому что родились там. Потому что выучили его алфавит. И теперь пытаемся писать на нём здесь – о перилах, воде и точках, которые держат лучше восклицаний.
Когда мы ещё называли себя «колония», любой вечер был похож на инструкцию. Мы шептали названия старых кратеров, как имена: Грейг, Локи, Маринер, – и вслушивались, как они откликаются в железе. У края «Аркадийского моря» ветер рисовал на пыли длинные борозды, словно кто-то гигантским гребнем прочёсывал память планеты. Иногда у самых старых сводов слышался звук – не музыка, но и не треск: будто воздух лишний раз вспоминал, что он здесь гость. Тогда мы здоровались с ним коротким «держим».
В научных отчётах это называлось «переход через порог стабильности». В наших тетрадях – «край». Мы умели шутить про «край» так же, как умеют шутить моряки про воду. Шутки держали ровнее, чем ремни безопасности. Поэтому, когда в одной из отдалённых станций на юге внезапно загорелись все аварийные лампы сразу, никто не бросился бежать. Мы просто открыли конверт «если край» и стали вынимать оттуда листы – по одному. «Дети – вниз». «Архив – в коробки». «Воду – в два слоя ткани». «Слова – короче». Последний пункт был важнее остальных.
Ближе к финалу старые инженеры собрались в круг. Они не были «советом» – у нас тогда не было советов. Они просто стояли рядом. И говорили то, что потом станут писать в заголовках: «стерильность». Это слово в нашем городе не означало «чистота», оно означало «готовность слушать новое». Мы решили сами поставить мир на паузу, чтобы у нас и у него хватило дыхания. Лёд – как палец на губах. Тишина – как мост.
Перенос «вниз» был без знамен. Ребёнок несёт в руках керамическую кружку, потому что ей тёпло – не потому, что «семейная реликвия». Взрослый тащит на тележке ящик с порошком для фильтров, потому что там – «вода потом». Над шлюзом висит табличка «мы вернёмся». Её повесила Учительница; она всегда вешает нужные слова в нужных местах.
Мы ушли не «с Марса». Мы ушли от одной грамматики к другой. И, чтобы не потеряться, взяли с собой буквы. «Перила». «Обратно». «Ноль». «Ровно». «Держим».
Новый мир принял наши буквы мягко. Мы нащупали в нём те же ритмы – не потому, что мир одинаков, – потому что человеку всегда нужна опора. Первая – вода. Вторая – тишина. Третья – люди. Порядок можно менять, но смысл – нет. И когда первые «дети Марса» выросли, они не искали предсказаний. Они искали перила.
Так появился наш «дом» – не дом. Знак. Перекладина, на которой бывает иней «не там», и колокольчики, которым обычно не о чем говорить. «Сухой» – не пустыня, а инструмент. Лоток – не музей. Магнит – не игрушка. Всё это – буквы, из которых мы складываем то же слово, что и раньше: «обратно». Кто-то спросит: «зачем?» Мы ответим: «потому что границы – тоже место». И там должен стоять мост.
Когда приходит время «когда», всегда кажется, что оно пришло слишком поздно или слишком рано. Истина в том, что «когда» никогда не приходит само. Его приводят. Тишиной. Водой. Списками. Теми самыми точками внизу страниц, похожими на шляпки винтов. Пролог – это не «почему». Это «как». Мы начали именно так. И идём именно так. С перилами и водой. С людьми, которые умеют говорить «страшно» раньше «можно». С детьми, которые учат слово «здесь» в букваре раньше слова «я».
Вот почему наша история называется «Дети Марса», а начинается с доски. Потому что неважно, где ты родился. Важно – какой алфавит у тебя в руках, когда мир просит тебя держать его немного крепче.
Есть старая запись, которую мы храним не из-за техники. На ней – рука старого инженера. Он кладёт ладонь на поручень у шлюза и говорит: «Перила – это не предмет. Это обещание». На заднем плане слышно, как скребётся песок о металл. Потом камера дрожит, потому что кто-то рядом смеётся сквозь усталость, и рука сходит с кадра. Мы ставим эту запись детям – не для того, чтобы они знали лица. Для того, чтобы они знали жест. С него начинается возвращение.
Ещё есть карта. На обратной стороне – детский рисунок: треугольники, похожие на «пирамида», и стрелки «обратно». Многие думают, что «пирамиды» – это легенды. Для нас – это геометрия, которая умеет держать сама себя. В песке, в камне, в языке. Мы складываем треугольники так же, как складываем дни: «ровно, ровно, ровно». И если когда-нибудь кто-то раскопает под нашим «домом» ещё один слой, он увидит не магию, а порядок.
И последнее. Ночью перед «переносом» учительница написала на чёрной доске мелом: «Мы вернёмся». С утра кто-то тёплой ладонью провёл по буквам, и мел растаял. Но след от ладони остался – чуть светлее, чем остальная доска. Мы сохранили эту доску не как святыню, а как образец материала: мел, дерево, рука. Всё остальное меняется. Это – нет.
Глава 1. Мы ставим доску
В нашем городе утро начинается не с новостей. С доски. На неё вешают бумагу грубой текстуры – такую, где окупаешься взглядом, как ладонью в холодную воду, – и пишут коротко. «Перила – держать». «Вода – контроль». «„Сухой“ – писать, не называть». «„Черта“ – смотреть без ожиданий». «Музыка – только на „обратном“». Внизу – «семейный – после». А в самом низу – табличка «мы вернёмся». Она висит так давно, что у неё появились собственные привычки: матовая зимой, тёплая на ощупь летом, с тонкими царапинами по краю, как у надёжной кружки.
В день, о котором рассказываю, к доске первым подошёл Арен. Он обязан быть первым не потому, что начальник, – потому что привычка держать ритм любит ранних. Он достал карандаш, поставил квадратную галочку возле «перила – держать» и перечитал вслух список. У нас так принято: список звучит как музыка, на ней проверяют, настроен ли инструмент. Потом подошла Данна. В руке у неё были те самые мятные бумажки от «того самого», где всегда написано: «С‑1 – чист; С‑2 – держит; „улыбка“ – холодная». Она написала поверх «видела» и положила бумаги на край стола – чтобы лежали, как перила: рядом и не мешали.
Мирр пришла с детским списком: кто на «нулевой пятачок», кто к «перилам» смотреть, а кто к библиотеке в «после» – обнимать и говорить «как ты». Учительница проверила швы на тренировочных нитях: они были как буквы у первоклассников – слегка кривые, но честные. Лайа принесла лотки с чистыми карточками: «слюда», «стекло», «игла», «кирпичик», «ничего». И наш «сухой», который пах тёплым песком и терпеливой пылью, уже ждал своего часа под тентом. С «Элладой» было тихо – на их частоте иногда полезна тишина. Значит, всё шло как надо.
– Сегодня смотрим «дом», – сказал Арен, глядя на верхнюю перекладину. – И «угол». Если «квадрат» полезет – не геройствуем. «Улыбку» – тише, «кисть» – на ноготь. – А «после»? – спросила Учительница, как обычно. – «После» – по списку, – ответила Мирр. – Вода – сначала. Потом – вопросы.
Мы шли к «дому» не как на праздник – как на работу, от которой зависит, выспится ли город. Перила были натянуты, «пальцевые» швы лежали живыми узелками, «кисти» – перчатки с внутренними набивками – висели на крючках как инструменты, а не как символы. Ветер у «сухого» был ровный. Блик на песке держал привычный угол – 52±1. Колокольчик под перекладиной молчал.
Первое «белое» окно отыграли «учебником». «Песня» – базовая. «Пчела» – на «обратном». Перила – обе. «Черты» – нет. Возврат – по «две секунды». Лайа написала «без отличий». Это у нас самое любимое словосочетание дня.
Во втором окне у «сухого» воздух повёл «дужку». Песок сцепился на полсантиметра выше, чем обычно, и отпустил. «Нити» дрогнули, но не заговорили. Магнит в лотке поймал ленивую крошку чёрного – из тех, что липнут без драм. Журнал заполнился правильными точками. Мы даже позволили себе улыбнуться: по-нашему – чуть заметно.
На третьем окне у «дома» в иней вошла тонкая «косая», как ноготь по стеклу. «Пчела» отметила фазу. Колокольчик – молчал. Тал поднял взгляд от «музыкальной ленты», где он чертил площадки и «полки» паузы, и сказал своё любимое «узнаваемо». Мы тоже узнали: иногда вещи говорят, когда у них нет слов.
После полудня пришёл «тот самый». Он никогда не спрашивает разрешения на свои бумажки и никогда не пишет на них «срочно». Он просто кладёт их туда, где рука окажется первой: «С‑1 – пыль снял; С‑2 – держит; „улыбка“ – холодная; колокол (белый) – чист». Данна всегда пишет поверх «видела». Так у нас документируется доверие.
– Что с «углом»? – спросил он тихо у Лайы, кивая на «сухой». – Держится в пределах, – ответила она. – Вчера было 52±0.6, сегодня пока 52±1. – Хороший разговор, – сказал «тот самый», имея в виду разговор между песком и светом. И пошёл чистить второй колокол.
Семейный у нас всегда «после». Это не ритуал, а порядок. Дети идут к «нулевому пятачку», трогают «перила» ровно так, как показано, и произносят вслух слово «здесь». Иногда кто-то шепчет «страшно», и в этот момент город делает самую важную, хоть и невидимую работу – переставляет смены так, чтобы «страшно» могло пройти через «воду – ноль» и «сон – был». Учительница сегодня сказала только три вещи: «пальцы – на швах», «вода – сначала», «вопросы – потом». Мы все кивали, как кивают люди, чьи руки уже помнят, как держать.
Ближе к вечеру у «дома» случилось то, что я позже научился называть «почти-знакомым». На верхней перекладине инеем на миг вспыхнула «двойная» – тонкая, как повтор собственной линии. «Пчела» отметила фазу. Колокольчик промолчал. Возврат – ровно. Лайа написала «двойная – мимолёт». Внизу у «сухого» песок нарисовал «схождение» и тут же стёр. В капсулу лёг «кирпичик» слежавшейся пыли, который под иглой ломался по чистой грани. Нер сказал «ноль». Мы поняли: день удержался.
Совет занял меньше, чем остывает кружка с чаем. Анкас спросил «кому тяжело», Мирр назвала двоих, он переставил смены. Данна произнесла «ровно», и это слово в нашем городе означает гораздо больше, чем кажется со стороны.
Вечером я поднялся на крышу. Город лежал ровно, как лист бумаги под хорошей линейкой. Табличка «мы вернёмся» холодила воздух и обещала ничего, кроме того, что обещает каждый день: «обратно – обязательно». Я прочитал вслух завтрашний список – «перила – держать», «вода – контроль», «„сухой“ – писать», «„черта“ – смотреть», «музыка – на „обратном“» – и поставил точку. Точка – маленькая, как шляпка винта. С неё у нас начинаются мосты.
Если вы спросите, когда начался наш мост, я отвечу: в тот день, когда мы поставили доску и написали «перила – держать». Всё остальное – страницы после. Но и их я буду записывать – как положено. Без героизма. С водой – «ноль». С перилами – «на месте». С «обратно» – жирно.
После Совета мы пошли в лабораторию. Там, на столах, уже ждали лотки с карточками. «Слюда». «Стекло». «Игла». «Кирпичик». «Ничего». По порядку. Лайа разложила их как буквы и принялась за свои привычные – крохотные и упрямые – операции. Ультрафиолет показал «хвост +1/2» – тот, который, когда-то в Аркадии, мы видели в старом стекле. Магнит подвинул крошки чёрного к северной кромке, будто у лотка тоже есть умытая сторона света. Игла писала по пластиночке слюды тихий, ровный звук. Вся эта музыка была без нот, но у неё был ритм. И мы знали его наизусть.
– Тебе когда-нибудь снится, что «нулевой пятачок» пустой? – спросила вдруг Мирр у Учительницы. – Снился, – ответила та. – На второй год. Я проснулась, пошла и написала мелом «здесь» на плитке. С тех пор не снится. Потому что «здесь» – это тоже перила. Мы улыбнулись глазами и продолжили «ничего».
Вечером пришла весть от «Эллады»: короткое «рядом». Мы любим это слово, как любят звук шагов человека в соседней комнате – спокойный, узнаваемый, не требующий вопросов. На их ленте в паузе появилась тонкая «полка». На нашей – тоже. Между городами растянулась нить, которую не видишь глазами, но чувствуешь, как порыв ветра спиной. С такими нитями легче идти по своим перилам, даже если дорожки разные.
– Завтра у нас «семнадцать»? – уточнил Тал. – Завтра у нас «ровно», – поправила Данна. – «Семнадцать» – после.
Ночь у «дома» прошла тихо, как мы и просили у мира. На верхней перекладине инеем на мгновение собралась «нитка» и исчезла, будто кто-то провёл по ней тёплым пальцем. Колокольчик не сказал ни звука. «Пчела» пропела лестницу на «обратном». В лотке у «сухого» песок разровнялся сам собой – без нашего участия. Мы записали «ничего». И ушли спать вовремя. Потому что в нашем городе даже смелость стоит по расписанию.
Утро началось так же – с доски. Так всегда. «Перила – держать». «Вода – ноль». «„Сухой“ – писать». «„Черта“ – смотреть». «Музыка – на „обратном“». И внизу – «семейный – после».
Арен провёл пальцем по галочкам и сказал то, что каждый взрослый у нас должен уметь сказать вслух: «Если страшно – говорю раньше». Тогда он ещё не знал, что это предложение мы когда-нибудь напечатаем крупно на обложке букваря, чтобы дети видели его первыми.
Мы вышли к «дому». И началась наша история.
Днём мы делали вещи, от которых, как ни странно, зависит мост: чинили полку у библиотеки, проверяли список «кому подойти после», приносили вторую кружку тому, кто молчит дольше обычного. В городе давно поняли: если «после» пустое, «до» разваливается.
В лаборатории Нер подвёл итог первой сводке: «угол – 52±1; „квадрат“ – попытка – нет; „двойной блик“ – да – <1с; „слюда“ – слои; „магнит“ – да; „вода“ – ноль». Эта поэма звучит у нас лучше гимнов. Потому что в ней каждое слово можно перепроверить пальцем.
К вечеру, когда на перекладине инеем коротко блеснул «штрих» в момент «обратно», Учительница наклонилась к детям и сказала: «это – язык». Они кивнули так серьёзно, как кивают те, кто уже умеет держаться одной рукой за перила, а другой – за слово «здесь».
Ночь принесла короткий сон. Мне снилось, будто я иду по прежним галереям Аркадии, слышу, как по стенам бегут цифры, как дышат клапаны, как небосвод – небо из стекла – отвечает на каждое прикосновение. Я проснулся от того, что колокол не звенел. Это у нас лучший будильник. Я поднялся, открыл блокнот и написал завтрашнее: «ровно». Потом ещё раз: «ровно». И в третий – «ровно». С третьего раза всегда начинаются мосты.
На следующий день мы поставили на «связке» две тонкие «вешки» – на «полтора» и «два с половиной». Не потому, что собирались их использовать немедленно, – потому что рукам так спокойнее. Пальцы любят знать, где «потом», даже если «сейчас» – «ровно». Тал на своей «музыкальной ленте» провёл по паузе тонкую «полку» – не «красиво», «ясно». Мирр научила двух младших, как считать «раз-и-два-и» по узлам. Учительница поправила: «и – это тоже счёт». Мы смеялись беззвучно: у нас даже смех старается не мешать колоколу.
Во втором «белом» окне ветер решил показать характер. Песок собрал «спираль», дёрнулся к «квадрату» и передумал. Данна сказала «кисть – на пол-ногтя». Мы опустили «улыбку» на четверть. «Нити» не стали спорить. Колокол молчал. На песке не осталось следа. «Сухой» признал наш язык.
К вечеру мы вывесили у библиотеки новый лист «после – люди»: «вода – выдана», «пульс – назван», «сон – проверен», «тихий разговор – был», «обнять – можно». Кто-то написал внизу маленьким: «не хвалить „смелых“, благодарить „ровных“». Учительница обвела это предложение квадратной рамкой – как перила вокруг фразы. Старики у лестницы сменились раньше – «устали небо слушать». Анкас принёс им по кружке воды и сказал: «завтра позже». Это было всё управление городом на сегодня.
Ночь снова прошла без событий. И от этого мы уснули вовремя.
Поздно ночью я нашёл «того самого» у щита. Он сидел на ящике и слушал проводку – как слушают сердце любимого человека: не для сенсаций, для уверенности. – О чём шумит? – спросил я. – О том, что всё хорошо, – ответил он. – Этот шум – как ровный дождь на тенте. Если он меняется – значит, кто-то забыл закрыть окно. – Ты когда-нибудь забывал? – спросил я. – Забывал, – кивнул он. – Тогда я пришёл и положил бумажку с «виноват». Данна написала «видела». Мы переставили смены. И ничего не случилось. Потому что у нас сначала перила, потом гордость. Он протянул мне запасной «пальцевой» шов. – Держи. На удачу. Хотя удача здесь ни при чём.
Я взвесил шов в руке – он был лёгким, как слово «здесь». И понял, что наш мост начался не сегодня и не в марсианской пыли. Он начинается каждый раз, когда кто-то кладёт на стол честную бумажку и говорит «видела». И когда кто-то другой ставит точку – маленькую, как шляпка винта.
Под утро я прошёл мимо библиотеки. На полке «после» кто-то оставил три галочки подряд: «вода», «сон», «тихий разговор». Рядом детской рукой было приписано: «я тоже поставлю, когда вырасту». Я вздохнул так, как вздыхают люди, у которых всё получается небыстро, но получается. Вздох этот мы у себя называем «да».
Когда я вернулся к доске, на ней уже висели завтрашние строки. Арен провёл пальцем по «перила – держать» и повернулся ко мне. – Пойдём? – спросил он. – Пойдём, – ответил я. И мы пошли – не «вперёд», а «здесь». Именно так у нас начинается каждый день.
Глава 2. Нулевая линия
С утра на доске появилась новая строка, которой долго не хватало: «нулевая линия – на месте». Мы не писали её раньше, потому что считали само собой разумеющимся: наш «пятачок», откуда дети говорят «здесь», лежит ровно у края «тишины» и служит всем первым ориентиром. Но вчера вечером одна девочка спросила у Учительницы: «А если „здесь“ вдруг переедет?» И мы поняли, что пора назвать то, на чём стоим.