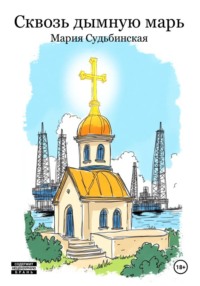Полная версия
Врезка

Мария Судьбинская
Врезка
Детство
Тундра начиналась за последним забором – бескрайнее, плоское царство мха, льда и камня. Здесь выживали лишь надломленные карликовые березки, склонившие головы под тяжестью вечного холода. Из вымотанной, как старый ковер, земли, укрытой снегом и льдом, то и дело торчали искалеченные коррозией детали. Тросы, бочки, остатки механизмов – тундра медленно переваривала артефакты цивилизации. Всюду были жесткие обледеневшие кочки, а иногда встречались маслянистые полыньи с зыбкими краями. Болота, хоть и схвачены морозом, под тонким настом скрывали жидковатую грязь, грозящую провалом.
Ветер здесь – главный хозяин. Его постоянный, низкий гул стоял в ушах, но местные, в силу глубокой привычки, почти не замечали его. Примирились они и с колючей снежной крупой, ставшей для них частью воздуха.
Снег, небо, лед – все сливалось в однотонное марево. На этом фоне четко проступала лишь одна искусственная линия – магистральный нефтепровод, уходящий через тундру к морю. Огромная стальная труба на мощных опорах была ржавым шрамом на лице вечной мерзлоты, молчаливым свидетельством того, что даже здесь человек пытается выжать из земли все до последней капли. Зимой ее заметало снегом, и она превращалась в гигантского заснеженного змея, замерзшего в вечном полете. Солнце не всходило вообще. Несколько часов в сутки на южной стороне горизонта возникало световое пятно – бледное, сиренево-серое свечение, отдаленно напоминающее гаснущий фонарь. Во время серого полумрака очертания домов и силуэты в поселке проступали четко, но без объема, как на плоской фотографии.
ПГТ не стоял на открытом месте, а прятался, как рак-отшельник в раковине. Он притулился на склоне, прикрытый грядой невысоких, обледеневших холмов. Дома рассыпаны по склонам: здесь уживались старые пятиэтажки-хрущевки с ярко-желтыми глазницами-окнами и одноэтажные бревенчатые бараки, утопающие в сугробах по самые подоконники. Улицы – это протоптанные в снегу тропы между сугробами высотой в человеческий рост.
Главным источником тепла, сердцем города, была котельная. От ее трубы в черное небо тянулся высокий, тяжелый, жирный столб дыма. Рабочие часто впускали к себе погреться. Внутри вечно стоял громовой шум. Котельная работала на дешевом мазуте, и ее дым нависал над поселком тяжелым, удушливым одеялом.
С берега открывался вид на море – огромное, практически неподвижное ледяное поле. Лед вздыблен, торосист, покрыт грудами снежных наносов. Серые, вмерзшие рыбацкие сейнеры застыли в неестественных позах. Тем не менее, жизнь в порту теплилась: крошечный ледокол-буксир методично таранил лед, открывая дорогу к причалу, а вода в пробитом канале была черная, маслянистая – в ней отражался полярный свет. Люди, чьи лица спрятаны под балаклавами, молча выполняли нелегкую работу – отцепляли замерзшие тросы, перекладывали шланги, двигаясь скупо и экономично. Иней на балаклавах намерзал в сплошную ледяную корку, оставляя лишь узкую прорезь для глаз. Пахло здесь едкой соляркой, ржавчиной и въедливым запахом сырой нефти, который ветер иногда приносил со стороны нефтеналивного терминала.
У дальнего причала стоял сейнер «Удача» – немного чище и ухоженней других. Под слоем новой краски проступал призрак его старого, стертого названия. На носу, у ватерлинии, металл был вмят и поцарапан – след тарана льда, небрежного и рискованного. На палубе, под слоем инея, угадывались очертания не рыболовных тралов, а дополнительных, усиленных лебедок и закрепленных под странными углами мощных шлангов, слишком больших для обычной рыбы. Вокруг не было привычной портовой суеты, но рядом вечно мелькали несколько немых фигур и урчал черный внедорожник, из выхлопной трубы которого клубился такой же жирный, черный дым, как из трубы котельной.
В ПГТ была единственная школа – она располагалась почти в центре, на относительно ровном участке земли. Это было двухэтажное здание из силикатного кирпича с большими окнами и железной крышей. Внутри были длинные, пустые, слабо освещенные коридоры с шершавыми полами из советской плитки. На стенах висели пожелтевшие грамоты, фотографии выпускников, потрепанные стенгазеты и плакаты с громкими лозунгами, как например – «Берегите электроэнергию!».
Несмотря на потрепанный вид, школа для большинства учеников была теплым островком. И пусть учителей здесь можно было пересчитать по пальцам – один преподаватель вел сразу пять-шесть предметов – но и учеников было немного. Десятый и одиннадцатый классы объединили в один, и учитель объяснял материал параллельно для восьмерых ребят: четырех десятиклассников и четырех одиннадцатиклассников.
Их классным руководителем и главным проводником в мир гуманитарных наук был Валентин Андреевич, который вел у них все: историю, обществознание, русский, английский языки и литературу.
Со стороны он казался человеком невзрачным – среднего роста, скромный, в своем вечном длинном кардигане, который, казалось, он никогда не снимал. Его короткие, темно-русые, слегка вьющиеся волосы всегда были взъерошены, а на переносице лежали массивные очки в простой оправе. Толстые линзы скрывали его настоящий взгляд.
Без очков он был практически беспомощен – мир расплывался в мутное, бесформенное пятно. Поэтому-то Валентин Андреевич и запоминал учеников не по лицам, а по голосам, интонациям, скрипу стульев. Ученики звали его Монокль. Кличка закрепилась за ним так давно, что виновники ее появления уже давно окончили школу. Никто из нынешних старшеклассников не помнил, чтобы Валентин Андреевич когда-либо носил монокль. Но прозвище прижилось намертво, как все необъяснимое и меткое, что рождается в школьных стенах.
Для Валентина Андреевича эти старшеклассники были тихой отдушиной. Восемь человек – это не класс, а целый микромир, где он знал не только голос, но и душу каждого. И в этом микромире у него были свои фавориты.
Четверо ребят из десятого класса: Ксемен Чадов, активный и уверенный юноша; Марьян Асташев, сообразительный и скромный мальчик; Софья Кижаева, язвительная и крайне самостоятельная; и Дарья Скалдырникова – «странненькая» девчонка, чье отсутствие на уроках в последние дни Валентин Андреевич заметил сразу. И его с тех пор не покидала тревога.
Ксемен не был похож на остальных – высокий рост, смуглая кожа и упрямые черные кудри резко выделялись на фоне приземистых и светловолосых потомков поморов. Эти черты он унаследовал от деда – цыгана-рома, которого в конце 70-х в рамках борьбы с «тунеядством» советская власть вывезла на «великие стройки севера» – возводить порт и поселок при нем. Дед Ксемена стал разнорабочим, но, утопая в рутине, всё же старался сохранить традиции и ни капли не стыдился своего происхождения. А вот отец Ксемена, родившийся уже в поселке, ненавидел всё, что связывало его с унизительной, как ему казалось, участью «цыганёнка». Он сменил звучную фамилию на фамилию жены и запивал злость дешевым портвейном в портовых гаражах, молясь, в отличие от своего отца, лишь на один символ – знак рубля. Мать Ксемена была местной, из старого поморского рода. От нее он унаследовал лишь пронзительный, холодно-синий взгляд – единственную северную метку на его южном лице. Этот контраст – цыганская стать и поморские глаза – сводил с ума местных девчонок и злил парней, делая его чужим для всех.
Квартира Чадовых была типичной «трешкой» в панельной хрущевке, но её пространство оказалось поделено на два враждебных лагеря. В двух больших комнатах царили отец с матерью и две младшие сестренки Ксемена – там пахло дешевым парфюмом, детскими капризами и усталостью. А на закуренной кухне и в своей каморке – дед. Его владения пахли сушеными травами, воском и благовониями. Ссоры были привычны. Не так давно отец, вернувшись пьяным с порта, в ярости швырнул на пол дедову колоду Таро с криком: «Опять эту цыганскую хрень по всему дому развел! Из-за вас, черномазых, мне на работе до сих пор в гляделки плюются!» Мать вечно воевала со свекром из-за кухни, которую они не могли поделить. Дед, не проявляя агрессии, будто назло бормотал что-то на ромском, собирал вещи и с гордым видом уходил в каморку, а потом по несколько дней игнорировал всех, кроме внука. Ксемен тайком носил деду чай и завороженно слушал его полубезумные истории о степях, лошадях и о том, как шепотом остановить кровь.
Для деда имя «Ксемен» было тщательно выверенным магическим актом. Пока родители приходили в себя после родов, старик дрожащими от нетерпения руками выводил на клочке бумаги заветные буквы, подбирая их по звучанию. В имени не было мягкой, расплывчатой «ё». Но для посторонних он был просто Семёном, в лучшем случае – Ксемёном, или, что хуже всего, Сёмой. Ксемен мирился с коверканьем – посторонних поправлял, родителей игнорировал, чтобы не провоцировать скандал. Для своих друзей и Валентина Андреевича он оставался Ксеменом.
Если Ксемен был чужим по крови, то Марьян был чужаком в собственном доме. И если имя Ксемена было знаком гордости, то имя Марьяна стало клеймом. Его мать принципиально не хотела сына и, узнав, что ждет дочку, решила назвать ее Марией. Появление сына стало для нее обманом. В паспортный стол она поехала в слезах и в графе записала искаженное «Марьян», увековечив обиду. Отец давно исчез, а новый муж матери смотрел на пасынка с раздражением, считая его не частью семьи, а поднадоевшим предметом интерьера, за содержание которого почему-то приходится платить.
Марьян был худощавым, светлым мальчиком. Его русые волосы и бледная, почти прозрачная кожа делали его похожим на заблудившегося призрака тундры. Он жил в той же хрущевке, что и Ксемен, но его миром была щель между стеной и старой гардеробной, отгороженная книжной полкой. У него не было своего угла, не было места, где можно спрятаться. Он часто задерживался на улице, а ночью замирал под одеялом, притворяясь спящим, чтобы не слышать за перегородкой пьяный храп отчима и придушенные всхлипывания матери.
С Ксеменом они дружили с детства. Вместе они были одним целым: Ксемен – громкая, уверенная внешняя оболочка, Марьян – тихий, все замечающий внутренний стержень.
Дарья Скалдырникова жила с бабкой на окраине. Старый барак всегда пах затхлостью, травами и немытым телом. Бабка, Наталья Ивановна, была староверкой и считала, что врачи «сожгут душу» внучки, поэтому никакого диагноза у Даши быть не могло. Все в поселке списывали её поведение на «странность». Даша могла разговаривать с «тенями», замирать на месте, шепча что-то невнятное. Могла сказать, что в котельной завелся злобный дух, или смеяться без причины. Впрочем, эти «обострения» случались нечасто. В остальное время она была просто тихой и замкнутой, любила рисовать узоры на промерзших стеклах. Она была высокой, угловатой, с бледным неподвижным лицом и тусклыми глазами, смотревшими сквозь людей. Длинные, белые как лунный свет волосы она почти никогда не расчесывала.
Именно эти странности и стали мостом к дружбе с Ксеменом. Пока другие сторонились ее, он, воспитанный историями деда, видел в ее бреде не безумие, а тайное знание.
Загадочной неопределённости Даши резко контрастировала прямолинейность Софьи Кижаевой. Свои полтора метра роста она носила с вызовом. Огненно-рыжие волосы и большие кукольные глаза были лишь мишенью, за которой скрывался острый, колючий ум. Софья редко улыбалась – она будто вечно была недовольна и устала: нахмуренные брови, сжатые губы, насмешливый прищур.
Цинизм стал для неё защитным панцирем, единственным способом переварить реальность, в которой она была совершенно одна. Ее мать, дальнобойщица, почти всегда была в рейсах. Софья жила в пустой квартире, самостоятельно решая, что есть и на что тратить скудные деньги.
Ее пустая квартира стала штабом для компании. Здесь не было ссор и осуждающих взглядов. Марьян приходил сюда чаще других – порой ему казалось, что он проводит здесь больше времени, чем у себя в углу. Они с Софьей могли молча сидеть часами, и это молчание было комфортным. Это было их убежище.
На следующем уроке литературы Валентин Андреевич, как всегда, вел его достаточно захватывающе. Одиннадцатый класс, тем временем, работал над своими заданиями, а десятый – слушал и конспектировал. Валентин Андреевич рассказывал биографию Достоевского как детектив – с интригой и язвительными комментариями.
Даши не было на месте второй день – утром Монокль пробормотал, что Скалдырникова заболела.
Ксемен внезапно сунул локтем в бок Марьяна:
– Слушай, а если бы Достоевский родился тут, у нас? – прошептал он, и его глаза блеснули озорными огоньками. – Он бы тоже в азартные игры играл? На что? На валенки? На пайку хлеба в столовой?
Марьян, сначала смущенно покосившись на учителя, не удержался и фыркнул:
– Перестань, – прошипел он, но уже улыбаясь. – Он бы, наверное, про наш поселок роман написал. «Униженные и оскорбленные полярной ночью».
Софья, сидевшая впереди, обернулась и язвительно добавила, стиснув зубы:
– Главный герой – местный алкаш, который вечно проигрывает в домино свою доченную квартиру. Очень в духе времени.
Ксемен изобразил трагическую мину, приложил руку ко лбу и закатил глаза.
– «Я мыслю, следовательно, я существую!» – пафосно прошептал он. – А тут я вышел на улицу, минус сорок, и мои мысли замерзли насмерть. Философия хренова, ребят!
В этот момент Валентин Андреевич замолчал на полуслове, рассказывая о каторге. Он снял очки и устало протер переносицу.
– Чадов, – раздался его спокойный, но четкий голос. В классе воцарилась тишина. – Я, конечно, понимаю, что сибирская каторга – не самый веселый сюжет. Но твоя версия о «замерзших мыслях»… – он сделал театральную паузу, надевая очки, – …не лишена своеобразного северного колорита. Может, озвучишь ее для всего класса? Или, может, у тебя есть идея, как сам Федор Михайлович обыграл бы наш местный колорит в «Записках из Мертвого дома»?
Класс затих, с интересом наблюдая, как Ксемен попытается выкрутиться. Но вдруг прозвенел звонок на перемену и разрезал напряженную тишину. Ксемен счастливо выдохнул, а Валентин Андреевич лишь махнул рукой, дав понять, что Чадов на этот раз отделался.
Перемена началась с небольшого скандала. Из учительской, приоткрыв дверь, высунулась молодая учительница математики, Анна Сергеевна – ветреная, вечно взъерошенная блондинка, – и кокетливо поманила Валентина Андреевича пальцем:
– Валентин, у меня к вам вопросик по поводу школьного спектакля! – она бросила на него томный взгляд, который мало походил на педагогический.
Ксемен тут же подхватил Марьяна и Софью за рукава.
– Вот это да! Монокль и эта дура набивная, продолжение следует! – прошипел он, загораясь идеей. – Надо послушать, про какой такой «спектакль» они там договорятся!
Троица, пригнувшись, затаились возле учительской.
– Интересно, Монокль-то хоть свободен? – шепотом поинтересовался Марьян, пока они крались. – А то она его прям в открытую ловит.
– Вдовец, – так же тихо ответила Софья. – У него дочка в младшей школе. Жена давно умерла.
– Точно… – кивнул Ксемен. – Ну тогда ему вдвойне хреново, от такой отбиться!
Из-за двери тут же донеслись визгливые завывания Анны Сергеевны о каком-то «танце дробей» и глухое, усталое ворчание Валентина Андреевича в ответ. Попытки флирта молодой учительницы были настолько неловкими, что вгоняли в краску, вероятно, всех присутствующих. Валентин Андреевич старательно делал вид, что не замечает и не понимает ее намеков.
– Бедный Монокль – прошептал Марьян.
Вдруг визгливый голос Анны Сергеевны смолк, перекрытый хриплым, знакомым голосом уборщицы Тони:
– Анна Сергеевна, милая, у вас там мел весь разбросан, а вы про танцы. Идите-ка лучше уберите, а то я сейчас шваброй загоню, куда не надо.
Послышалось недовольное фырканье, торопливые шаги и звук захлопывающейся дальней двери. Воцарилась тишина.
Троица уже было хотела уйти, но тут из учительской вновь послышались слова уборщицы:
– Валентин Андреевич, вы не видели Дашку Скалдырникову? Бабка ее, Наталья Ивановна, места себе не находит – говорит, что вчера девочка не вернулась домой.
Троица насторожилась. С удивлением переглянувшись, они продолжили слушать. Валентин Андреевич продолжил, тяжело вздохнув:
– Тоня, я знаю. Наталья Ивановна мне уже звонила. Мне не хочется поднимать панику на уроках. Вы же знаете Дашу… Она у нас своеобразная – да и к тому же, уходила уже не раз на сутки-другие. Возвращалась же. Должно быть, прячется в котельной или еще где.
Из кабинета раздался другой, хриплый мужской голос:
– Опять? С девчонкой нужно что-то делать. Это ее «своеобразие» до добра не доведет, если не принять меры. Хотя что мы можем сделать…
– Я вас прошу, никому ни слова. – ответил Валентин Андреевич. – Особенно этим… Ксемену с компанией. Я более чем уверен, что они тут же рванут ее искать по всем заброшкам и переломают ноги или того хуже. Прошел всего день. Давайте подождем до завтра.
Послышался стук чашки о блюдце.
– Девочка не в себе… – устало сказал Валентин Андреевич. – Может, где сидит, смотрит в стену, как бывало. Найдется.
Несколько секунд они молча стояли, переваривая услышанное. Тишину нарушил Ксемен, выдыхая слова сквозь зубы с шипящей яростью:
– Что за бред? Вот уж я не ожидал такого от Монокля! «Не говорите Ксемену»! Я что, по его мнению, такой дурачок, что сразу побегу срываться с обрыва?! – Он нервно провел рукой по волосам, и его голос стал низким, ядовитым. – А еще и умно придумал – списать все на ее «странность». Удобно очень. «Не в себе». Значит, можно ничего не делать.
Марьян, бледнее обычного, потупил взгляд. В его голосе слышалась попытка найти логику, оправдать учителя.
– Может… Может, он не в курсе, что в этот раз она совсем не на связи? – тихо начал он. – Раньше она хоть писала… А сейчас – тишина. Полная. Монокль же этого не знает. Он думает, все как всегда. Может, стоит просто ему сказать? Посоветоваться? – в его словах сквозил не столько вопрос, сколько надежда, что взрослый все же окажется на их стороне.
– И что он сделает? – Ксемен фыркнул, сгорбившись. – Вызовет того же участкового, который скажет: «Подождите три дня, сами разберемся»? Или напишет бумажку в соцзащиту, которую будут рассматривать месяц? Он не поможет, Марьян. Он просто создаст видимость, а потом скажет: «Я же предупреждал, что вы зря паникуете». «Прошел всего день». – Ксемен выдохнул. – Для нас это не «всего день».
Софья, до этого молча наблюдавшая за ними, мрачно ткнула пальцем в грязное окно, за которым уже сгущались синие сумерки.
– Ксемен, очухайся. Посмотри на улицу. Через полчаса будет темно, как в жопе у черта. Мы ничего не найдем, а сами замерзнем в сугробе, и нас тоже придется искать.
Они машинально глядели в окно. За стеклом медленно угасали те самые синие сумерки – короткий промежуток между днем и угольной ночью, который на «большой земле» сочли бы кромешной тьмой. Но для них, рожденных в этом полумраке, этот призрачный, сиреневый свет был «светлым временем суток» – он казался возможностью и подарком.
– Она права, – тихо, но твердо поддержал Марьян. – Сейчас идти – это самоубийство. Даша… Даша хоть и странная, но не дура. Она бы не пошла в тундру на ночь глядя.
Ксемен сжал кулаки, но спорить было бесполезно. Логика была на их стороне.
– И что? Ждать? До понедельника? – его голос снова задрожал от бессилия.
– Завтра суббота, – напомнила Софья. – Выходной. У нас весь день. – Она посмотрела на обоих. – Сначала идем в магазин. Берем еды, батареек для фонарей, спички. Потом проверяем все ее места в поселке: котельную, подвал старого садика, тот самый заброшенный барак у порта. Если и там нет… – Она замолчала, не желая договаривать мысль вслух.
– …Тогда будем думать дальше, – мрачно закончил за нее Ксемен. Он кивнул. План был простой и четкий. – Ладно. Но ждать до завтра – это тоже не вариант. Пошли сейчас же в «Умку», купим все, что нужно, чтобы с утра сразу рвануть.
Он упер руки в боки и посмотрел прямо на Марьяна, в чьих глазах он уже прочитал привычную неуверенность.
– Только смотри, Марьян, никаких «передумываний». Завтра в десять тут как тут. Иначе я тебя самого в тундре закопаю.
Марьян лишь кивнул.
Софья, не дожидаясь их, уже застегивала куртку и составляла в уме список.
– Батарейки для фонарей. Шоколад или что-то калорийное. Вода. И… – она задумалась на секунду, – может, веревка? На всякий случай.
Марьян и Софья молча переглянулись и кивнули. Решение было принято. Не говоря больше ни слова, они побрели по темнеющему коридору к выходу. Оставалось только надеяться, что за эту ночь с Дарьей ничего не случится.
Они вышли из школы, и на них тут же обрушилась давящая тишина, нарушаемая лишь вечным завыванием ветра. Те самые синие сумерки, которые они застали в коридоре, уже стремительно густели, сливаясь с землей в одно сплошное, бархатно-фиолетовое марево. Фонари на столбах – редкие и тусклые – еще не зажглись, и тени от заброшенных домов ложились на снег длинными, искаженными пятнами, в которых чудилось движение. По дороге им попался навстречу только старый дед-рыбак, бредущий с пустыми руками от порта. Он что-то бубнил себе под нос, не глядя на них, полностью погруженный в свой внутренний мир. Они прошли молча, ускорив шаг, инстинктивно чувствуя, как холодная тьма буквально пьет тепло из их тел. Желтый свет витрин «Умки» сиял впереди как единственная точка отсчета в этом тонущем мире.
Марьян, Ксемен и Софья копошились у полки с бакалеей, выбирая себе плитку шоколада и пачку галет на завтра, как вдруг дверь распахнулась – в магазин вошел кто-то еще. Вместе с ним внутрь вкатилась волна колючего морозного воздуха. Сквозь щель между банками с гречей они разглядели плечо посетителя, и в частности его дорогую парку матово-черного цвета.
– Ян, что ли? – полушепотом спросил Марьян, хотя пока не разглядел лица вошедшего.
– Вы глядите, какая парка. – цинично произнесла Софья.
Ксемен и Софья не успели ответить – человек быстрыми, уверенными шагами, предварительно поздоровавшись с продавщицей, обошел прилавок и оказался в том же проходе, что и ребята. Высокий молодой человек, на вид лет двадцати пяти. На нем была не просто парка, а техничная, брендовая «Canada Goose». На голове – теплая ушанка из черной овчины. Человек здорово контрастировал с убогим ассортиментом магазина.
У Яна были острые, резкие черты – четкая линия челюсти, небольшие, потрескавшиеся губы, нос с едва заметной горбинкой. Глаза у него были светло-зеленые, вперемешку с тепло-коричневыми оттенками. Почти белые, прямые волосы до плеч, выбивающиеся из-под ушанки. Лицо его будто бы ничего не выражало – ни злобы, ни дружелюбия.
Яна знали все. Он был местным феноменом и ходячим противоречием. Его репутация в поселке была кристально-грязной: все знали, что он богат, и большинство недолюбливало его за это. Про него сочиняли самые неправдоподобные и шокирующие сплетни, придумывая объяснения его богатству. Сам Ян говорил, что помимо работы в порту, занимается фрилансом в IT и работает на Запад.
По поселку и до порта он ездил на черном Land Cruiser Prado, резко выбиваясь из ряда ВАЗов и джипов-старичков, колесивших по поселку.
Его взгляд скользнул по подросткам, и на секунду в его глазах мелькнуло ленивое, снисходительное узнавание.
– Привет, Ян, – вежливо, чуть в сторону, бросил Марьян.
Софья лишь едва заметно кивнула, сунув руки в карманы.
– Какие люди, – негромко, без особых эмоций, бросил Ян в ответ. Его взгляд на мгновение задержался на Софье. – Сонька, как мать? В рейсе?
Он прошел мимо них к витрине с алкоголем, не дожидаясь ответа. Продавщица за прилавком внезапно выпрямилась и перестала ковырять в зубах, приняв подобострастно-деловой вид.
– В рейсе, – коротко ответила Софья, следя за ним взглядом.
– Смотрю, у тебя обновочка, – с наигранной легкостью сказал Марьян, кивая на его парку.
Ян вдруг отпрянул от полки и, улыбнувшись в ответ, артистично покрутился вокруг себя, демонстрируя одежду.
– Нравится? Выглядит солидно, да? – произнес он, но вопрос был риторическим. Он уже повернулся к витрине. – Надо же как-то поддерживать имидж нашего захолустья.
Он взял бутылку дорогого виски с полки, также небрежно обошел ребят и направился к кассе, где попросил хлеба и сигарет. Попрощавшись с одной лишь продавщицей, он вылетел из магазина, вновь потревожив колокольчик.
– Как же он выебывается, – прошипел Ксемен, едва дверь успела закрыться. – Он как павлин на помойке, ей богу.
– Ну и ладно, он может себе позволить, – пожал плечами Марьян. – Сам заработал.
– Откуда у него деньги? – скептически хмыкнула Софья. – Он работает в порту. Там все или алкаши, или на грани.
– Начальником отдела логистики, по совместительству – специалист по IT. – выдохнул Ксемен.