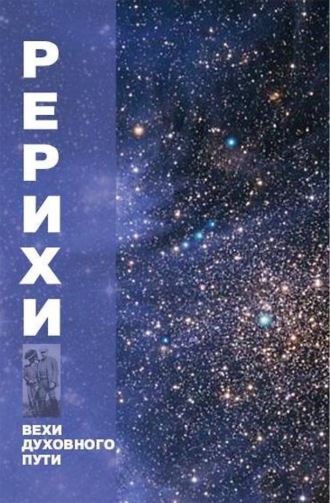
Полная версия
Рерихи. Вехи духовного пути
Старшая сестра Н. К. – Лидия (в замужестве Озерова) – родилась в 1867 году, а младшие братья: Владимир – в 1882 году и Борис – в 1885 году, так что в год смерти Константина Федоровича младшему из его детей было всего 15 лет.
Во избежание имевших уже место ошибок следует сказать, что «Извары» не были родовым поместьем Рерихов. Имение было приобретенным, причем на имя жены Константина Федоровича – Марии Васильевны. За нею же значился деревянный особняк № 15 по 16-й линии Васильевского острова. Он давно уже снесен, но его еще помнит С. Н.: «Я хорошо помню дом-особняк бабушки Марии Вас., но не помню линии. Был обширный сад, через ограду виднелось большое здание какого-то училища. Дом был одноэтажный, поместительный. В столовой на стене висели чучела птиц, изготовленные Н. К., – трофеи его охот. Также несколько ранних его работ, какой-то воин, перевязывающий руку, и пр. Еще жила охотничья собака Н. К., Изварка, – пойнтер, белый с черными пятнами. Ей было много лет. Этот дом был позже продан, и бабушка приобрела квартиру, тоже на Васильевском острове, в новом большом доме. Жила она с Борисом Константиновичем. Помню телефон: 534-67». (Из письма ко мне от 10.11.1969 года).
Судя по воспоминаниям и документам самого Н. К., его детство прошло в доме № 25 по Университетской набережной, где помещалась нотариальная контора и квартира К. Ф. Возможно, что в свой особняк Мария Васильевна переселилась с детьми после смерти мужа, однако он значился ее собственностью еще при жизни его и упоминается в «Формулярном списке нотариуса г. С. -Петербурга, округа С. -Петербургского, окружного суда – Константина Федоровича Рериха».
Имение «Извары» было приобретено с запутанными судебными тяжбами о каких-то спорных участках. Управляющие попадались К. Ф. не особенно радивые: мелиоративную систему запустили, племенной скот разбазарили. Большие средства вложил Константин Федорович в построенную в «Изварах» сельскохозяйственную школу, которую вскоре пришлось закрыть. Верных доходов от имения ждать не приходилось, и поэтому с ним расстались еще во время болезни Константина Федоровича или сразу после его смерти. Во всяком случае, имеется свидетельство, что последний раз в «Изварах» Н. К. был летом 1898 года.
Поскольку Н. К., имевший юридическое образование и право на наследование нотариальной конторы отца, во владение этой конторой вступить не пожелал, пришлось заняться и ее ликвидацией. Так что траур по отцу и хлопоты, легшие на плечи Марии Васильевны, могли оказаться веской причиной для отсрочки бракосочетания Н. К. и Е. И. Однако свою поездку за границу, связанную с необходимостью продолжить художественное образование, Н. К. откладывать уже не мог и осенью 1900 года один поехал во Францию.
Письма Н. К. к Е. И. из Парижа заслуживают того, чтобы привести из них несколько отрывков. В них отразились и тоска в разлуке с любимым человеком, и тревога за него, и страхи за дальнейшую общую судьбу при долгих молчаниях Е. И., и живой обмен с нею мыслями, идеями, планами на будущее. Вот отрывок из одного письма без даты (на письме значится «среда-четверг»): «…Если Ты временно думаешь заслонить недостижимую жизнь другою жизнью, то помни, что не следует за неимением скамейки садиться в помойную яму. Миленькая, не погуби способностей своих, ведь чутье развивается в нас до известного времени, а потом оно грубеет; дорогая, не пропускай этого времени – оно так недолго, оно пролетит так быстро, и если за это время в Тебе не вырастет чего-либо крепкого и здорового, то тогда останется один хмельной перегар и горечь, ничем не поправимая. Дальше от больших компаний! Глубже в себя! Если хочешь сделать что-либо достойное. Быть художником, вести за собой публику, чувствовать, что каждой нотой своей можешь дать смех или слезы – это ли не удовлетворение.
… Что же касается до прописных сентенций твоих родных и знакомых, то они меня мало трогают, ибо цыплят по осени считают; а я отнюдь не считаю, что моя осень наступила или даже приблизилась. Лишь бы я сам знал, что я делаю, а там хоть бы не только тряпкой, а даже и много хуже прозывали, – это до меня не касается.
… Какая у нас русских скверная манера ни во что не ставить человеческую личность и раскусывать ее, словно она орех. Ведь послушаешь людские речи, так выйдет: надевай камень на шею и умирай, – ан нет, не умрем, а будем сражаться!
Вчера был со мной курьезный случай. Сочинил я эскиз „Мертвый царь“ – когда скифы возят перед похоронами тело царя по городам его. Вечером же был у знакомых, и втянули меня в столоверчение, в которое, как я, помнишь, говорил Тебе, вовсе не верю. Можешь представить себе мое изумление, когда стол на мой вопрос: „Который из моих сюжетов лучший?“ – выстукивает: „Скифы мертвого человека хоронят“. Никто из присутствующих не мог знать этого сюжета, ибо я сочинил его в тот же день и никому еще не рассказывал. Вот-то чудеса! А все-таки в стол еще не верю, надо еще как-нибудь испытать. Сегодня начал работу. Начал картину из свайных построек.
Зачем, Ладушка, я не увез Тебя с собою из Питера…
Рискни приехать.
И больше твой Майчик никогда не будет трусом.
Какая у нас работа-то будет! Спорая да скорая».
Еще письмо без даты, написанное как бы на грани отчаяния: «… знай, Ладушка, если Ты свернешь в сторону, если Ты обманешь меня, то на хорошей дороге мне места не будет. Тебя я люблю как человека, как личность, и если я почувствую, что такая любовь невозможна, то не знаю, где та граница скверного, до которой я дойду. Ты держишь меня в руках, и Ты, только Ты приказываешь быть мне идеальным эгоистом или эгоистом самым скверным – Твоя воля!
Нигде не бываю, кроме русского семейства Лосских, где слушаю каждый раз пение».
И вот объяснение чувствам, вызвавшим такое со всем не свойственное по своему характеру для Н. К. письмо:
«29.12.1900
Дорогая моя Ладушка!
Сейчас получил твое письмо. Странно, почему Ты говоришь только о грубости, а не можешь представить себе ничего другого, т. е. того, как было на самом деле. Отчего Ты ни на минуту не задавалась мыслью, что, верно, с человеком что-либо происходит, если он так пишет. А происходило со мной следующее. Уже порядочное время как я нездоров: болит бок, нервный кашель и общий упадок, и попробуй себе представить, как на меня могли подействовать Твои лаконичные записки с извещением о радости от выслушивания объяснений в любви. Если только ты в состоянии представить, какое впечатление может производить на человека, почти выброшенного за общественный борт, больного, сомневающегося, такое известие, то не удивишься такому письму моему. Ведь три месяца жду я хоть доброй строчки от Тебя, а Тебе за балами все некогда! Хоть бы строчку сердечную! Хоть бы слово!
Я замечаю, что все мое – и здоровье, и дела, и мысли – Тебя нисколько не интересуют… Смилуйся, Ладушка…»
Как и должно, приходят новые письма от Е. И., и на них следует ответ Н. К.: «Милая и хорошая Ладушка. Конечно, Ты представляешь себе мое ликование при первом намеке Твоем о любви, еще бы: Ладушка меня любит! Значит, я не ошибся в человеке!.. Как я горжусь, что Ты подала мне руку именно на этом слове („бороться“)! Это на всю жизнь не забудется». (Все выписки из писем ОР ГТГ, ф. 44).
Цитируя несколько интимные отрывки из переписки Н. К. и Е. И., незачем опасаться смущения слабых духом «доброжелателей», полагающих, что лучшей тактикой в таких случаях является абсолютное молчание. Но кроме того, что «на каждый роток не накинешь платок», «страусовая тактика» замалчивания обкрадывает нас самих. Она исключает серьезное обсуждение и изучение ценнейшего опыта гармоничного совмещения «земных» и «надземных» планов, который явлен нам в жизни Н. К. и Е. И. Каждый день их жизни в высшей степени поучителен. Их «сосредоточение земное», предшествовавшее «сосредоточению тонкому и огненному», – это ступень, которую рано или поздно следует пройти каждому, и с чьей же, как не их, помощью?
Вот почему тщательный анализ доступных нам сторон биографии Н. К. и Е. И. столь важен. Безусловно, что такой анализ не даст результатов или будет даже вредоносным, если мы хоть на миг упустим из виду, что в «знаменателе» у нас уже имеются все показатели дальнейшего приобщения Н. К. и Е. И. к «сосредоточению огненному». Эти показатели – единственно правильный критерий при оценках событий первого периода жизни Н. К. и Е. И. Вместе с тем ошибочно забывать и о том, что у них самих этого критерия в руках тогда еще не было.
Придет время, и многое, сложенное в архивах, будет обнародовано. Тогда каждая строчка Н. К. и Е. И., которая вызывает сегодня смутные догадки или недоумения, примет углубленную достоверность. Но вряд ли это может служить поводом к пассивному ожиданию лучших для «откровений» времен. В жизни Н. К. и Е. И. таких периодов пассивного ожидания не было, и, возможно, именно благодаря этому они столь безупречно подготовили почву для восприятия и передачи современникам воистину Величайших Откровений, не нарушая Заповеди: «руками человеческими». Вспомним слова Учения: «… пора поднять народы мечом или молнией, лишь бы пробудить вопль духа. Если бы вы видели клише первых творений, вы бы ужаснулись. Главное затруднение, ибо на материю можно воздействовать через материю. Люди, как попугаи, твердят замечательную формулу: „Смертию смерть поправ“, – но о значении ее не думают» («Листы Сада Мории. Озарение», 147, 148).
Конечно, Н. К. и Е. И. не нуждались для пробуждения своего духа в «мече и молнии», однако различие между степенями развития их духа и уровнем массового сознания эпохи поставило их лицом к лицу с прототипами «клише первых творений». Оставаясь верными формуле «смертию смерть поправ», Н. К. и Е. И. преодолевали пропасть разрыва между низшим материальным миром и миром духовным, к высшим сферам которого принадлежали исключительно по законам воздействия материи через материю. Этот закон соблюдался ими на всех этапах их жизненного пути и особенно давал о себе знать в раннем периоде, когда поначалу их дух лишь смутно ощущал себя, затем, приспосабливаясь к существующим на Земле условиям, приступил к выявлению своих сил и, только уже преуспев в этом, стал прорываться в высшие сферы, устанавливая связь между мирами. Сообразно характеру Поручения отрабатывались особенности такой связи, создавались соединяющие мосты между разными состояниями материи. Те устои этих мостов, которые опирались на земные берега, столь отличались от устоев мира духовного, что трудно представить, как они несли одно и то же перекрытие! Тем не менее это было именно так. Поэтому дневники, переписка, воспоминания разных лиц раскрывают нам не только бытовые или личные стороны жизни Н. К. и Е. И., но дают картину созидания тех земных устоев, без которых не на что опереться мосту, перебрасываемому из мира материального в мир тонкий, именно это представляет и для нас, и для будущего величайшее значение. Изучая архивные материалы в таком понимании, мы уже сегодня вправе выводить конкретные заключения. По периоду от первой встречи Н. К. с Е. И. до их супружества они сведутся примерно к следующему:
1. Встреча, безусловно, была кармически предуготовленной: «Устам времен Я заповедал привести вас на путь Мой».
К моменту встречи и Н. К., и Е. И. раздельно, преодолевая несовершенства окружающей среды и используя ее преимущества, подготавливали себя к Служению, об истинной сути которого сами еще не догадывались. Тем не менее именно эта подготовка способствовала росту тех личных достоинств, которые, в дополнение к кармическому магниту, сделали их привлекательными друг для друга и вызвали сильнейшее взаимное влечение. Карма подвела Н. К. к встрече с Е. И. не раньше, чем он стал уже признанным художником, обрел твердость жизненных основ и известную независимость. То же можно сказать и о Е. И. Любовь к живописи, философии, серьезные занятия музыкой – все это было уже налицо и жаждало дальнейшего развития. Так что при первой же встрече Н. К. с Е. И. у них со всей ясностью определилась общность жизненных интересов и идеалов.
Однако «память ушедшего свитка» (то есть знание прошлых воплощений и кармических связей), как и «открытие книг» (то есть знание Поручения и очередных задач эволюции), пришло много позднее. После пройденного в одиночку этапа «сосредоточения земного» Н. К. и Е. И. предстояло еще повторить этот этап рука об руку, чтобы с удвоенной силой приступить к возведению земного оплота для «Кубка Архангела» (то есть Учения Живой Этики).
Карма человечества уже назревала и готовилась к гигантским потрясениям и переменам планетного значения. С. Н. с большой выразительностью передал в своем известном триптихе те Испытание, Искупление и Зарождение Новой Жизни, которые свершились в считанные годы нашего столетия. Все это было не просто фоном жизненного пути Н. К. и Е. И., а полем их жизненного Подвига, суровым испытанием их собственного умения «воздействовать на материю через материю». Все это, конечно, должно являться и для нас неповторимым по своей наглядности уроком.
2. Следует отметить, с какой осторожностью, осваивая формулу «руками человеческими», Н. К. относился ко всему «сверхъестественному». Среди русской интеллигенции конца XIX – начала XX века наблюдалось сильное увлечение оккультизмом и спиритизмом, с чем Н. К. столкнулся очень рано и, судя по письмам к Е. И., имел с нею на эту тему беседы. Не забудем, что Н. К. был уже знаком с произведениями Е. П. Блаватской и часто встречался с авторитетными для него лицами, принадлежность которых к различным оккультным группировкам несомненна. Тем не менее, соприкоснувшись с неопровержимым для себя фактом «сверхъестественного» при сеансе со столиком, Н. К. не поддался очевидности необъяснимого для него факта, не принял его «на веру». Мы часто путаем понятия «вера», «доверие» и «доверчивость». Н. К. с молодых лет привыкал различать их, и его переход от «сосредоточения земного» к «сосредоточению тонкому» не был слепым подражанием «модным увлечениям» окружающей среды и, главное, не сопровождался пренебрежением и отходом от «сосредоточения земного». То же самое было и у Е. И. Это хороший пример для всех тех, кто бросается сломя голову в «потустороннее», не задаваясь трудом познать «посюстороннее». Отсутствие контактов между двумя планами бытия много благодатнее, чем те контакты, которые искажаются самым обычным, не имеющим никакого оправдания, чисто земным невежеством.
3. Как в студенческих дневниках Н. К., так и в его письмах к Е. И. довольно часто встречаются упоминания об эгоизме, даже некоторое прославление его и «самолюбия». Конечно, ни эгоистом, ни самолюбивым человеком Н. К. стать никогда не собирался. Ссылки на стимулирующую роль эгоизма в творчестве – это первые ощущения себя самобытной и энергичной творческой личностью, начальная стадия осознания своего «эго», а вместе с тем и предчувствия Поручения, которое надлежит выполнить. Сама суть Поручения остается для Н. К. закрытой до тех пор, пока накопление знаний и опыта земного плана не дойдет до той степени, которая позволит ему приступить к реализации духовных накоплений центра «Чаши» уже в полном вооружении зрелого, созвучного эпохе интеллекта. Уравновешение духа и интеллекта – одна из важнейших проблем нашего века. Эту проблему для самого себя должен решить и решает Н. К.
Раскрытие «интеллектуальной памяти» и развитие интеллектуальных способностей на материальном плане бытия требуют большей затраты времени, чем раскрытие духовных накоплений.
К нужному сроку последнее происходит мгновенно в акте Озарения. И не исключено, что в зависимости от задач, обусловленных Поручением, Озарение отодвигается до полной интеллектуальной подготовки к восприятию передовых научных и философских представлений эпохи.
Однако предчувствие Поручения, Встреч и Озарения дает о себе знать с раннего детского возраста. В процессе же интеллектуального развития такое предчувствие обычно трансформируется в ощущение своей «избранности». Пожалуй, этим можно объяснить и увлечение молодого Н. К. некоторыми идеями философии Ницше. Его мировоззрение в целом весьма противоречиво и в большинстве аспектов для Н. К. неприемлемо. Тем не менее о Ницше как о потрясателе морали мещанского благополучия и певце сильной, восставшей против предрассудков личности Н. К. всегда отзывался позитивно. Конечно, силу личности или, по его выражению, «идеальный эгоизм» Н. К. даже в молодости понимал не по-ницшеански.
В годы борьбы за свое место в жизни, за положение в обществе и в художественном мире Н. К. написал стихотворение «К ним» (ОР ГТГ, датировано 06.11.1902). Приводим его:
Я выше вас, глупцы слепые!Всегда в грязи ползете вы,На своды неба голубыеПоднять не смея головы.И, вечно жалуясь, страдаяСамими созданной тоской,Со страхом гибель ожидая,Вы все согнулись под сумой.Я выше вас! Мечтам послушный,Я видел небо, рай и ад —И горе жизни равнодушной,И смерть меня не устрашат.Я не копил сокровищ груду —И этим горд! Вы не моглиПодняться с ними от земли,А я без них парю повсюду!В этом непубликовавшемся стихотворении, в корне отличном от позднейших не только по форме (рифма), но и по общему мировосприятию, наглядно предстают и характер «идеального эгоизма» Н. К., и те его целеустремления, которые через испытания «сосредоточения земного» вели его по славному пути Подвига.
4. Наконец, нельзя не остановиться и на более «смущающих» местах в письмах Н. К. и Е. И., где он укоряет ее в увлечении балами, сомневается в силе ее привязанности и к нему, и к тем делам, которые ему дороги, и даже допускает возможность полного и окончательного разрыва между ними.
Теперь, когда мы знаем об Н. К. и Е. И. больше, чем в то время они сами о себе могли догадываться, распутать такие «узлы» не так уже и сложно, и поэтому может возникнуть вопрос: а следует ли вообще за это приниматься?
Думается, что все-таки следует, и даже очень следует. И не для того, чтобы «доказывать» несостоятельность «укоров» Н. К., невозможность разрыва между Призванными на путь Служения или «оправдывать» увлечения Е. И. и ее продолжительные молчания на письма Н. К. Ни в «доказательствах», ни в «оправданиях» все это абсолютно не нуждается, так как представляет собой обычные и естественные для всех воплощенных подробности. Они не были в силах ослабить взаимного влечения, заложенного кармическим магнитом, и увести Е. И. от выполнения Поручения Владык. Однако все, что окружало Н. К. и Е. И. на земле, плескалось и било валами об эти неприступные утесы. Если они не дрогнули, то незачем и нам поддаваться смущению под напором обычного прибоя «моря житейского».
Но приходится считаться с тем, что «море житейское» изобилует подводными камнями, совершенно безопасными для Н. К. и Е. И., но подчас губительными для нашего рядового сознания. Приводимые отрывки из писем Н. К. и Е. И. свидетельствуют о том, что он сразу же признал в Е. И. ту «Ведущую», которая была уготована ему Судьбой. Признал безоговорочно еще до того, как уяснил истинную суть этой Судьбы. Признал и… начал с того, что сам «повел» Е. И. к истокам Знания. Кто же в таком случае был «Ведущим» и кто – «ведомым»?
На уровне земного сознания этот вопрос рассматривается и большею частью решается в такой примерно последовательности:
1. «Ведущей», несомненно, была Е. И., так как Учение Живой Этики принималось и записывалось преимущественно Ею. Она же прошла полный Опыт раскрытия огненных центров в земной обстановке под непосредственным Покровительством Учителя.
2. Поскольку Е. И. была в полном значении этого понятия «Ведущей», то она обладала Знаниями, которых не могло быть у остальных трех «Стражей Кубка».
3. Поскольку Знания Е. И. превосходили знания других, то она являлась и «главной» в той миссии, которая была возложена на «стражей». Именно она и только она знала «все».
4. Следовательно, лишь от «главной» могли исходить безусловно правильные Указания, а отсюда и «руководство к действию»: имея перед собой «большое» и «малое», следует все ставить на свои места и при решении особо важных проблем обращаться непосредственно к «большому», минуя «меньшее».
К этому можно добавить, что степень важности того или иного, как правило, зависит от весьма произвольного выбора. Им оказывается обычно просто то, что больше всего тревожит в данную минуту.
Между тем в Учении дается такое правило: «Еще спросят: „Кто больше, Христос или Будда?“ Отвечайте: „Невозможно измерить дальние миры. Можем лишь восхищаться их сиянием“» («Листы Сада Мории. Озарение», 311).
Это правило можно сформулировать и в более «практическом» предупреждении: опасайтесь устанавливать градации «большого» и «малого» в высших сферах. Ведь если вам не дотянуться еще и до «малого», то не надорветесь ли в потугах завладеть «наибольшим»?
Разумеется, что эти примеры не посягают на незыблемость понятий иерархического начала в космическом строительстве и его земном аспекте. Об иерархической лестнице в Учении говорится достаточно много и ясно, но ведь не для того, чтобы в бессильных попытках перескакивания через ее ступени ломать себе на такой «подвижности» спинные хребты! Если бы даже нам открыли существующую на принципах космического знания шкалу «большего» и «меньшего», то, во-первых, это ни на йоту не приблизило бы нас к «наивысшему», а во-вторых, ничего, кроме растерянности, не внесло бы в ряды даже самых искренних и ревностных последователей Учения. Истинное космическое знание и его иерархические признаки не вмешаются в одномерность наших представлений о «большом» и «малом». Даже в ограниченных земных масштабах Знание Владык проявляется в гораздо более сложном измерении «незаменимости» или «необходимости», когда «большое» и «малое» вступают в такое взаимодействие, в котором «малое» подчас предрешает весь ход самых грандиозных событий.
Думается, что, признав за высшим право определять градацию ступеней иерархической лестницы сверху вниз, не следует делать этого самим в обратном направлении. Для нас имеют значение лишь распознание и освоение ближайших ступеней, миновать которые никто не сможет. Космическое же знание и необходимые Указания, пронизывая насквозь все истинные звенья Иерархии, приходят к нам в меру вместимости нашего сознания, а не в силу признания нами «высшей инстанции». Именно разногласия в ее определении приводили и к религиозным войнам, и к губительному разъединению по формуле «своя своих не познаша», и к трагедиям отдельных сознаний, раздираемых внутренними противоречиями.
Какое отношение имеет эта сложная и многогранная проблема к первому периоду знакомства и переписки Н. К. с Е. И.? Самое непосредственное! На их примере мы видим то истинное сотрудничество, в котором «большое» и «малое» теряют обыденные одномерные представления о «главном» и «неглавном». В силу окружающих обстоятельств Н. К., получивший систематическое образование «мужского уровня», к моменту знакомства с Е. И., конечно, обладал и большими знаниями, и большим опытом. Поэтому-то, признав в Е. И. «Ведущую», он должен был «вести» ее и сам. И в дальнейшем знания земного плана не распределялись между «стражами» равномерно по всем областям науки и искусства. Каждый в чем-то был «большим» и в чем-то «меньшим». Их сотрудничество – идеальный образец взаимодействия незаменимых, а не «больших» и «малых», в нашем понимании, сил. Этой слаженной незаменимости в сотрудничестве нам нужно еще учиться и учиться. И первые уроки полезно черпать в ранних дневниках и переписке Н. К. с Е. И. Они научат нас зоркости и предостерегут от поспешных решений приобщиться к «надземному», игнорируя «земное». За подобными решениями скрывается обычная безответственность, а не распознание иерархических степеней и связанной с ними первоочередности личных и общечеловеческих задач.
Достижения и быстрое признание Н. К. в искусстве, в науке, на служебном поприще, в общественно-культурной жизни страны достаточно освещены биографами, и останавливаться на них повторно нет надобности. Все это можно отнести к сфере «сосредоточения земного», которое протекало под прямым воздействием духовного плана бытия.
К чисто земной области принято относить проблему материального обеспечения, по существу сводящегося к заработку. Денежные средства далеко не всегда равнозначны затрачиваемому тем или иным человеком труду, да и для самого труда еще не найдена абсолютно справедливая формула дифференциации его оплаты. Эта важнейшая социальная проблема в течение тысячелетий угнетает человечество, и, как ни странно, многие люди «духовного склада» причисляют ее к разряду «низкоматериальных», не имеющих ничего общего с духовными потребностями и духовным ростом человека.
Между тем жизнь неизменно ставит перед каждым из нас со всей остротой вопрос о материальном обеспечении, подчас в весьма сложном, завуалированном аспекте, и от правильного решения этой задачи всегда зависят не только материальные, но и духовные достижения людей.
Биографы Н. К. мало касались «деликатной» денежной стороны его жизни, полагая, что она не играла значительной роли в его творчестве и деятельности. К тому же постоянный спрос на картины Н. К. и высокие цены на них как бы сами по себе снимали вопрос о каких-то денежных заботах и тем более затруднениях. Считалось, что Н. К. был зажиточным, даже богатым человеком, чуть ли не миллионером уже в самом начале самостоятельной жизни. Лично мне на одном выступлении был задан, пожалуй, не столько провокационный, сколько абсурдный вопрос: «Правда ли, что в связи с Октябрьской революцией у Рериха пропало на счетах в русских банках свыше миллиона рублей?».









