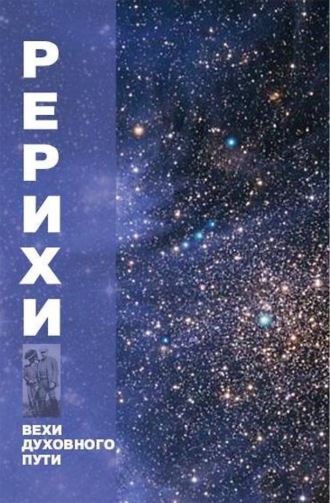
Полная версия
Рерихи. Вехи духовного пути

Рерихи. Вехи духовного пути
©Издательство «Дельфис», 2014
©Д. Н. Попов, Е. А. Логаева, составление, 2014
Как описать жизнь моего отца, как охарактеризовать ее и как воздать ей должное?..
Николай Константинович всегда думал, что в конце концов главная задача жизни – это самоусовершенствование… Он всегда работал над самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, кем он был, и закончить свою жизнь более совершенным человеком. И в этом он преуспел…
Его жизнь шла как бы изнутри и светилась особым светом внутренних достижений. Она была полной чашей, полной гармонией внешних проявлений и внутренних переживаний и достижений…
Через него и мою матушку я научился ценить те прекрасные страницы, которые раскрывает перед нами жизнь…
Их светлые образы навсегда останутся для меня источником величайшего вдохновения, великим источником счастья…
Святослав РерихОт редакции
Имена Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих, а также и обоих их сыновей – Юрия и Святослава – уже давно стали одними из самых известных в России. Жизнь, деятельность и творчество этих людей (и в первую очередь, разумеется, самого главы семьи) столь необычайно богаты и разнообразны, что, несмотря на множество монографий и сборников вместе с неисчислимым количеством отдельных статей на эту тему, раскрыта она еще далеко не полностью. До сих пор в рериховедении совершаются крупнейшие, и порой весьма неожиданные, открытия, вызывающие серьезные дискуссии специалистов и самые невероятные пересуды среди дилетантов.
Одной из наиболее интересных и загадочных сторон жизни Рерихов, несомненно, является поистине удивительный духовный путь этих основоположников и провозвестников Учения Огненной Йоги (Агни Йоги), или Живой Этики. Связь с таинственными Махатмами Гималаев, владение легендарными священными предметами, исполнение высокой миссии, запись Учения и его практическое освоение в собственной жизни – все это захватывающе интересно, но пока еще слишком малоизвестно и потому зачастую вызывает больше домыслов, чем размышлений над реальными фактами.
При составлении настоящего издания нам хотелось собрать воедино основные из доступных на сегодня материалов, наиболее достоверно освещающих эту тему.
Прежде всего это дневники и воспоминания ближайших учеников, сотрудников и последователей старших Рерихов. Главную ценность среди них представляет, конечно же, дневник первого директора Музея Рериха в Нью-Йорке З. Г. Фосдик, из огромного материала которого тщательно выбрана та часть, которая освещает внутреннюю сторону жизни и деятельности великого художника и его не менее выдающейся супруги. Огромный интерес представляют и записи участника знаменитой трансгималайской экспедиции полковника Н. В. Кардашевского, а также воспоминания многолетнего секретаря художника В. А. Шибаева и других свидетелей духовной биографии Н. К. и Е. И. Рерих.
Особняком стоит неоконченное исследование одного из главных биографов Н. К. Рериха – П. Ф. Беликова. Сам будучи знаком с художником лишь по переписке, он был очень близок с Юрием Николаевичем, а в дальнейшем – со Святославом Николаевичем Рерихами. Поддерживая доверительные контакты со всеми, кто близко знал и сотрудничал со старшими Рерихами, он собрал обширный архив, весьма значительная часть которого связана именно с эзотерической стороной жизненного пути этих замечательных людей. Это и позволило ему написать единственный на сегодня «Опыт духовной биографии», оставшийся, к сожалению, неоконченным.
Все эти материалы позволяют целостно и разносторонне взглянуть на внутреннюю духовную жизнь Рерихов и то, как она отражалась на их внешней деятельности, а также увидеть глазами очевидцев их душевный, человеческий облик.
Надеемся, что эта книга заинтересует и исследователей, и самые широкие круги сегодняшних последователей и почитателей Рерихов.
Д. Н. ПоповП. Ф. Беликов
Рерихи: опыт духовной биографии[1]
«Спросят: „Почему нельзя сразу явить сужденное?“ Отвечайте: „Колонны дома ставятся в порядке“. И когда рабочие скажут: „Дай, мы сразу поставим“, Строитель скажет: „Разрушить задумали!“ Так содержит капля весь мир».
«Листы Сада Мории. Озарение», 173.«На выставку Н. К. я пришлю Его картину „Клад Захороненный“. Сколько в ней глубокого смысла, сколько в жизни Н. К. именно этого „Клада Захороненного“ – до времени!»
Из письма С. Н. Рериха от 19.06.1973.Большинство даже наиболее фундаментальных трудов о жизни и творческой деятельности Н. К. отличается известной односторонностью. Вполне понятно, когда такая односторонность вызвана замалчиванием Миссии Н. К. как Посланца Белого Братства. Он сам не представлял своей жизни отдельно от этой Миссии, и, конечно, любые представления о ней в отрыве от Главнейшего неизбежно ведут к односторонности и относительности всех оценок.
Однако мы не можем сказать, что статьи или книги, в которых о Миссии Н. К. декларируется открыто, запечатлели его образ во всей полноте и значимости. Так, например, в замечательной статье Теодора Хеллинга «Голос Эпохи» мы читаем: «Никто из тех, кто знакомился с мыслями, целями, идеалами и трудами Рериха, не может сомневаться в том, что он был Посланцем Великого Белого Братства. Божественным Поручением его было нести мир через культуру. Искусство во всей разновидности его форм было главным средством выражения, и красота в ее очищающем аспекте являлась той силой, благодаря которой он достиг самых замечательных результатов».
Кажется, что яснее об Основном для Н. К. и сказать нельзя. Но как достиг он этих результатов? Как подходил к осознанию своей жизненной Задачи? Как преодолевал препятствия на пути к ее решению? Или все трудности устранялись чудодейственным мановением руки «Белого Мага», каковым выводят Н. К. некоторые авторы?
Так, с одной стороны, творился образ хотя и выдающегося, но вполне земного, как и все, часто ошибавшегося человека, а с другой – божественного «сверхчеловека», безошибочно распознававшего все хитросплетения «дел человеческих».
Было бы неуместно винить тех или иных исследователей в недобросовестности. Наивно предписывать им свои рецепты, свои понятия о том, как следует или как не следует писать об Н. К. Выдвигать столь примитивные требования в наше сложное и ответственное время бессмысленно. Ведь наряду с вопросом «можно или нельзя?» во всей своей жизненности и неотложности существует еще и вопрос «нужно или не нужно?», а на него нет однозначного ответа. Поэтому, пожалуй, меньше ошибется тот, кто решит, что все написанное, все подвергшееся обсуждению, оказалось в какой-то степени нужным и полезным. Прибегать к ссылкам на ограниченность имеющихся исследований допустимо только в целях выявления все еще мало освещенных или даже совсем неизвестных сторон жизни и деятельности Н. К.
По существу для будущего имеет значение лишь одно: то, что мы можем и должны добавить об Н. К. к уже опубликованному. Подчеркиваю, и должны, ибо были его современниками и соприкасались с Источниками, непосредственного воздействия которых уже не испытают на себе последующие поколения. Ведь именно в наше время, перед нашими глазами, делясь с нами своей мудростью, опытом, планами и заботами, прошел Н. К., и не к нам ли в первую очередь обращены слова С. Н. Рериха: «Надо создать истинный светлый образ, но человеческий: подвижника, человека, который жил для человечества, – образ истинного Подвижника, Ученого, Учителя, жизнь которого прошла Горним Путем. Много было замечательного в жизни Н. К., но как это осветить и когда – не знаю». (Из письма к автору от 26.10.1965).
Воистину «Клад Захороненный», полное открытие которого возможно лишь в сужденное время!
Тем не менее мы не вправе отказаться от поисков каких-то новых подходов к нему. В этом заключается наш долг перед своим временем и наша доля отдачи за доверенное нам.
Одной из вех в таких поисках могут послужить слова Учения:
Четыре стража, кубок Архангела храните.Напоен вином Новым явленный вам ковчег.Устам времен Я заповедал привести вас на путь Мой.Под покровом земли сокрыл ваш лик.Наполнил отраду восхождения,Прояснил память ушедшего свитка.Широко суждения поднял и открыл книги.Придите, примите.(«Листы Сада Мории. Зов», 214)Следуя этому Указанию, мы обязаны еще пристальнее вглядеться в мельчайшие подробности жизни Четырех, призванных на Служение самим Владыкой, помня при этом, что: «Сперва происходит сосредоточение земное, потом тонкое и затем огненное, когда сердце вмещает и небесное, и земное». («Сердце», 587).
Горний Путь Архата – это путь победителя в битвах земных долин!
У читателя могут возникнуть вопросы: имеет ли эта работа какое-либо отношение к книге «Рерих», изданной в серии «Жизнь замечательных людей», а также была ли известна автору та роль Рериха, о которой говорится теперь открыто?
На последний вопрос ответить просто: да, известна.
На первый вопрос ответить несколько сложнее. Дело в том, что когда автор работал над упомянутой книгой, то у него было одно стремление: написать так, чтобы впоследствии к написанному пришлось бы только добавлять, но ничего не надо было бы зачеркивать. То, что добавить будет необходимо, автору было совершенно ясно. Наличие соавтора и редактора значительно усложняло задачу. Но надо сказать, что соавтор вообще не претендовал на оценку мировоззрения Рериха, а редактор проявил в этом деле максимум возможной деликатности. За исключением двух или трех фраз, добавленных в процессе редактирования, и некоторых изъятий, в этой важнейшей части книги текст прошел без изменений.
Так что настоящую работу можно рассматривать как необходимое дополнение к изданной книге, дополнение, которое все время имелось в виду, так как без него жизнь и деятельность всех четырех Рерихов не имела бы ключа к полному раскрытию.
Тем не менее на определенных этапах книга серии «Жизнь замечательных людей», если только автору удалось справиться с задачей «добавлять, а не вычеркивать», имеет большое значение и уже издана на языках бенгали, непальском, румынском и литовском.
Нет и не должно быть такой «эзотерики», которая не имела бы своего «экзотерического» аспекта. В этом ее жизненность и оправдание. В противном случае оставалась бы «мистика», не имеющая выхода в жизнь. Давно сказано: «Нет ничего тайного, что бы не стало явным» – а значит, не существует и явного, которое не имело бы в своем основании тайны. Границы неизведанного постоянно отодвигаются, но никогда не могут быть уничтожены.
Хронология жизни и последовательность духовных прозрений не всегда идут в ногу. Порой Озарение приходит очень рано, иногда – только на склоне лет. Очевидно, это зависит от характера Поручений, успешное выполнение которых требует соответствующей подготовки и приспособления к существующим условиям жизни. Безусловно, решающую роль играют также законы свободной воли и кармы. Зачастую только сужденные кармические встречи выявляют полный объем миссии и приносят средства для ее несения.
Возможно, что с Н. К. и Е. И. было именно так. Во всяком случае, в их молодости мы не обнаруживаем следов того, что предназначенный Путь открылся им сразу и без всяких усилий с их стороны. Каждое воплощение Большого Духа сопряжено с жертвой, и Е. И. и Н. К. не обошли ее стороной:
Какою силою утвердитесь?Как достигнете исполнения Нашего дела?Властью, Нами данною.Мне ли говорить о власти?Когда все глупое и тщеславное к власти устремляется.Но Я говорю и утверждаю.Но Наша власть иная:Наша Власть – Жертва.(«Листы Сада Мории. Зов», 296)О молодых годах Е. И. нам открыто сейчас мало. Известно лишь, что росла она живым и любознательным ребенком. Ее окружение в какой-то мере облегчало ей дорогу к Знанию и Красоте, но, с другой стороны, открывало «заманчивую» перспективу обеспеченной и легкой жизни. По законам кармы, свободное волеизъявление Е. И. решило выбор и воспитало изумительную трудоспособность и дисциплину духа, необходимые для свершения земного Подвига.
Об Н. К. сохранились довольно обширные архивные материалы, начиная с его студенческих лет. Главнейшие из них: дневники 1894–1899 годов, переписка с Е. И. 1900–1911 годов, переписка с различными лицами. Все это собрано в личном архиве Н. К., переданном в рукописный отдел Третьяковской галереи после смерти его брата Бориса Константиновича (1885–1945).
Беглое знакомство со студенческими дневниками Н. К. может вызвать недоумение. В них много незрелых суждений, вызванных острой реакцией на личные огорчения. Эту черту отмечает в себе и сам Н. К.: «Насколько я люблю похвалу и насколько она меня поднимает, настолько удручает и огорчает резкое порицание, раз даже аппетит потерял. А все самолюбие, ох, какой кнут это самолюбие, так и стегает, ни минуты покоя. А все же лучше иметь его больше меры, чем меньше. При нем можно сделать много такого, чего без него не сделаешь». (ОР ГТГ, ф. 44. Дневник. 28.09.1894).
Или: «Вот, например, чем наградили меня первые шаги в жизни после гимназии: первым делом – нервным сердцебиением, часто теперь мне досаждающим, а разве можно променять несколько лестных, хороших отзывов на массу неприятных минут при сердцебиении? Впрочем, показал: иногда и могу променять, но все же только иногда, а подобные „иногда“ редки. Фу, черт, голова болит». (Там же, 13.10.1894).
Очень резкие, подчас явно несправедливые характеристики даются преподавателям Академии художеств, в частности, П. П. Чистякову, одному из лучших педагогов своего времени. Абсолютно не свойственной Н. К. должна казаться фраза: «В класс заходили Д. Маковский и Куинджи. Куинджи по виду сущая свинья в ермолке, ближе его не знаю». (Там же, 20.10.1894).
Достается в студенческих дневниках и Репину («Еремей Лукавый Мужеченко») и другим художникам-преподавателям. Безжалостно комментируются столкновения с однокашниками. После неудавшейся попытки организовать среди академистов кружок по самообразованию Н. К. записывает: «Не народ тут, а грубые свиньи, и больше ничего. Видите, демократы! Нас заподозрили в каком-то триумвираторстве». (Там же, 18.10.1894).
Болезненно переживает Н. К. свои неудачи в живописи: «Этюд окончательно испортил. Ничего нужного из него не выйдет. Наложил столько краски, что не знаю, что и делать. Этот будет еще хуже первого. Что-то профессора скажут: дали нам более легкую задачу, а мы легкую еще хуже трудной разрешили. Пожалуй, погонят меня, Скалова да Леона к Рождеству из Академии. Ох, страшно при этой мысли. Что тогда будет? Хоть в петлю. – Не могу, конечно, судить о новых профессорах, но старые хоть худо, худо, а все же хоть что-нибудь говорили, а новые так совсем не ходят, а если и придут, то ничего ровно не скажут… Теперь с удовольствием удрал бы хоть к черту на кулички, лишь бы не видеть своего позорного этюда. Только одно слабое утешение осталось – это то, что у многих в этюдном хуже меня. Но разве можно утешать себя тем, что много лучше моего, хотя есть и хуже. Даже было бы утехой, если бы можно было сказать, что мало этюдов лучше моего. Но этого (сознаюсь) сказать нельзя. Ничего делать не хочется. Вот на столе четыре книги непрочитанных – надо читать, а не хочу… Черт дернул нас поместиться в плафоны. Этак и на рисунке не выедешь – тогда совсем труба. Ох, удалят, чую, удалят. Ошельмуют на весь свет. Хоть из Питера тогда уезжай. Какими глазами на меня знакомые посмотрят… Да ведь тут по самолюбию прежде всего ударят – это самое больное место. Господи, не допусти до этого позора!» (Там же, 17.11.1894).
Следует ли специально останавливаться на таких «умаляющих» местах в студенческих дневниках Н. К.? Конечно, нет. Но нельзя и умышленно закрывать на них глаза. Вырванные из контекста, они могут натолкнуть на ложные выводы. Однако тщательно «просеянный» дневник тоже не даст истинной картины той борьбы и пылких поисков, которыми Н. К. был обуреваем в молодости. Не без основания он сам писал в 1918 году: «Теперь мое пламя уже другого цвета. Я спокойно могу определить цвет пламени бывшего <…>. Вообще, бойтесь алого пламени. Оно выедает все ценные условия восхождения и ясного сознания. Это пламя – пламя судороги, припадка, но жить и созидать среди этого пламени нельзя». (Н. К. Рерих. «Пути Благословения»).
Испытал ли Н. К. на себе опаляющие касания «алого пламени»? Думается, что если бы не испытал, то и не писал бы об этом. Больше того: не принес бы жертвы «вхождения в материю», при которой Величайшие Сущности как бы теряют связь со своим Высшим Я и обретают ее вновь «руками и ногами человеческими». Цвет пламени зависит поэтому не только от Светильника, но и от горючего, которым его наполняют. А это горючее – не что иное, как те несовершенные условия жизни, в которых оказываются все, пришедшие с Высоким Поручением.
Воплощение вряд ли имеет особое значение, если преследует только самоусовершенствование. Перед Архатом ставятся эпохальные задачи человеческой эволюции. И можно ли приступить к их решению, не преоборев в самом себе то, что угрожает миру, что предназначено к ломке и коренному переустройству? Ведь для очищения групповой кармы и строительства новых исторических этапов появляются на Земле Посланники Братства и жертвует собою сам Ману. В «Книге о Жертве» ясно сказано, что трон и власть над народом были жертвою Соломона, что приятие мирского долга было жертвой Аллал-Минга, что ручательство за учеников было жертвою Оригена, что Сергий и Акбар приняли на себя тяготу и ответственность за оздоровление духовной жизни народа и утверждение общественно-государственных основ.
Летописи донесли до нас поучительные факты из жизни Соломона, Оригена, Сергия Радонежского, Акбара. Нам известны жизнеописания Аспазии, Жанны д'Арк, Кампанеллы, Джордано Бруно, Беме, Сен-Жермена, наконец, Леонардо да Винчи. Разве не были они в чем-то именно людьми своей эпохи? Разве не разделяли с ними их несовершенства, их заблуждения, их страдания, их тревоги, радости и чаяния? Не земные ли матери и отцы преподали им первые уроки любви и мужества, сострадания и сурового следования долгу? И не земной ли Подвиг увековечил их имена на скрижалях истории человечества?
Ко многому, казалось бы, не совместимому с высотой своего духа, прикасается Архат, неся свою добровольную миссию. И такое «падение в бездну житейскую» происходит отнюдь не в силу казуистической формулы «случается орлам и ниже кур спускаться…», а по закону извечной жертвы высшего низшему.
Раскрытие накоплений Величайших Индивидуальностей, становление тех их качеств, которые особенно важны для выполнения очередных задач эволюции, в каждом их воплощении стимулируется присущими данной эпохе средствами, ибо духовный и интеллектуальный уровень людей той или иной эпохи, а не личная карма, вызывают необходимость вмешательства Архата в «дела человеческие». Именно исходя из этого, а не с позиции злополучного орла, случайно спустившегося «ниже кур», мы должны рассматривать мельчайшие подробности биографии Н. К. и не вправе умышленно замалчивать их. Таким замалчиванием только умаляются и Жертва, и Подвиг Архата, зачеркивается при этом и значение выдающегося памятника древнебуддийской литературы «Гирлянда джатак, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы», который так высоко ставил Ю. Н. и который вышел у нас по его инициативе и под его редакцией.
Студенческие дневники Н. К. наглядно свидетельствуют о том, как обычные жизненные обстоятельства пробуждали в нем чувство сострадания, вызывали мысли о личной ответственности за мирские горести: «Сейчас на меня ужасно удручающее впечатление произвел рассказ отца о какой-то семье, оставшейся без средств. Господи! Еще я позволяю себе иной раз жаловаться, когда не хватает рубля на удовольствия, а тут… Нет, как послушаешь о таком несчастье, то более доволен бываешь своей жизнью. Сидишь себе в кабинете, который своей уютностью Антокольского даже вдохновил к эскизу, все живо, никто не мешает работать, средства к работе все налицо. И какое право я имею иногда думать и жаловаться на свою жизнь?.. Грех, грех сущий». (Дневник, 07.03.1895).
Студенческий дневник пестрит и заметками об охоте: «Заполье требует извещения, хочу ли я возобновить охотничий контакт, – конечно, хочу»; или: «Хочется на охоту, а бесова весна нейде, да и только»; или: «Был на охоте. Славно провел три ночи в лесу. Не ожидал от себя такой прыти. Иван кричит: „Барин, постойте“. А я бегу за медведем, а он уже удрал». (Там же, 01.04.1895, 09.04.1895, 24.04.1895).
Охота – и величайший гуманист своего времени: кажется, нет более противоречивых и несовместимых понятий. Но не охота ли сближала Н. К. с природой, учила его понимать ее, воспитывала внимательность, находчивость, терпение, мужество – все то, что впоследствии оказалось столь нужным в дальних и трудных походах?
Свойственные возрасту тревоги и предчувствия диктовали Н. К. строки, которые сродни любому юношескому дневнику: «Недавно мне говорили товарищи, надо бы тебе влюбиться, что ли, а то ты делаешься жестоким. Что ж, может быть, правда это для меня было бы полезно. Только в кого? Могу предложить большую награду, т. е. предложить потребовать от меня все что угодно, тому, кто укажет, в кого бы я мог влюбиться или, так сказать, влюбить в себя. Гоголь недаром сказал: скучно на этом свете, господа!». (Там же, 06.10.1894).
В семье Рерихов религиозное воспитание не сводилось к строгому выполнению церковной обрядности. И это вполне понятно, ведь отец Н. К. принадлежал к лютеранской церкви, в которой обряды сведены к минимуму. Н. К. без особого почитания отзывался в дневниках о сюжетах своих первых иконописных работ. Тем не менее он посещал богослужения и отмечал выдающихся представителей православия: «Будущее воскресенье непременно надо повидать о. Иоанна. Иначе я буду неспокоен, принимаясь за академическую работу. Недавно спорил об о. Иоанне со Скаловым, он говорит, что это суеверие, ан нет. Для меня о. Иоанн – просто весьма уважаемый симпатичный человек, слово которого я ценю». (Там же, 20.10.1894).
И позднее Н. К. вспоминал: «Сказал Иоанн: „Не болей, придется много для Родины потрудиться“. А ведь после болезни он не видел меня десять лет. И узнал. Остановил и сказал». (Н. К. Рерих. «Пути Благословения»).
Обычными каналами подходило к Н. К. все пробуждающее его высокую духовность, и самым «естественным», а не «сверхъестественным» путем пришли первые сведения, первые мысли о Востоке: «Мне весьма любопытно. Было ли на русское искусство два влияния: византийское и западное, или еще было и непосредственно восточное. Кое-где нахожу смутные указания на это». (Дневник, 21.02.1895).
Среди студенческих документов и материалов Н. К. хранятся страницы, озаглавленные им: «Выписка для моей книги „О парсах и их религии“ из труда Е. П. Блаватской „Из пещер и дебрей Индостана“». (ОР ГТГ, ф. 44, е. х. 33).
Отдельными изданиями эта книга выходила в 1883 году в Москве и в 1893 году в Петербурге. Очевидно, именно последнее уже вскоре после выхода попало в руки Н. К.
Разнообразие и широту интересов молодого Н. К. характеризует разработанный им в конце 1894 года «Устав кружка художников для взаимного самообразования». Ему предпосланы эпиграфы: «Один в поле не воин» и «Вперед… вперед без оглядки» (Крамской).
Вводная часть устава предусматривает пополнение художественного образования, для чего Н. К. предлагает проводить совместные чтения книг и рефераты по философии, истории, естествознанию, психологии, беллетристике.
Переписка Н. К. с В. В. Стасовым в последний год обучения в Академии художеств и сразу после ее окончания свидетельствует о большой любознательности Н. К., его готовности без конца черпать знания, которые ему может предложить маститый критик, а вместе с тем о наличии собственных взглядов и, опять-таки, острейшей реакции на неблагожелательные отзывы. Так, отрицательный отзыв Стасова и его солидарность с мнением Репина о картине Н. К. «Сходятся старцы» послужили причиной для столь резкого, да еще посланного специальным посыльным письма Н. К., и если бы не сдержанность Стасова в этом конфликте, то он мог бы обернуться полным разрывом.
Дневниковые записи после окончания Академии художеств подтверждают, что внешне собранный и умеющий владеть собой молодой Н. К. остро, подчас даже болезненно переживал все события в художественном мире, хотя бы в самой малой мере касавшиеся его. Работа в Обществе поощрения художеств, столкновения с противниками из лагеря «Мир искусства», разногласия по некоторым проблемам со Стасовым и его соратниками, полемические выступления в прессе – все это до крайности нервировало Н. К., побуждало к резко отрицательным отзывам о людях, которые какими-то своими действиями пересекали ему дорогу, мешали осуществлению его намерений. Но кроме всего прочего это указывает и на чуткость Н. К., на отсутствие в нем равнодушия к людям и событиям.









