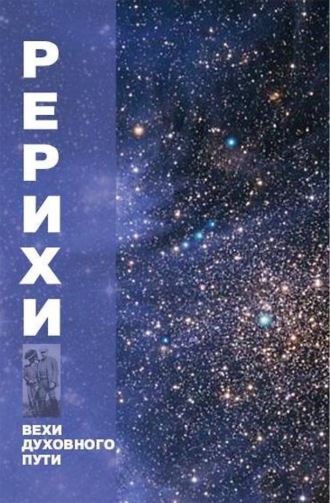
Полная версия
Рерихи. Вехи духовного пути
Архивные материалы, ранние публикации, высказывания современников имеют много доказательств тому, что в молодости Н. К. еще не обладал той житейской мудростью, той глубиной самопознания и понимания людей, тем умением широчайшего сотрудничества с ними, которыми он отличался в зрелые годы.
Напряженное, насыщенное противоречиями, стоящее на грани небывалых кармических взрывов время готовило к битвам и обогащало опыт Н. К. со всей суровостью, присущей этой поре и ее людям. Путь к Подвигу был столь же сложен и труден, как и сам Подвиг. И в этом заключалось величие Жертвы, добровольное испитие земного яда. Именно им, а не напитком Амриты наполнена Чаша Служения от времени Будды до наших дней.
Возможно, что со временем будут открыты и обнародованы подробные материалы о детстве и молодости Е. И. В очерках Н. К. «Лада» и «Сорок лет» затрагиваются более поздние периоды. В очерке «Великий облик» есть очень краткое упоминание о детских годах: «От малых лет девочка тайком уносит к себе тяжелое, огромное издание. Склонясь под тяжестью непомерной ноши, она украдкой от больших уносит к себе сокровище, чтобы смотреть картины и, научась самоучкою, – уже читать. Из тех же отцовских шкафов, не по времени рано, уносятся философские сочинения, и среди шумного, казалось бы, развлекающего обихода самосоздается глубокое, словно бы давно уже законченное миросозерцание. Правда, справедливость, постоянный поиск истины и любовь к творящему труду преображают всю жизнь вокруг молодого, сильного духа». (Н. К. Рерих. «Нерушимое»).
Если сам Н. К. не считал нужным оповещать до времени о подробностях жизни Е. И., то понятно, с какой осторожностью и душевным трепетом должны к этому вопросу подходить мы. Несказуемое было сущностью Е. И., и З. Г. Фосдик в своем докладе «Великая жизнь», прочитанном 10 октября 1963 года в секции «Агни Йога» (Нью-Йорк), точно отметила: «Человеческому уму трудно вместить факт, что „Носитель Истины и Закона“ должен одновременно пребывать на двух планах, высшем и земном, упорно стараясь сгармонизировать столь противоположные условия».
Тем не менее, опираясь на документы, которые хранятся в общедоступных и частных архивах и могут быть использованы врагами Света в своих неблаговидных целях (а такие попытки уже имели место), мы обязаны проследить некоторые обстоятельства жизни Е. И. и Н. К., касающиеся того «сосредоточения земного», которое предшествует тонкому и огненному. В своей Великой Жертве Е. И. не уклонилась от закономерной последовательности и явила нам пример доблестной победы теми обычными средствами, которыми наделен каждый из нас. Жалуясь на свои трудности и ограниченные возможности, мы подчас не прочь употребить по отношению к Н. К. и Е. И. «самооправдательную» формулу: «Легко Владыкам». Эту трижды лживую формулу Е. И. и Н. К. опровергли тем, что свои жизненные пути они начали прокладывать в общих для всех условиях и доступными всем методами.
Одним из наиболее интересных свидетельств о молодости Е. И. и ее встрече с Н. К. являются сейчас воспоминания Наталии Владимировны Шишкиной, записанные ею в Караганде, в доме инвалидов, и датированные 1956 годом. Они значительны во многих отношениях, и потому приведем их текст полностью:
«Елена Ивановна, урожденная Шапошникова по отцу и правнучка великого полководца, героя 1812 года Михаила Илларионовича Кутузова – по матери своей. Мать Елены Ивановны – Екатерина Васильевна Голенищева-Кутузова.
Е. И. рано лишилась отца, была единственной дочерью у родителей и жила с матерью вдвоем. Они обе очень любили друг друга, и мать ее, очень добродушная, милая старушка, сохранившая свою былую красоту, не могла налюбоваться на свою Ляличку, как ее тогда все и называли. Да и не только мать восторгалась ею. Все, кто ни встречал Е. И., не могли равнодушно пройти, чтобы не обратить внимание на ее выдающуюся наружность. Высокого роста, стройная, очень пропорционально сложенная. Полная изящества, женственности, грации и какого-то внутреннего обаяния всего ее облика, она невольно притягивала к себе все взоры. У нее были роскошные светло-каштановые, с золотым отливом волосы и пышная прическа, высокая, по моде того времени; прелестный небольшой ротик, жемчужные зубы и ямочки на щеках; когда она улыбалась, а улыбалась она часто, все лицо ее освещалось теплом и лаской. Но что было самое притягательное в ее лице – это ее глаза, темно-карие, почти черные, миндалевидные, продолговатые, какие бывают у испанок, но с другим выражением. Это были лучезарные очи с длинными ресницами, как опахала, и необычайно мягким, теплым, излучающим какое-то сияние взглядом. Глаза ее иногда щурились, как будто грелись на солнце, и мягкое, теплое, ласковое выражение их озаряло и ее саму, и всех окружающих, кто в данный момент смотрел на нее. У нее был очень мелодичный и нежный голос и всегда очень ласковое обращение, любила она называть уменьшительными именами близких ей людей. Нос у нее был неправильной формы, удлиненного фасона, но он гармонировал со всеми чертами ее лица.
В ней были какое-то очарование, шарм и необычайная женственность всего ее облика. Любила наряды, всегда по последней моде одетая, очень элегантная; носила серьги, ожерелья и вообще драгоценные украшения. В ней было сильно развито чувство красоты, которую она всюду проявляла как своим внешним обликом, так и своим внутренним содержанием. Жили они с матерью в тогдашнем Петербурге, и вела она очень светский образ жизни, но всегда имела вид наблюдающей жизнь, ищущей чего-то другого, более вдохновенного, более глубокого содержания; у нее были какие-то искания, и пустая, светская, шумная жизнь ее не вполне удовлетворяла.
Тут надо сказать несколько слов о ее родне, семье ее тетки, родной сестры ее матери, Евдокии Васильевны, урожденной тоже Голенищевой-Кутузовой. Евдокия Васильевна обладала необычайно красивым колоратурным сопрано и пела с огромным успехом в опере Мариинского театра в Петербурге. В нее влюбился богатый князь Митус(ов), заплатил театру громадную неустойку, она ушла со сцены и вышла за него замуж. Но это был человек с тяжелым характером. Они развелись, и Евд. Вас. вышла замуж за князя Путятина, который нуждался в матери для своих двух сыновей. От этого брака у них были две дочери. Искусство музыки и пения царило в их доме, пели и дочери, и она сама. Дом их напоминал дом Ростовых в „Войне и мире“. Вот та обстановка, в которой Е. И. проводила свою молодость.
У князя Путятина был свой особняк в Петербурге и имение в Новгородской губернии. Они вели великосветский образ жизни. У них бывали блестящие балы, и, конечно, на этих балах бывала Е. И., всегда в красивом бальном туалете; она мало танцевала, больше сидела где-нибудь в конце зала, окруженная толпой поклонников. У нее было много завистниц ее успехам в обществе, много предложений выходить замуж. Один очень блестящий молодой человек, бывший лицеист, единственный сын у родителей, миллионер, ему принадлежало Общество пароходства на Волге „Самолет“. Он был без памяти влюблен в Е. И., делал ей предложения, но и он получил отказ. Все окружающие ее и родные не могли этого понять: как отказать такому жениху, о котором мечтали все петербургские красавицы.
Но она говорила, что поставила себе задачей в жизни выйти замуж за знаменитого служителя искусства, будь то музыкант, певец, художник, живописец или скульптор, но непременно человек с высшим дарованием и талантом. И вот ее желание исполнилось. Лето ее мать и она всегда проводили в имении кн. Путятина, у ее тетки, станция Бологое Новгородской губернии, на берегу прекрасного озера двадцати двух километров в окружности. Сам кн. Путятин был археолог, член, а может быть, и председатель „Общества археологов“ в Петербурге. Новгородская губерния богата раскопками очень древних наслоений ископаемых. К нему часто наезжали другие археологи. Однажды вся семья Путятина отправилась в свою деревенскую баньку, построенную тут же на краю парка, на берегу озера. Е. И. первая вернулась и, проходя через переднюю, увидела в углу сидящего человека; она машинально взглянула на него и прошла мимо, приняв его за охотника или за одного из служащих кн. Путятина.
Сам князь был в это время в отъезде, тоже по делам раскопок, уехал на несколько дней. Она не очень большое внимание уделила сидящему ожидающему человеку, но этот скромно сидящий человек с огромным удивлением перед ее красотой поглядел на нее. Она шла с распущенными после мытья волосами, которые, как длинная пелерина, окутывали сверху донизу ее стан. Вернувшись из бани, вся семья села за стол в столовой ужинать, и тут только Е. И. вспомнила о том, что в передней „сидит какой-то человек, приехавший, должно быть, по делу к дяде“. Спохватились, пошли к нему, пригласили его к столу. Это был невзрачно одетый, в охотничьих высоких сапогах, куртке и фуражке, человек, очень скромно назвавший свою фамилию – Рерих. Из разговора выяснилось, что он и есть знаменитый уже в то время художник Рерих, чьи картины уже были в Третьяковской галерее в Москве и на выставках картин в Петербурге, и что приехал он к ним, к старому князю-археологу по делам археологических раскопок, производимых в этой местности. Старик-князь задержался в пути, и несколько дней прогостил Рерих в их усадьбе в ожидании приезда князя.
И вот за эти несколько дней решилась вся судьба Е. И. Вот тот человек, которого так долго ожидала ее душа! Вот оно – то вдохновение, которое она так давно искала! Любовь взаимная решила все! Рерих уехал счастливым женихом, а она сияла от счастья. По приезде осенью в Петербург, когда все съехались, состоялась их свадьба в церкви при Академии художеств, на Васильевском острове. Е. И. сама приезжала приглашать гостей к себе на свадьбу. Поселились молодые в здании „Поощрения искусств“ на Большой Морской, где Рерих имел казенную квартиру. От этого брака было у них два сына: Светик и Юрик, как она, нежная мать, называла их.
Как-то летом, спустя много времени, Рерихи наняли в красивой усадьбе Новгородской губернии дом на лето, за отсутствием хозяев. Катаясь, мы заехали к ним. Е. И., очень любезная и милая хозяйка, после чая вынесла на террасу две картины, из них одна – „Ноев ковчег“, другая – „Иов три дня во чреве кита“, в темных библейских красках и тонах та и другая. Н. К. картины рисовал, а комментарии к ним писала Е. И., длинные пояснения, прилагаемые к каждой картине, их символическое значение и толкование. Написаны они были на длинных лентах бумаги, напоминавшей древние папирусы. Так вдохновляла Е. И. своего мужа, и так вдохновлял он ее. В нем она нашла то, к чему стремилась.
С самого первого года замужества она проводила лето на раскопках Новгородской губернии, живя с ним в землянках, просто одетая, как того требовала их совместная работа, на удивление всех родных ее, которые не понимали, как она могла мириться с такими, на раскопках (конечно, только летом), первобытными условиями жизни.
И так всю жизнь прошли они рука об руку, полную взаимного понимания и любви. Вот где настоящий брак двух любящих сердец и душ!
Когда скончалась ее мать после трудной операции, все собрались туда на панихиду. Е. И., облаченная в траур, но не в креп, как обыкновенно, а в длинную шелковистую, как фата, ткань, была очень женственна и хороша. Она во всем всегда и в том, что касалось ее внешности, соблюдала красоту своей одежды. Такой она сохранилась в памяти, такой ее все помнили. Позднее она писала своей подруге, другой двоюродной сестре Р., дочери третьей сестры – Людмилы Васильевны, рожденной также Голенищевой-Кутузовой. С этой двоюродной сестрой она была особенно близка и дружна. Эта ее кузина не была так красива, как другие ее родственницы, но была очень умна, талантливая поэтесса и переводчица новелл иностранной литературы, хорошо знавшая иностранные языки. Е. И. тоже их знала и много позднее встретила свою бывшую гувернантку французского языка, парижанку, и хотя эта француженка была очень малообразованная, тем не менее Е. И. радостно ее приветствовала, что указывает на ее простоту обращения со всякого рода людьми.
В письмах к своей любимой двоюродной сестре, уже из Индии, она писала, что вся предается изучению новых откровений, которые так долго искала ее душа. И что она уже никогда не покинет те страны и останется там навсегда, лучезарная, светлая и счастливая своими духовными высшими достижениями.
Вот все, что подсказала память о давно прошедших летах».
Эти воспоминания человека, очевидно, близко знавшего сестер Голенищевых-Кутузовых, получили у нас распространение и частично использованы в некоторых трудах об Н. К. Более чем полувековой промежуток между событиями и записью вызвал неизбежные в таких случаях неточности. Вместе с тем запись очень ценна как наличием малоизвестного фактического материала, так и указаниями на возможные новые каналы его поисков.
Н. К. в очерке «Мусоргский» упоминает о четырех сестрах Голенищевых-Кутузовых, которых М. П. Мусоргский, часто бывавший в их доме, прозвал: «Додонский, Катонский, Людонский, Стасонский». Это: Евдокия Васильевна, по первому мужу Митусова и по второму – Путятина, Екатерина Васильевна Шапошникова – мать Е. И., Людмила Васильевна Рыжова и Анастасия Васильевна Шаховская.
Сын Евдокии Васильевны от первого брака – Степан Степанович Митусов (1878–1942), музыковед – был очень близок Е. И. и Н. К. не только по родственным связям, но и по своему восточному философскому мировоззрению. Поэтому к нему мы в дальнейшем еще вернемся. Две дочери Митусова – Людмила Степановна и Татьяна Степановна – проживают до нашего времени в Ленинграде. У них сохранились некоторые фамильные фотографии, картины, книги, переписка и другие предметы, имеющие прямое отношение к Е. И. и Н. К. Людмила Степановна и Татьяна Степановна помнят о детских годах Ю. Н. и С. И. Ю. Н. по-родственному тепло принимал сестер Митусовых у себя в Москве и посещал их, наезжая в Ленинград, так же как и С. Н. много встречался с ними, когда в 1960 году был у нас с выставкой своих картин.
Все связанное с жизнью Екатерины Васильевны перешло к Е. И., то есть в семейный архив Н. К.
С Анастасией Васильевной и ее мужем Я. М. Шаховским Е. И. и Н. К. потеряли связь после 1917 года. Очевидно, ранее между их семьями существовали близкие отношения, так как в письме ко мне от 19 июля 1938 года Н. К. сообщил: «Н. Ф. Роот прислал мне номер журнала „Сельское хозяйство“ со своей статьей. Среди сотрудников этого журнала упоминается Я. М. Шаховской, бывший директором сельскохозяйственной школы во Пскове, и где он сейчас? Постоянно приходится встречать друзей и родственников в совершенно неожиданных местах».
Я съездил в Печоры (ныне Псковской области), где жил и работал агроном Я. М. Шаховской, познакомился с ним и его семьей. Шаховские поделились со мной своими воспоминаниями о Рерихах, материалов же архивного значения у них тогда уже не было. Я отписал подробности беседы Н. К., и в своем письме от 19.10.1958 года он ответил: «Мы были рады, что Вы встретились с Яковом Шаховским. В одном он ошибся: к военному делу тяготел всегда Юрий, а не Святослав». Следует считать, что по этой ветви никаких новых сведений теперь уже не найти.
Остается еще Людмила Васильевна Рыжова, у которой, судя по воспоминаниям Н. В. Шишкиной, была дочь, литератор и переводчик, и Е. И. с нею переписывалась уже из Индии. Этот потенциальный источник получения неизвестной информации не использован и заслуживает внимания будущих исследователей.
Ввиду того, что воспоминания Н. В. Шишкиной могут в дальнейшем заинтересовать авторов книг и статей о Н. К. и Е. И., к ним необходимо сделать несколько замечаний:
1. Е. И. не отличалась высоким ростом и «небольшим ротиком». Фотографии и портреты Серова и С. Н. указывают на средний рост даже при высокой прическе и скорее удлиненную форму тонких губ. В остальном описание внешности с фотографиями и портретами не расходится.
2. В Новгородской губернии Е. И. и Н. К. проводили лето 1902 года (в Окуловке, где родился Ю. Н.) и часть лета 1909 года (в Бологом). В 1904, 1905 и 1908 годах Е. И. и Н. К. жили в усадьбе «Березка» бывшей Тверской, а не Новгородской губернии. Рисунков или картин «на длинных листах бумаги», о которых пишет Н. В. Шишкина, мы не знаем по самым подробным спискам произведений Н. К. как за эти, так и за предыдущие годы. Неизвестны также письменные комментарии Е. И. к картинам Н. К. Поэтому здесь мы имеем дело или с чем-то утерянным, или с ошибкой мемуариста, вызванной дальностью времени.
3. Ошибочны указания на то, что Н. К. уехал в 1899 году из Бологого уже женихом Е. И. и осенью они повенчались в Петербурге. Бракосочетание состоялось двумя годами позже (28.10.1901), по возвращении Н. К. из Франции. Также не соответствует действительности то, что Н. К. и Е. И. после свадьбы поселились на Большой Морской. На эту квартиру они переехали в 1906 году, после назначения Н. К. директором школы Общества поощрения художеств. Сам Н. К. упоминает, что еще в 1905 году они жили в доме Кенига на Пятой линии Васильевского острова (см. «Блок и Врубель»). К этому же времени относится и упоминание Н. К. о своей мастерской в Поварском переулке.
Подобные «мелочи» и «неточности», проникая в публикации, подчас приводят к ошибочным выводам уже немалого значения. Поэтому их выявление и исправление необходимы.
В дневнике Н. К. за 1899 год имеются такие упоминания о Е. И.: «Вчерашний вечер не дает покою. Кажется, хочется видеть, постоянно чувствовать» (06.12.1899); «Кажется, что-то серьезное выходит с Е. И.» (10.12.1899); «Вчера, 30-го, сказал Е. И. все, что было на душе… Странно, когда в первый раз принимаешь в расчет не только себя, но и другого человека» (31.12.1899).
Эти записи указывают на то, что после встречи в Бологом Н. К. и Е. И. продолжили знакомство в Петербурге и только там встал вопрос о браке.
В это время перед Н. К. со всей остротой стояла проблема продолжения художественного образования за границей. Спешно нужно было решать и другие дела по своему жизнеустройству после получения диплома художника. Началась работа в журнале «Искусство и художественная промышленность» и помощником директора музея Общества поощрения художеств.
В рукописном отделе ГТГ, в фонде Н. К., хранятся его письма к Е. И. из Петербурга, вероятно, в Бологое, куда могли выехать на лето Е. И. с матерью. В этих письмах Н. К. уже называет Е. И. своей невестой. Письмо нешуточного характера, начинающееся словами: «Милостивая Государыня Наидрожайшая невеста моя Елена Ивановна» (полностью приведено в книге Е. И. Поляковой), датировано 16 июля 1900 года. Похоже, что первоначально имелось решение сыграть свадьбу еще в этом году и вместе поехать за границу (предполагался не Париж, а Мюнхен, где была Академия художеств и известные частные школы). 26 августа 1900 года Н. К. писал Е. И.: «… Опять думал о нашем будущем заграничном житье и все более восторгаюсь им. Мы на покое укрепим нашу технику, совместно проштудируем всю историю живописи и музыки, а также наиболее важные философии. (Прочти у Ницше „Вторая плясовая песнь“ – не правда ли, прелесть – это в конце Заратустры. Какие у него глубокие символы!) И таким образом проработав год, мы вернемся домой во всеоружии, более близкие к выполнению нашей задачи кружка. Для руководительства необходимы также факты, а их у нас пока мало…»
Первые встречи, дальнейшее знакомство, пробуждение взаимного чувства – все это у Н. К. и Е. И. протекало в плане «сосредоточения земного», однако скорее «всеохватывающего», чем «всепоглощающего». Не только о личном счастье, но и о большой творческой жизни думал Н. К., готовясь к женитьбе. Это видно из его дневников, где рядом с упоминаниями о Е. И. разбираются самые разнообразные вопросы художественной деятельности и взаимоотношений с окружающими людьми. Очень показательно и такое письмо к Е. И. от 28 июня 1900 года:
«Ты пишешь, что мы самые обыденные люди; будем скромны и скажем, что и все люди обыкновенные едят, пьют, болтают языком все на один манер. Но для наших успехов мы сами не должны считать себя заурядными людьми: тогда пропадет смелость и уверенность, а без этих качеств никакого города не возьмешь.
В момент творчества, а творчество проявляется, как известно, во всем, до малейшего жеста и интонации включительно, всякий человек считает себя выше всех (это чувство вполне инстинктивно), считает все своим, и винить его за это (скверное) чувствование не приходится, ибо иначе не было бы и творческого порыва, а всякий творческий порыв, конечно, дает больше счастья людям (вызывает ли он улыбку, смех, радость, сознание добра и зла и пр.), чем любая рассчитанная методическая деятельность. Этот же творческий момент важен не только для воспринимающих результат его, но и для самого автора, который очищается духовно, на миг сбрасывая всю пыль и грязь, наложенную на человечество вековою, как ее называют, блестящею культурою нашею, так изломавшею и унизившею наше основное человеческое достоинство и превратившею людей в какие-то чернильные банки с ярлыками.
За эти моменты и ценится так высоко искусство! Стали бы люди так почитать его представителей, которые со стороны экономической являются язвами государства!
Но, по счастью, мой обыденный человек, дух еще царит над практикой, и до той поры и думать не смей о своей обыденности, а думай, сколько разнообразных счастливых чувствований можешь ты дать человечеству и среди общей радости создать и свою.
Особенно порадовало меня появление в твоих письмах дум и размышлений, будем ими делиться, моя хорошая, добрая Лада».
Что именно помешало Н. К. и Е. И. обвенчаться осенью 1900 года и вместе поехать за границу, как это было задумано? Вероятно, стечение многих обстоятельств, среди которых были болезнь и смерть отца Н. К. Имущественное положение Константина Федоровича было далеко не столь блестящим, как это казалось со стороны, и после его кончины сразу же пришлось приступить к различным ликвидациям, чтобы получить средства на жизнь и дальнейшее образование детей.
Из опубликованных биографий Н. К. мы знаем о его отце сравнительно мало и в основном лишь о тех годах, когда он был уже известным в Петербурге нотариусом с обширным кругом знакомств среди ученых, художников, литераторов. Константин Федорович принадлежал к шведскому роду, поселившемуся на территории нынешней Латвии, невдалеке от балтийского побережья, где-то около города или в самом городе Айзпуте (б. Газенпот). В прошлом это был небольшой уездный городок в Курляндии, со старинным замком, построенным в 1263 году Тевтонским орденом. Эта часть Курляндии была местом частых войн и, до того как перешла к России, находилась в подчинении и Литвы, и Швеции, и Дании, и Польши.
Представители фамилии Рерих занимали видные военные посты в России начиная с царствования Петра I. Братья деда Н. К. служили в привилегированном Кавалергардском полку и участвовали в Отечественной войне 1812 года. Дед Н. К. пошел по гражданской службе, долго жил в Риге и занимал значительный по тому времени пост губернского секретаря. Как младший в семье (ему было двенадцать лет, когда его братья сражались под Бородиным) он не владел наследственной недвижимостью. Известно, что один из его сыновей – Александр Федорович – жил в Архангельске. Его дочь – Мария Александровна – была замужем за известным ботаником, членом-корреспондентом АН, профессором Кузнецовым (1864–1932). С 1895 по 1918 год Н. П. Кузнецов числился в профессуре Дерптского (Тартуского) университета, а с 1922 по 1932 год был заведующим отделом ботаники Главного ботанического сада Института ботаники АН СССР. Дочь Кузнецова – Елена Николаевна Светова (ее муж – внук А. В. Светова, агробиолога, хорошего знакомого Константина Федоровича) – научный сотрудник Государственного исторического музея в Москве. У Е. Н. Световой сохранились семейные фотографии Александра Федоровича Рериха, но документальных подтверждений общения двух братьев между собою нет. Между тем они, конечно, сносились друг с другом, так как их отец, доживший до ста четырех лет, в последние годы жил с К. Ф. Рерихом в Петербурге. Н. К. хорошо его помнил и описал в очерке «Дедушка» (Книга первая, М., 1914). В очерке упоминается о книгах, картинах, старинной мебели в кабинете деда и о масонских знаках, которые разрешалось детям смотреть, но никак не надевать. Более чем вероятно, что дед и его старшие братья входили в масонские ложи. Они имели тогда большое распространение, и даже Кавалергардский полк, в котором служили братья деда Н. К., был специально сформирован Павлом Первым для гвардии великого магистра ордена Св. Иоанна Иерусалимского, так что в начале XIX века в этом полку особенно сильно насаждались масонские традиции. В связи с этим следует отметить, что по отцовской линии до Н. К. дошли рассказы, книги и различные предметы, пробуждавшие с детских лет его интерес к Востоку и «тайноведению».
Отец Н. К. родился 1 июля (по старому стилю) 1837 года в Газенпоте, учился в Петербурге в Технологическом институте, но не окончил его и был утвержден нотариусом в Петербурге 30 ноября 1867 года. Бракосочетание Константина Федоровича с Марией Васильевной Калашниковой состоялось 16 октября 1860 года, то есть еще до определения К. Ф. нотариусом. Венчали их в Троицком соборе г. Острова, по месту жительства невесты. Во всех документах, в том числе и свидетельствах о рождении детей, отмечалось, что Константин Федорович лютеранского вероисповедания, а его жена и дети – православного. Похоронен К. Ф. Рерих в Петербурге на Лютеранском кладбище, и его могила сравнительно хорошо сохранилась до наших дней.









