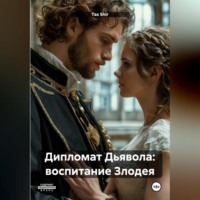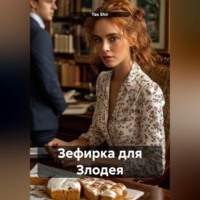Полная версия
Проклятье дома Белозерских
Отец попытался что-то сказать, создать видимость семейной идиллии, но атмосфера была густой, как смола. Радость его была придавлена. Задушена. Реалии двора встали стеной: старший сын, видящий в младшем угрозу; дочь, видящая в нем загадку (или угрозу иного рода?); толпа бояр, ждущая лишь повода, чтобы «чудо» окончательно превратилось в «простака» и «самозванца».
Я стоял между ними – Степа-Мирослав, Боярин-Простак. С пульсирующим оберегом на груди, как клеймом чужака. С отцом, чья любовь и надежда превратились в его ахиллесову пяту. С братом, который уже мысленно ставил мне подножку на пути к отцовскому вниманию и власти. С сестрой, чей холодный, аналитический взгляд, казалось, видел больше, чем все они вместе взятые.
Шепотки вокруг снова усилились, теперь уже адресные:
«…Владислав Игнатович недоволен, видать…»
«…Аринка-то присматривается… хитрая дева…»
«…Отцу-то что делать? Одного сына потерял, другого нашел, да только счастья нет…»
Чудо вернувшегося сына обернулось политической миной. И я, Степа, с моими знаниями о фотосинтезе и квантовой механике, был абсолютно беспомощен перед этим. Единственное, что я мог – это чувствовать жгучую тоску по простому школьному двору, где самым страшным был Костян с его тупыми шутками. Здесь же шутки были острее, ставки – выше, а «братья» смотрели на тебя не как на чудака, а как на мишень. И где-то в глубине, сквозь страх и растерянность, пробивалась ледяная мысль:
«Интересно, каков коэффициент трения этого мерцающего ковра? И хватит ли его, чтобы Владислав поскользнулся на собственной спеси?».
Старая добрая физика. Единственное, что оставалось по-настоящему моим в этом безумном мире парчи и предательства.
Глава 4: Территория Чужака, или Физика Выживания в Мире Парчи и Кинжалов
Радость отца. Хрупкая, как первый лед на весенней луже, она треснула и потонула в мутных водах боярского двора. После Грановитой Палаты даже роскошные покои, отведенные «чудом вернувшемуся сыну», казались не убежищем, а золоченой клеткой с решетками из косых взглядов и шепотков. Воздух здесь пах не воском и травами, а пудрой, притворством и холодной сталью – той, что пряталась в ножнах Владислава и во взгляде Арины.
Боярин Игнат приходил. Его мощная фигура заполняла дверной проем, но был он словно подраненный зверь. В глазах, обычно несущих тяжесть власти или глубину боли, теперь читалась растерянность. Радость его была отравлена. Отравлена ими – боярами, видевшими в возвращении Мирослава не благословение Сварога, а угрозу их интригам. Отравлена старшим сыном, Владиславом, чья ледяная вежливость была острее любой открытой вражды. Отравлена дочерью, Ариной, чей пронзительный, аналитический взгляд, казалось, сканировал душу на предмет фальши.
– Как себя чувствуешь, сын? – спрашивал он, садясь на резной стул, который скрипел под его весом. Его рука тянулась коснуться моего плеча, но замирала в сантиметре, будто боялась спугнуть мираж или подтвердить его нелепость. – Обычаи… сложны. Не гневайся на глупые речи. Забудешься.
Забудешься. Легко сказать. Когда прозвище «Боярин-Простак» уже витало по коридорам, прилипая к спине гуще бархата. Когда каждый неуклюжий шаг, каждое незнакомое слово вызывало сдержанный смешок или презрительное поджатие губ.
– Ничего, отец, – выдавливал я, пытаясь имитировать покорность, которой не чувствовал. Голос звучал чужим. – Привыкну. Память… может, вернется.
Он кивал, но взгляд его блуждал где-то за моей спиной, упираясь в резного дракона на стене. В его глазах читалась мука: как защитить это хрупкое чудо – сына, вернувшегося из небытия – от острых клыков его же мира? Как примирить кровную радость с жестокими реалиями власти? Он был могучим боярином, но против шепота двора, против холодной неприязни собственного наследника и настороженности дочери даже его власть казалась бессильной. Его любовь стала его слабостью, и все это видели. Особенно Владислав.
Старший брат. Владислав Игнатович. Наследник. Угроза.
Он не нападал открыто. Нет. Его оружие было тоньше. Он появлялся внезапно, как тень, на повороте коридора, когда я, под присмотром вечно бдительной Агафьи, пытался освоить лабиринт хором. Его черный кафтан сливался с тенями, а ледяные глаза выхватывали каждую мою неловкость.
– Брат, – его голос был гладким, как отполированный мрамор, но под ним сквозила сталь. – Заблудился? Хоромы наши, признаться, обширны. Требуют… привычки. Истинно боярской привычки. – Ударение на «истинно» было едва уловимым, но убийственно точным. Он смотрел на мои неуверенно поставленные ноги в мерцающих сапогах, на мой взгляд, жадно впивающийся в устройство светильника, а не в портреты предков. – Может, приставить к тебе слугу? Чтобы… направлял? А то неловко, ежели боярский сын споткнется о собственные ноги перед гостями. Опять же, оберег… не потеряй. Диковина редкая. – Его взгляд скользнул по пульсирующему диску на моей груди. Не зависть. Присвоение. Как будто этот артефакт уже был его собственностью, временно находящейся у неумелого пользователя.
Я молчал, сжимая кулаки в рукавах. Адреналин бил в виски. Не страх. Гнев. Чистый, животный гнев Степы, которого травили в школе, умноженный на ярость Мирослава, чье место и имя пытались украсть. Но открыто ответить? Это значило сыграть по его правилам, подтвердить свою «простонародную» несдержанность. Я лишь кивал, заставляя уголки губ дрогнуть в подобии улыбки.
«Коэффициент трения пола здесь явно ниже нормы. Физика, а не неловкость», – яростно думал я, глядя ему в ледяные глаза. Но слова оставались внутри.
Княжна Арина. Наблюдательница. Химик души.
Она не искала встреч. Но когда наши пути пересекались – в трапезной, у окон с витражами-созвездиями, – ее присутствие ощущалось физически. Она не говорила лишнего. Просто смотрела. Ее серые, дымчатые глаза, холодные и невероятно внимательные, сканировали каждое движение, каждую тень на лице. Она не смеялась, как другие. Не ехидничала, как Владислав. Она анализировала.
Однажды, когда я, оставшись на мгновение один (Агафья отвернулась за кубком), попытался осторожно ткнуть пальцем в мерцающую поверхность стола, пытаясь понять материал, ее тихий голос прозвучал прямо за спиной:
– Стол из древесины лунного ясеня. Пропитан смолой светляковых грибов. Тепло рук заставляет грибницу светиться сильнее. Нехитро. – Пауза. Ее дыхание едва касалось моего уха. – Но любопытно. Ты… исследуешь. Как алхимик субстанции. А не как боярин – владелец. Странно для… вернувшегося домой.
Я резко обернулся, натыкаясь на ее непроницаемый взгляд. В нем не было осуждения. Было чистое научное любопытство. Как к редкому жуку. И это было почти страшнее ненависти Владислава. Она видела не «Мирослава», не «Простака». Она видела чужака. Существо с иным мышлением. И это ее интересовало. Чем? Как потенциальной угрозой? Или как диковинным экспонатом? Я не знал. И это незнание сверлило мозг.
– Просто… необычно, – пробормотал я, отдергивая руку от стола, как от раскаленного железа.
– Да, – она чуть склонила голову, и в уголках ее губ дрогнуло что-то, отдаленно напоминающее улыбку, но без тепла. – Многое здесь необычно. Особенно для того, кто десять зим провел… в Ином. – Она произнесла «Иное» с особым ударением, будто ставя слово в кавычки. Потом плавно развернулась, ее серебристо-голубое платье зашуршало, как крылья ночной бабочки, и она растворилась в полумраке коридора, оставив меня с леденящим чувством, что я только что прошел первый, предварительный тест. И провалил его.
Как выжить? Вопрос висел в воздухе гуще ладана. Выжить не физически (пока что). Выжить как личность. Не сломаться под насмешками. Не дать растоптать себя Владиславу. Не стать объектом холодных экспериментов Арины. Не разбить окончательно и так надтреснутое сердце отца, который видел в тебе спасение, а получил проблему.
Я стоял у высокого окна, глядя на странный двор боярской усадьбы. Не на клумбы (здесь росли не цветы, а какие-то светящиеся кристаллические «кусты»), а на каменную кладку стены. Рассчитывал углы, прочность сцепления, коэффициент теплового расширения – все, что можно было измерить и понять. Физика. Моя старая крепость. В этом мире магии (или продвинутой науки?) она была островком стабильности. Закон всемирного тяготения работал и здесь. Яблоко (если бы оно здесь росло) все равно упало бы вниз.
План начал вырисовываться. Призрачный, как мираж в жаркий день, но единственный:
1. Наблюдать. Как Арина. Но не из холодного любопытства, а для выживания. Запоминать обычаи, жесты, интонации. Слова, которые режут, и слова, которые успокаивают. Друзей (если они есть) и врагов (Владислав и его клика были лишь верхушкой айсберга).
2. Анализировать. Как Степа. Этот мир работал по своим законам – социальным, энергетическим (оберег!), физическим (почему светятся грибницы?). Нужно понять их. Хотя бы основы. Знание – не только сила. Знание – щит.
3. Молчать. Говорить только необходимое. Не оправдываться. Не пытаться казаться своим. Пока я – «Простак с помутнением от Иного». Пусть так и будет. Лучше недооцененный чудак, чем явная угроза, которую нужно устранить.
4. Держаться за отца. Его любовь – моя главная защита, хоть и делает его уязвимым. Нужно быть осторожным, но давать ему ту самую искру надежды, что он так жаждет. Ради него. Ради себя.
5. Изучить оберег. Этот диск – ключ ко всему. К моему попаданию сюда. Возможно, к возвращению? Но сначала – к пониманию. Что он может? Как работает? Может ли он… защитить?
Путь не сулил легкости. Территория была чужой, населенной хищниками в парче и наблюдателями в шелке. Но Белая Ворона попала сюда не для того, чтобы ее ощипали. Она попала, чтобы выжить. А для выживания нужны не только перья, но и острый ум, терпение и… понимание фундаментальных законов, действующих даже в самых фантастических мирах. Даже если эти законы включали в себя не только гравитацию, но и яд боярских интриг и холодную логику княжны Арины. Я прикоснулся к холодному, пульсирующему оберегу.
«Ну что, – мысленно обратился я к нему, – летим дальше? Только осторожно. Здесь клюют больно».
И впервые за эти дни в уголках моих губ дрогнуло нечто, отдаленно напоминающее знакомую Степину иронию. Пусть горькую. Но свою.
––
План выживания – прекрасная абстракция, пока тебя не вытаскивают из относительной безопасности золоченой клетки на плац. Особенно по «любезному» приглашению старшего брата.
– Братец Мирослав! – Голос Владислава, как всегда, гладкий и холодный, разрезал утренний воздух, пахнущий чем-то острым и чуть металлическим. Он стоял посреди обширного, вымощенного темным, почти черным камнем плаца. Рядом – несколько молодых боярчиков, его неизменная свита. Их взгляды – смесь любопытства, ехидства и подобострастия к наследнику. На Владиславе был не парадный кафтан, а что-то вроде тренировочного дублета из плотной кожи, подчеркивавшего его атлетическое сложение. В руке – не шпага, а длинная, гибкая трость из темного, отливающего красным дерева. – Пора бы и оружие вспомнить. Или… в Ином совсем разучились?
Планируемое «молчание» дало трещину. Отказаться? Значит подтвердить слабость, дать ему новый козырь. Согласиться? Значит лечь под нож.
– Я… – начал я, но Владислав уже махнул тростью, легкий свист разрезал воздух.
– Не бойся, брат! Не сталью. Тростью. Для начала. Покажем собравшимся, – он кивнул на зевак, уже стекавшихся по краям плаца, словно на цирковое представление, – что кровь Белозерских, даже помутневшая от Иного, все еще горяча! Поддержим отца, а? Он так рад твоему возвращению… – Последние слова прозвучали особенно ядовито.
Звучало примерно так:
«Покажи всем, какой ты никчемный, и разбей ему сердце окончательно».
Меня подтолкнули вперед. Агафья, стоявшая в тени колоннады, сжала губы, но вмешаться не могла. Это была «мужская» забава. «Тренировка».
Все началось с «урока». Владислав двигался с убийственной грацией. Его трость мелькала, как змеиный язык, не причиняя сильной боли, но унижая с каждым прикосновением.
– Стойка, братец! Ноги шире! – Щелк! Трость больно отхлестнула по бедру, заставив меня пошатнуться. Смешки зрителей.
– Голову не опускай! Взгляд на противника! Разве в Ином не дрались? – Щелк! По плечу. Еще шаг назад. Камень плаца холоден даже сквозь подошвы сапог.
– Рука! Куда делась рука? Прикрывайся! Или там щиты из воздуха строить научили? – Щелк! По запястью. Больно. Унизительно.
Я пытался парировать, двигаться, но мое тело не знало этих рефлексов. Я был Степой, которого толкали в школьном дворе, а не Мирославом, обученным бою. Владислав играл мной, как кошка с мышью. Его ледяные глаза светились холодным удовольствием. Каждый щелчок трости, каждый мой неуклюжий рывок, каждый сдержанный смешок со стороны – это был не просто урок фехтования. Это был ритуал уничтожения. Публичная демонстрация того, что «чудо» – жалкий простак, недостойный имени Белозерских и пульсирующего оберега на своей груди.
Отчаяние поднималось комом в горле. Ярость, горячая и слепая, закипала в груди. Я видел лица зевак – насмешливые, жадные до зрелища. Видел Агафью, ее сжатые кулаки и беспомощную ярость. Чувствовал тяжелую пульсацию оберега, будто в такт учащенному сердцебиению. И сквозь все это – холодную, торжествующую маску Владислава. Наследника. Хозяина положения. Того, кто отнимал последние крохи достоинства.
Он сделал изящный выпад, трость описала дугу, целясь мне в лицо. Я инстинктивно рванулся назад, споткнулся о неровность плиты и рухнул навзничь. Удар о камень отозвался болью в спине и локтях. Воздух вырвался из легких с хрипом. Грязь? Нет, не грязь. Что-то темное, маслянистое, видимо, смазка для колесницы или что-то подобное, оказалось на камне возле поилки для коней. Она густо измазала мой роскошный тренировочный дублет и руки.
Сверху навис Владислав. Он не спешил добивать. Он наслаждался моментом. Трость легла концом мне на грудь, рядом с оберегом.
– Ой-ой, – произнес он с фальшивым сожалением, которое резало слух острее крика. – Опять споткнулся? Будто земля сама из-под ног уходит, братец Мирослав? Или… ты ей чужд? Как и всему здесь? – Он надавил тростью, не больно, но унизительно прижимая к земле. – Гляди, даже плац тебя отвергает. Мажется, как смерд. Может, и оберег-то твой… ошибается? Может, не кровь Белозерских в тебе, а грязь Иного?
Его слова. Его ледяной взгляд. Толпа, замершая в предвкушении финала унижения. Липкая, отвратительная грязь на руках, на груди, символ моего падения. И оберег… оберег под тростью Владислава пульсировал так сильно, что его вибрация отдавалась в костях. В нем вспыхнул тот самый фиолетово-изумрудный свет, но теперь он был горячим, яростным, как пламя.
Гнев.
Не мой. Вернее, не только мой. Это был гнев, поднявшийся из глубин. Из холодного камня подо мной. Из темной, маслянистой грязи, прилипшей к ладоням. Из самой почвы, которую он назвал отвергающей меня.
«Чужой?» – пронеслось в мозгу, уже не мыслью, а воплем. – «Ты назвал меня чужим? Ты назвал ЭТО грязью? Ты ДАВИШЬ?».
Я не сдержался. Не подумал. Просто выплеснул всю накопленную ярость, унижение, отчаяние и жгучую тоску по справедливости. Вопль, немой, но мощный, вырвался из самой глубины души и… ушел вниз. В ладони, вдавленные в холодный камень и липкую грязь.
И Земля ответила.
Не громом. Не молнией. Тихо. Ужасающе.
Камень подо мной… вздыбился. Не треснул, а именно вздыбился мягкой волной, как кожа гигантского зверя. Темная, маслянистая субстанция на моих руках и на камне ожила. Она не просто задвигалась – она полезла вверх, по трости Владислава, как черная, живая лента, с пугающей скоростью. Одновременно из щелей между плитами, из-под самого камня, где я лежал, рванулись наружу корни. Не тонкие корешки, а толстые, жилистые, темно-бурые щупальца, покрытые слизью и мертвой землей. Они обвили сапоги Владислава, резко и мощно дернув вниз.
Все произошло за мгновение.
Хруст! – не кости, а каблук сапога, сломанный неестественным рывком.
Вопль! – на этот раз настоящий, полный нечеловеческого ужаса и боли – Владислава. Он рухнул на колени, его безупречная поза разрушена. Трость выпала из руки, наполовину скрытая черной, шевелящейся массой, ползущей к его руке. Его лицо, всегда холодное и надменное, исказила гримаса первобытного страха. Он смотрел на корни, сковывающие его ноги, на черную жижу, ползущую по руке, как на исчадие ада. Лед растаял, остался только животный ужас.
Тишина. Абсолютная. Ни смешков, ни шепота. Только тяжелое дыхание, хлюпающий звук шевелящейся грязи и сдавленный стон Владислава, пытающегося вырваться из цепких корней. Все взгляды, полные ужаса и невероятного изумления, были прикованы ко мне. К Боярину-Простаку, лежащему в грязи, из чьих рук, казалось, истекла эта дикая, первобытная сила.
Я сам смотрел на свои ладони. На них еще оставались следы черной массы, но теперь она была неподвижна, как обычная грязь. Корни, держащие Владислава, тоже замерли, окаменев, превратившись в обычные, грязные древесные отростки. Но следствие их мгновенного, яростного действия было налицо: наследник Белозерских стоял на коленях, скованный, перепачканный, с лицом, на котором навсегда исчезло ледяное превосходство. Остался только шок и страх.
Оберег на моей груди погас, оставив лишь слабое, ровное пульсирование. Тепло сменилось ледяным ужасом… уже моим. Что я сделал? Это был не план. Это был взрыв. Неконтролируемый. Опасный. Страшный.
Я поднял глаза. Встретил взгляд Агафьи. В ее глазах не было осуждения. Был страх. Глубокий, древний страх перед непознанным. Перед силой, которая только что вырвалась из-под контроля. Рядом с ней стоял боярин Игнат. Он только что подошел, привлеченный криком. Его лицо было пепельно-серым. Он смотрел на Владислава, скованного корнями, на меня, лежащего в грязи, на черные пятна на камне. В его глазах не было радости, не было гнева. Была пустота. Пустота человека, чье чудо обернулось не спасением, а стихийным бедствием. Чья кровь, пульсирующая в сыне, оказалась не только благословением, но и проклятием, способным взбунтовать саму землю.
Белой Вороне удалось не просто клюнуть обидчика. Она нечаянно разорвала ткань реальности, выпустив наружу гнев почвы. И теперь этот гнев, как и насмешки, и холод Арины, и ненависть Владислава, был частью ее новой, страшной и невероятной жизни в этом мире парчи, кинжалов и древних сил. Выживать стало еще сложнее. И еще опаснее.
Глава 5: Корни Силы и Камни Страха
Тишина в кабинете боярина Игната была густой, тяжелой, как спрессованный вековой пепел. Не роскошь палат, не мерцание самоцветов. Здесь царила иная аура – мощь, обремененная знанием, и горечь, выдержанная годами. Стены из темного дуба, увешанные картами земель с незнакомыми очертаниями и чертежами машин, напоминавших гигантских насекомых. Запах – не ладана и трав, а старой кожи, металла и чего-то острого, вроде озона, но глубже.
Я сидел на жестком дубовом стуле, все еще чувствуя под ногтями липкий привкус той самой грязи и… чего-то еще. Нечто живое, темное, пульсирующее под кожей, уже успокоившееся, но оставившее след, как ожог. Одежду сменили, но ощущение не смылось. Владислава унесли – не столько из-за сломанного каблука, сколько из-за шока, застывшего в его ледяных глазах. Шока и первобытного ужаса.
Боярин Игнат стоял у массивного стола, спиной ко мне. Его руки, обычно такие уверенные, сжимали резной подлокотник кресла до побеления костяшек. Он не ругал. Не обвинял. Молчал. И это молчание было страшнее крика. Оно висело между нами, как стена из тумана, сквозь которую я смутно видел руины его надежд.
– Грязь, – наконец проговорил он. Голос был глухим, словно доносился из-под земли. Он повернулся. Его лицо, обычно несущее печать власти или боль утраты, сейчас было… опустошенным. Пепельно-серым. Глаза, цвета старого льда, смотрели не на меня, а сквозь меня, в какую-то далекую, страшную точку прошлого. – И корни. Темные, жилистые, из самой глубины пласта. Покрытые слизью мертвой земли и… яростью.
Он сделал шаг ближе. Не грозный боярин. Сломленный человек.
– Я видел это однажды, – прошептал он. Голос сорвался. – Давно. Очень давно. Мой дядя, Родион… У него был… Дар.
Слово «Дар» он произнес не с благоговением, а с тяжестью, как приговор. Оно упало в тишину кабинета, словно камень в черную воду.
– Дар Земли, – продолжил Игнат, его пальцы непроизвольно сжались, будто ощущая под собой ту самую вздыбившуюся почву. – Как у тебя. Сила чувствовать камень, глину, корни. Слышать шепот глубинных пластов. Говорить с самой плотью мира… и повелевать ей. В гневе. Или в отчаянии.
Он подошел вплотную. Его дыхание, согретое перегаром крепкого меда, коснулось моего лба. В его глазах, наконец сфокусировавшихся на мне, не было гнева. Была… бездонная тревога. И что-то еще. Глубоко запрятанная, почти невероятная гордость.
– Это… редкость, сын, – сказал он тихо, почти с благоговением. – Дар Древних Кровей. Такое… раз в десять поколений, не чаще. Сила самой Матери Сырой Земли, текущая в жилах. Дар строителей твердынь, повелителей рудных жил, хранителей корней… и грозных воинов, чья мощь – не в стали, а в камне под ногами врага.
Он медленно опустил тяжелую руку мне на плечо. Не для поддержки. Для подтверждения реальности. Его взгляд впивался в меня, будто пытаясь разглядеть в моих глазах, в моей сути, эту самую древнюю силу.
– Но, Мирослав… – его голос стал жестче, как закаленная сталь. – Это и проклятие. Сила, вышедшая из-под контроля… Она пожирает. Дядя Родион… Он не смог сдержать ее. Гнев, обида, боль… Земля отвечала на его ярость. Камни падали со стен. Дома рушились. Люди… гибли. Не по злому умыслу. По неосторожности. По незнанию. По мощи, которую он не мог обуздать. – Игнат сглотнул, его кадык резко дернулся. В глазах мелькнула старая боль. – Его… убрали. Бояре. Страх перед такой силой сильнее родственных уз. Страх перед тем, что нельзя понять и контролировать. Его Дар стал его могилой.
Тишина снова навалилась, но теперь она была наполнена гулким эхом его слов. Дар Земли. Редкий. Древний. Опасный. Смертельно опасный. Не только для врагов. Для самого носителя. Для всех вокруг.
Мой разум… бунтовал. Степа, воспитанный на таблице Менделеева и законах термодинамики, отчаянно цеплялся за рациональность. Невозможно! Камни не вздыбливаются по желанию! Корни не двигаются! Это нарушение всех законов сохранения энергии, механики сплошных сред, биологии! Галлюцинация? Массовый психоз? Воздействие оберега? Я смотрел на свои руки – чистые теперь, но все еще помнящие жгучую связь с камнем и грязью. Я вспоминал дикий ужас Владислава, окаменевшие корни, пустоту в глазах отца. Отрицать это было… бессмысленно. Это было. Реально. Ужасающе реально.
– Но… как? – выдавил я, голос хриплый от напряжения. – Я… я не делал ничего! Не произносил заклинаний! Не думал о… корнях! Я просто… разозлился. До безумия. И… все.
Игнат кивнул, его взгляд стал сосредоточеннее, трезвее. Тревога не ушла, но ее оттеснил аналитический огонек, знакомый мне по моим собственным попыткам понять этот мир.
– Дар – не заклинание, сын, – пояснил он. – Это… часть тебя. Как рука. Как дыхание. Только рука эта… может сломать гору. Или чью-то жизнь. Он отвечает на эмоции. На сильные порывы души. Особенно на гнев. Или страх. Или отчаяние. Земля… она чувствует. И отвечает. Ты не приказывал. Ты… вскричал из самой глубины. И Мать-Земля услышала своего сына. Ее ответ был… яростным. Бездумным. Как удар разъяренного зверя.
Он снял руку с моего плеча и прошелся по кабинету. Его шаги были тяжелыми.
– Теперь они знают, – проговорил он мрачно. – Владислав. Бояре. Арина. Они видели. Дар Древних Кровей… он не останется тайной. Страх – он заразителен. И… притягателен для тех, кто ищет силу любой ценой. – Он остановился, глядя на меня. В его глазах боролись гордость за сына, обладающего редчайшей силой предков, и леденящий душу страх за его судьбу, за хрупкое равновесие в доме и при дворе. – Ты должен научиться, Мирослав. Научиться чувствовать ее в себе. Как дыхание. Как биение сердца. Научиться успокаивать ее, направлять. Или… заглушать. До времени. Иначе… – Он не договорил. Картина судьбы дяди Родиона висела в воздухе невысказанной угрозой.
Я сидел, ошеломленный. Мир, который я уже начал воспринимать как странную смесь архаики и неизвестной науки, вдруг обрушился на меня магией. Самой настоящей, стихийной, опасной и… невероятной. Мой рациональный ум кричал о невозможности. Но каждая клетка тела помнила яростный отклик земли. Помнила власть, которая на мгновение хлынула через меня.
Страх был. Да, оглушающий. Страх перед этой силой внутри. Перед последствиями. Перед тем, что обо мне подумают, что сделают Владислав и его сторонники. Страх за отца, чье положение стало еще более шатким.