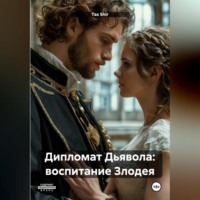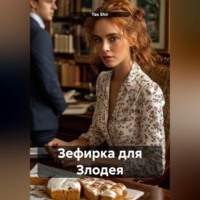Полная версия
Проклятье дома Белозерских
– Гляди, Агафья, – проговорил он глуховато, и его речь была еще архаичнее, насыщеннее незнакомыми гортанными звуками. – Очи-то у него… Живые. Не помертвелые. И страху в них – по краешку. А в сердцевине… – Он прищурился. – Любознания тьма. Аль не?
Агафья кивнула медленно, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Ее глаза, темные и глубокие, как колодцы, казалось, видели не только мой испуг, но и тот вихрь вопросов, что крутился в моей голове.
– Так и есть, дядя Прокофий, – произнесла она, и ее голос звучал теперь как приговор и… приглашение одновременно. – Не местный. Совсем. И разум… – Она снова посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде мелькнуло что-то древнее и знающее. – Разум у него… жаден. Как у птенца грифона. Это и страшно, и… знаменательно.
Я сглотнул комок в горле. Школьный двор, Костян, люк… Это казалось сном. А этот мир, эта комната, эти люди в одеждах из снов и кошмаров – жуткой, ослепительной реальностью. Я был потерян. Напуган до дрожи в коленях. Но где-то в глубине, под грудой страха, уже шевелилось, набирало силу нечто иное – азарт первооткрывателя, попавшего в запретную, невероятную лабораторию мироздания.
Я открыл рот. Голос был хриплым, чужим.
– Кто… вы? – выдохнул я. – И… где я?
Слова «Степа» не было. Только растерянность Белой Вороны, залетевшей не просто в чужую стаю, а в другой, сверкающий и пугающий мир. Мир, где законы физики, похоже, были лишь рекомендациями, а бархат на подушках мог оказаться кожей дракона. И мой мозг, вопреки всему, уже требовал: Сканируй! Анализируй! Пойми!
Но тут тяжелая дверь из того же темного, мерцающего дерева отворилась беззвучно. Воздух в палатах сгустился, наполнился новой тяжестью – не страхом, а властью. И вошел Он.
Мужчина, в чьем облике суровость веков сплелась с внутренней раной, не затянувшейся до конца. Высокий, широкоплечий, в кафтане глубокого, как ночь перед грозой, синего цвета. Ткань не просто переливалась – по ней словно текли невидимые реки энергии, оставляя следы из серебряной вышивки, изображавшей спирали, похожие на галактики, и хищных птиц с глазами из крошечных рубинов. На груди – массивная цепь из лунного металла, а на пальце – перстень с камнем, пульсирующим темно-багровым светом, как затухающее сердце вулкана.
Но это был не блеск, не показная роскошь. Это была броня. Броня человека, несущего неподъемную ношу. И глаза… О, эти глаза! Цвета старого льда, пронзительные, всевидящие, но в их глубине – бездонная, затаенная боль. Боль, которая не кричит, а точит изнутри, годами. Он остановился у порога, его взгляд, холодный и острый, как клинок, скользнул по «Агафье», «дяде Прокофию», девушке, заставив их невольно выпрямиться, и упал на меня. На беспомощного, перепачканного, в рваной школьной куртке, чужака на его роскошном ложе.
Я замер. Инстинкт кричал: «Опасность! Власть! Отвод глаза!». Но мозг, этот ненасытный сканер, уже фиксировал детали: Плотность ткани кафтана – защитные свойства? Пульсация камня – биологический ритм? Энергетический источник? Глубина боли в глазах – психосоматическая связь с физическим недугом? Белая Ворона даже перед бурей пыталась классифицировать гром.
– Игнат Всеволодович… – Агафья склонила голову, но голос ее звучал не раболепно, а с уважением, граничащим с почитанием. – Светик очнулся. Разум цел, слава Сварогу, хоть и помутился страхом великим.
Боярин Игнат Белозерский. Имя прозвучало как удар колокола где-то в глубинах памяти, которых у меня не было. Он не ответил Агафье. Он сделал шаг. Потом еще один. Его сапоги из кожи, похожей на черный бархат с золотыми прожилками, ступали беззвучно по мерцающему ковру. Он приближался, и я видел, как суровые черты его лица – орлиный нос, резкие складки у рта, седина в темных, как смоль, волосах и бороде – напряглись. Но не от гнева. От… невероятного, мучительного напряжения надежды.
Он остановился у самого ложа. Его тень накрыла меня. Я чувствовал исходящее от него тепло и силу, как от раскаленной печи. Его ледяные глаза впились в мои, сканируя, пронзая насквозь. Я затаил дыхание. Он медленно, будто боясь спугнуть мираж, поднял руку. Длинные, сильные пальцы, украшенные тем же лунным металлом, но без колец, дрогнули. Он не прикоснулся ко мне. Он указал… на мою левую бровь.
– Шрам, – произнес он. Голос был низким, хрипловатым, как скрип вековых дубовых дверей. Но в нем дрожала струна, готовая лопнуть. – От… качелей. В старом саду. Пять лет от роду было тебе. Упал. Кровь… рекой. Мать твоя… – Голос его прервался. Он сглотнул, и кадык резко дернулся. – Мать твоя, Анна, плакала, как безумная, пока знахарь травы прикладывал.
В палатах воцарилась мертвая тишина. Даже дымок от курильницы казался застывшим. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Шрам… Да, маленький, чуть выше левой брови. Я всегда думал – от детской драки во дворе. Но… качели? Старый сад? Откуда он знает?!
– И… родинка, – продолжил боярин, его палец переместился чуть ниже, к виску. – Форму… полумесяца. Тут. Как у моей сестры, Ирины. – Его голос снова сорвался. Он сжал кулак, костяшки побелели. Боль в его глазах вспыхнула с новой силой, ослепительной и страшной. – Мирослав… – прошептал он. И это имя, произнесенное с такой мукой и надеждой, ударило меня, как током. – Мирослав… Сын мой… Младшенький…
Тишина взорвалась.
– Слава Перуну! – выдохнул дядя Прокофий, крестясь странным, широким жестом.
– Чудо! Истинное чудо! – ахнула девушка, и слезы брызнули из ее зеленых глаз.
Агафья молча склонилась в глубоком поклоне, но ее плечи слегка дрожали.
А я? Я сидел, вцепившись пальцами в переливающуюся ткань покрывала, чувствуя, как мир рушится и складывается заново в какую-то безумную, невозможную мозаику.
Сын? Его сын? Мирослав?
Имя звенело в пустоте, не находя отклика. Но шрам… Родинка… Откуда?! И… десять лет назад? Похищение?
– Н-нет… – выдавил я, голос – предательски слабый, дрожащий. – Я… Степан. Я из… другого места. Мои родители… моя мама… – Образ родной, улыбающейся мамы встал перед глазами, такой ясный и такой далекий сейчас. Сердце сжалось от боли и непонимания.
Боярин Игнат не отступил. Его боль сменилась железной, почти фанатичной убежденностью.
– Похитили тебя, Мирослав, – проговорил он, и в голосе зазвучала старая, неутолимая ярость. – Десять зим минуло. Напали на обоз наш у Черных Болот. Силы… темные. Не люди. Тьма сгустилась, светильники погасли, ветер выл, как сто мертвецов. Когда рассеялось… тебя не было. Ни тела, ни вещей. Только… это. – Он сделал резкий жест рукой.
Дядя Прокофий шагнул вперед. В его руке, бережно обернутое куском темной, мягкой ткани, лежало… Оно.
Оберег.
Но не просто кусок металла. Это был диск, размером с ладонь, толщиной в палец. Материал – ни золото, ни серебро, а что-то темно-серое, матовое, но испещренное тончайшими, словно живые, серебристыми прожилками, которые пульсировали слабым, ровным светом. По краю шла сложная, вихревая гравировка, напоминающая формулы квантовой механики, сплетенные с древними славянскими символами. В самом центре диска – углубление, из которого исходило едва заметное, но ощутимое свечение, того самого, фиолетово-изумрудного оттенка, что заполняло портал в люку. От него исходило едва уловимое гудение, вибрация, которую я чувствовал кожей.
– Оберег рода Белозерских, – глухо проговорил дядя Прокофий. – Древний. Сильный. Был на груди у тебя, Мирослав, когда похитили. Мы нашли его… на месте. Он был… мертв. Холоден. Ни искры. А теперь… – Он протянул диск ближе ко мне. – Гляди. Живой! Засветился, как в ночь твоего рождения, когда мы тебя впервые оберегом коснулись! И нашли тебя… рядом с ним лежащим, в одеждах диковинных, на том самом месте у Черных Болот, где пропал! Как сквозь землю провалился и вынырнул! Чудо Сварожье!
Я смотрел на пульсирующий диск. На знакомый, роковой свет в его сердцевине. В голове все смешалось. Черные Болота… Люк… Фиолетово-изумрудный вихрь… Этот оберег… Он был активатором? Ключом? Его энергия… она пробила дыру между мирами? Десять лет назад она забрала мальчика Мирослава… и бросила его в мой мир? А теперь, когда я упал на него (или он активировался из-за стресса, агрессии?)… он вернул тело обратно? Но… где я? Где Степа? А Мирослав? Кто я?!
Отчаяние и ужас накрыли с новой силой. Я схватился за голову, где боль в виске слилась с болью от ломки реальности. Перед глазами поплыли обрывки: Запах хвои и дыма… Женские руки, крепко обнимающие… Крик… Фиолетовый свет… Страх… Темнота… Потом – детская площадка, незнакомая женщина (мама?) плачет над мной… Шрам на брови… Обрывки двух жизней, двух мальчиков, сплетенные в один клубок.
– Нет… – простонал я. – Это не я… Я не… Я Степан! Моя мама… она ждет… дома…
Боярин Игнат внезапно опустился на колени у ложа. Его железная выдержка дала трещину. Он схватил мою руку – руку в рукаве рваной школьной куртки – своими большими, теплыми ладонями. Его пальцы сжимали мою кисть с силой, в которой была и отчаянная надежда, и страх снова потерять, и десятилетняя тоска.
– Мирослав… – его голос был сломанным шепотом, слезы, наконец, выступили в ледяных глазах, заставив их по-человечески блестеть. – Сынок… Родной… Ты вернулся. Чудом. Оберегом рода. Не отрекайся… Память твоя помутилась от пути сквозь Иное. Очнись же! Вспомни! Дом твой… Отец твой… Здесь!
Его слеза упала мне на руку. Горячая. Настоящая. Я смотрел на этого могучего, сломленного болью человека, на пульсирующий оберег цвета портала, на свои руки – руки Степы, но, возможно, и Мирослава. Мир распался на атомы и собрался в новую, невероятную, пугающую картину. Я был не просто Белой Вороной в чужом мире.
Я был призраком. Чудом. Потерянным сыном. И, возможно, ключом к тайне, связывающей два мира через фиолетово-изумрудный свет древнего оберега. И единственное, что я мог сделать – это задрожать от ужаса и непонимания, чувствуя, как осколки чужого детства вонзаются в мое сознание, а руки боярина Игната сжимают мои, словно якорь в этом бушующем море безумия.
Глава 3: Боярин-Простак, или Как законы Ньютона не спасают от смеха боярского
Прошло несколько дней. Вернее, несколько циклов странного солнца, которое здесь светило чуть ярче и чуть желтее, чем дома. Дни сливались в калейдоскоп роскоши, архаичной речи, запахов неведомых трав и постоянного, гнетущего ощущения игры, в которой я не знал правил.
Меня – Степу-Мирослава – переодели. Мою рваную школьную куртку и джинсы с благоговейным ужасом (и, кажется, тайным желанием сжечь) унесли. Вместо них на меня натянули одежды, от которых я чувствовал себя не то переодетой куклой, не то экспонатом в музее допетровского быта с элементами безумия.
Кафтан. Темно-зеленый, тяжелый бархат, расшитый золотыми нитями в виде спиралей ДНК (или так только мне казалось?), переплетенных с хищными птицами. Серебряные застежки с пульсирующими каплями янтаря внутри. Штаны – широкие, заправленные в сапоги из кожи… чего-то. Кожи, которая на ощупь напоминала теплый камень и слегка мерцала. На шее – кожаный шнур с тем самым Роковым Диском – оберегом. Он висел холодной, пульсирующей тяжестью, напоминая о люке, Костяне и невозможности всего этого.
Боярин Игнат, мой… отец… смотрел на меня с мучительной смесью надежды и растерянности. Его боль, казалось, немного притупилась, сменившись тихой тревогой. Он видел сына, но сын смотрел на мир глазами чужака, жадно сканируя резьбу на дверных косяках и пытаясь понять принцип работы светильников, похожих на застывшие капли жидкого солнца в хрустальных чашах.
– Сегодня выйдешь, Мирослав, – сказал он утром, голос старательно ровный. – В Грановитую Палату. Бояре… ждут. Увидеть тебя жаждут. Чудо узреть.
Жаждут. Слово прозвучало зловеще. Я представлял стаю хищников, принюхивающихся к диковинной добыче. Но отказаться? В этом мире, где власть боярина Игната ощущалась как физическое давление, это было равносильно прыжку в другой портал. Без оберега.
Дорога через боярские хоромы была испытанием. Широкие, высокие коридоры, стены которых были не просто стенами, а гигантскими полотнами из темного дерева, мерцающего металла и камня, с инкрустированными сценами битв с чудовищами, звездных карт и… чертежей неведомых машин? Мой внутренний «ботаник» ликовал и требовал остановиться, потрогать, изучить. Но меня вели. С одной стороны – дядя Прокофий, чья чешуйчатая накидка шелестела тихим предостережением. С другой – Агафья, чей строгий взгляд говорил: «Шаг влево, шаг вправо – считаются побегом, светик».
И вот он – портал в Грановитую Палату. Не просто дверь. Арка, обрамленная резными драконами, чьи глаза из рубинов следили за каждым входящим. Шум голосов, густой, как мед, запах дорогих вин, воска, пота и чего-то острого, пряного – тревоги? Любопытства? Злорадства?
Войдя, я остановился как вкопанный. Пространство. Огромное. Сводчатый потолок, расписанный небом с двумя лунами и странными созвездиями. Столы, ломящиеся от яств, которых я не узнавал. И люди. Десятки людей. Бояре и боярыни. Море роскошных кафтанов и сарафанов, затканных серебром, золотом, самоцветами, мерцающих энергетическими узорами. Перстни, браслеты, кокошники – все светилось, пульсировало, дышало скрытой силой. Это был не пир. Это был парад могущества, сотканный из света, ткани и древней магии (или технологии?).
И все взгляды – десятки пар глаз, острых, оценивающих, насмешливых, завистливых – устремились на меня. На Мирослава Игнатовича Белозерского. Чудом вернувшегося. Или… кем-то другим?
Тишина упала внезапно, как нож. Боярин Игнат, ставший рядом, выпрямился, его лицо – маска непроницаемости. Но я видел, как напряглись мышцы его челюсти.
– Сын мой, Мирослав, – громко, властно произнес он, – благодарением Сварога и силой родового оберега к нам вернулся!
Раздались сдержанные возгласы: «Слава!», «Чудо!». Но аплодисментов не было. Была тяжелая, звенящая тишина ожидания. Что дальше? Они ждали подтверждения чуда. Или его опровержения.
Дядя Прокофий тихо подтолкнул меня вперед.
– Поклонись, светик, – прошептала Агафья. – Низко. Руку к сердцу.
Поклониться. Простое действие. В моем мире – кивок головы. Здесь… целая наука. Я видел, как кланялись другие – плавно, глубоко, с определенным положением рук. Я попытался повторить. Согнулся в талии резко, как робот на смазке. Рука дернулась к груди, но попала на пульсирующий оберег, который от неожиданности вспыхнул ярче. Я инстинктивно дернул руку от него, как от горячего утюга. Получился не поклон, а какая-то судорожная попытка увернуться от собственного нагрудника.
Тишину разрезал первый сдержанный смешок. Где-то справа. Потом еще один. Чей-то шепот, громкий на фоне тишины:
– Глядите ж! Как медведь на цепи пляшет! Аль в Ином разучился?
– Игнат Всеволодович… сынка-то вашего, видать, не боярскому ремеслу учили, а пастушескому? – прошипел другой голос, старческий и ехидный. Боярин с лицом, похожим на высохшую грушу, в кафтане цвета запекшейся крови.
Жар ударил мне в лицо. Я почувствовал себя снова Степой на школьной биологии, когда за мой рассказ о кальмарах засмеялись. Только здесь ставки были выше. Насмешки были острее, злее, опаснее. Они не просто смеялись над «ботаником». Они пробовали на зуб статус Игната Белозерского через его «ущербного» сына.
Я поднял голову, пытаясь найти в этой толпе хоть один дружелюбный взгляд. Встретил лишь любопытство, холодную оценку или откровенную усмешку. Даже девушка с зелеными глазами (Лада, как шепнула Агафья), которую я видел в палатах, смотрела с жалостью и смущением.
– Мирослав Игнатович… изволил подзабыть наши обычаи, – проговорил боярин Игнат. Голос его был ровен, но я уловил в нем сталь и… боль. Глубокую, как та рана, что не зажила за десять лет. Он видел их насмешки. Видел мою неловкость. И это ранило его сильнее, чем любая сабля. – Путь сквозь Иное… не проходит бесследно для памяти.
– Оно и видать! – громко фыркнул боярин-»груша». – Память-то, может, и подгуляла. А манеры-то… словно у смерда с пашни! Прости, Игнат Всеволодович, режу правду-матку! Негоже боярскому сыну так… простонародно выглядеть!
Слово «простонародно» прозвучало как плевок. И родилось прозвище. Негромкий, но отчетливый шепот пробежал по рядам бояр:
– Боярин-Простак…
– Простак Игнатович…
– Гляди, опять на оберег свой уставился, как деревенский на грамоту!
Я сжал кулаки внутри широких рукавов кафтана. Мозг, этот предатель, вместо паники начал анализировать:
Акустика зала усиливает шепот до слышимости. Социальная динамика: насмешка как инструмент понижения статуса. Физиологическая реакция: адреналин, тахикардия, гиперемия кожных покровов…
Но это не спасало от жгучего стыда. Я поймал взгляд отца. В его ледяных глазах, обычно скрывавших боль, сейчас читалось нечто страшное: стыд за меня, смешанный с яростью к насмешникам и беспомощностью. Он, могучий боярин, не мог заставить их замолчать. Не здесь. Не сейчас. Потому что в их глазах его сын, его чудо, его искупление – был простаком. Нелепым, чужим, не соответствующим их миру.
Кто-то из слуг поднес мне кубок с темным, ароматным питьем. Я автоматически потянулся взять его одной рукой, как стакан с компотом в школьной столовой. По правилам же здесь, как я мельком заметил, брали двумя руками, почтительно. Еще один взрыв сдержанного смеха.
– И пить-то неучен! – услышал я.
– Видать, раньше только щи хлебал да кашу деревянной ложкой!
Кровь ударила в виски. Я поставил кубок обратно на поднос так резко, что темная жидкость расплескалась. Капли упали на мерцающий ковер, оставив темные пятна. Ропот усилился. Даже боярин Игнат закрыл глаза на мгновение, будто помимо воли.
В этот момент я поймал взгляд одного молодого боярина. Высокого, надменного, с острым, как бритва, лицом и холодными голубыми глазами. Он не смеялся. Он изучал меня. Как хищник – слабость жертвы. В его взгляде не было насмешки. Была расчетливая оценка угрозы… или ресурса. И это было страшнее любого смеха. Он слегка приподнял свой кубок в мою сторону – жест, полный ледяной иронии. Его губы шевельнулись беззвучно: «Простак».
Меня спасла Агафья. Она плавно встала рядом, ее темный сарафан переливался тихим светом.
– Милосердные бояре, – ее голос, низкий и спокойный, перекрыл ропот. – Дайте срок Мирославу Игнатовичу. Путь сквозь Иное – не прогулка по саду. Душа помнит, да телу привыкнуть надо. Коли память подводит, так сердце-то боярское, родовое – на месте. Оберег светится – кровь Белозерских не обманет.
Ее слова немного утихомирили волну насмешек. Но осадок остался. Густой, тягучий, как деготь. Прозвище «Боярин-Простак» висело в воздухе, прилипнув ко мне прочнее бархатного кафтана.
Я стоял посреди Грановитой Палаты, в центре роскоши и магии, чувствуя себя не чудесно вернувшимся сыном, а лабораторной крысой, выставленной на посмешище. Мои законы – физики, химии – были бесполезны против законов двора: зависти, высокомерия и жестокого смеха. В кармане не было лягушки, чтобы с ней пошептаться. Была только пульсирующая тяжесть оберега на шее и ледяная боль в глазах отца, который смотрел на меня и видел… чудо, обернувшееся позором. И где-то глубоко внутри, под слоем стыда и страха, все еще копошился Степа, жадно впитывающий детали этого враждебного великолепия и думающий:
«Интересно, а из чего здесь делают стекло для окон? И как эти светильники работают без электричества?».
Белая Ворона попала не просто в чужую стаю. Она попала в золотой зверинец, где ее перья вызывали не удивление, а желание ощипать.
Жар от стыда на щеках сменился ледяным комом в груди. Роскошь Грановитой Палаты, мерцающая самоцветами и скрытой энергией, вдруг обрела зубы и когти. Каждый смешок, каждый шепоток был уколом иглы под кожу. Я стоял, закованный в нелепый бархат, чувствуя себя не Мирославом Белозерским, а Степой-Простаком, разыгрывающим дурацкую роль на экзамене, который провалил еще до начала.
Боярин Игнат положил тяжелую руку мне на плечо. Жест должен был быть ободряющим, властным, утверждающим: «Сын мой. Здесь. Принят.»
Но его пальцы были напряжены, как стальные прутья. Я почувствовал дрожь, которую он подавлял всем могуществом воли. Его радость, такая хрупкая и всепоглощающая в тишине палат, здесь, под взглядами двора, трещала по швам. Омрачалась не просто насмешками. Омрачалась реальностью. Реальностью боярской политики, где возвращение потерянного наследника – не только чудо, но и угроза устоявшемуся порядку.
– Пойдем, сын, – его голос был тише, чем для толпы, и в нем слышалась усталость. – Представлю тебя… семье.
Он повел меня вдоль стола, мимо бояр, чьи улыбки были тоньше лезвия бритвы, а глаза – холоднее лунного камня. Шепотки следовали за нами, как ядовитый шлейф:
«…и впрямь, как медведь обученный…»
«…Игнат Всеволодович ослеп радостью, не видит очевидного…»
«…а оберег-то светится, спору нет… да кто знает, чью кровь он нынче чует?..»
Мы остановились у группы людей, стоявших чуть в стороне. Их не смешивали с толпой. Они выделялись. Молодой мужчина и девушка.
Мужчина. Владислав Игнатович Белозерский. Старший сын. Наследник.
Он был копией отца в молодости – высокий, статный, с темными волосами, собранными в строгий пучок, и острыми чертами лица. Но где у отца была мощь и глубина (пусть и с болью), здесь была отточенная сталь. Его кафтан – черный, как ночь в безлунную пору, расшит серебряными нитями, образующими не спирали или птиц, а геометрически точные, колючие узлы. На поясе – не декоративный нож, а изящная, но смертоносная на вид шпага с эфесом из того же лунного металла. Его глаза… Льдистые. Бездонные. Как озера на севере, скованные первым морозом. В них не было ни капли тепла, только холодная, безжалостная оценка.
Он смотрел на меня не как на брата. Как на проблему. Как на самозванца, дерзко вторгшегося в его законные владения. Его взгляд скользнул по моему неловко застегнутому кафтану, задержался на пульсирующем обереге на моей груди, и тонкие губы чуть тронула едва заметная гримаса – не насмешки, а презрения. Как будто я был грязью, прилипшей к его безупречному сапогу.
– Мирослав, – голос боярина Игната звучал натянуто ровно. – Се – брат твой старший, Владислав. Наследник отчины нашей. Владислав, вот брат твой младший, чудом к нам вернувшийся.
Владислав сделал безупречный, минимально вежливый поклон. Движение было отточенным, как удар шпаги. Холодным. Без души.
– Рад видеть тебя… целым и невредимым, брат, – произнес он. Голос был ровным, бархатистым, но в нем звенела сталь. «Целым и невредимым» прозвучало не как радость, а как сомнение. «Как ты вообще мог вернуться целым?» – висело в воздухе невысказанным. Его глаза впились в меня, выискивая изъян, подвох, доказательство обмана. – Путь… должно быть, был тяжек. Надеюсь, память вернется. Без нее… трудно быть истинным сыном Белозерских.
Удар. Тонкий, но точный. Намек на то, что без воспоминаний я – никто. Не сын. Не брат. Пустое место, прикрытое светящимся куском металла. Я почувствовал, как отец напрягся еще больше.
– А се – сестра твоя, Арина, – продолжил боярин Игнат, чуть поворачиваясь к девушке, словно пытаясь отгородить нас от Владиславова холода.
Княжна Арина Игнатовна Белозерская.
Она была иной. Не стальная, как брат, и не мощная, как отец. Она была… как лунный свет на инее. Хрупкая на вид, с бледным, почти прозрачным лицом, обрамленным волнами темно-каштановых волос. Ее платье – серебристо-голубое, струящееся, как вода, – было скромнее боярских нарядов, но излучало тихую, завораживающую силу. На ее тонкой шее висел не оберег-птица, а маленький кристалл в серебряной оправе, мерцавший холодным, ровным светом. Ее глаза… Большие, серые, как дымка над болотом на рассвете. Они смотрели на меня с такой глубокой, пронзительной настороженностью, что стало не по себе. Не ненависть, не насмешка. Чистое, незамутненное наблюдение. Как ученый смотрит на новый, неизученный и потенциально опасный вид.
Она не поклонилась. Лишь слегка склонила голову. Ее взгляд не отрывался от моего лица, сканируя каждую черту, каждый микродвижение. Казалось, она читала не только мою внешнюю неловкость, но и тот хаос страха, стыда и научного любопытства, что бушевал у меня внутри.
– Мирослав, – произнесла она тихо. Голос был мелодичным, но лишенным тепла. Как звон хрустального колокольчика в морозном воздухе. – Чудо твоего возвращения… ошеломительно. – Она сделала паузу, и в ее серых глазах мелькнуло что-то нечитаемое. – Надеюсь, Иное не оставило слишком глубоких… шрамов.
Ее слова повисли в воздухе. «Шрамы». Не на теле. На душе? На разуме? Она не верила в сказку о помутнении памяти. Она видела чужака. И изучала его. Ее холод был страшнее открытой враждебности Владислава, потому что он был умнее, глубже. Она не отводила взгляда, и мне казалось, что она видит сквозь бархат, сквозь кожу, прямо в клубок нейронов, где Степа отчаянно цеплялся за законы физики, а Мирослав был лишь призраком.