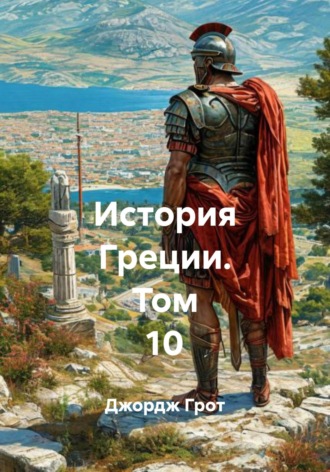
Полная версия
История Греции. Том 10
О том, какие изменения были внесены в реестр налогооблагаемого имущества или в распределение по классам в 403 г. до н.э., во время архонтства Евклида [стр. 115], у нас нет информации. Мы также не можем точно установить, насколько крупными или частыми были взимания прямого имущественного налога в Афинах между этим архонтством и архонтством Навсиника в 378 г. до н. э. Но в этот последний период реестр снова подвергся значительным изменениям, когда Афины готовились к новым усилиям. Была проведена новая оценка имущества всех, чьё состояние составляло двадцать пять мин (или две тысячи пятьсот драхм) и более. На основе этой оценки каждый был внесён в список с указанием налогооблагаемого капитала, равного определённой доле от его имущества. Однако эта доля различалась для разных классов. Точное количество классов нам неизвестно, как и минимальный размер имущества для каждого из них, за исключением самого низшего облагаемого налогом класса. Вряд ли их было меньше трёх, а возможно, было и четыре. Однако о первом, самом богатом классе мы знаем, что каждый его член вносился в список с налогооблагаемым капиталом, равным одной пятой от оценочной стоимости его имущества, и что в него входили владельцы состояния в пятнадцать талантов. Отец Демосфена умер в этом году, и опекуны малолетнего Демосфена зачислили его в первый класс как обладателя пятнадцати талантов; в списке против его имени был указан налогооблагаемый капитал в три таланта – то есть одну пятую от реального имущества. Налогооблагаемый капитал второго класса составлял меньшую долю от реального имущества (вероятно, одну шестую, как и у всех зарегистрированных метэков); третьего класса – ещё меньшую; четвёртого (если он существовал) – ещё меньше. Этот последний класс включал владельцев имущества от двадцати пяти мин (двух тысяч пятисот драхм) и выше; ниже этой суммы имущество не учитывалось. [237]
[стр. 116] Помимо налогооблагаемого капитала граждан, распределённого по классам, в список также включался капитал метэков, или проживающих в Афинах чужеземцев; каждый из них заносился (без различия по размеру имущества, если оно превышало двадцать пять мин) с налогооблагаемым капиталом, равным одной шестой от реальной стоимости имущества [238] – то есть меньшей долей, чем у самого богатого класса граждан, и, вероятно, равной доле второго класса по богатству. Сумма всех этих позиций составляла пять тысяч семьсот пятьдесят или шесть тысяч талантов [239], образуя общий список налогооблагаемого имущества – то есть около шести тысяч талантов. Имущественный налог не был регулярным источником доходов государства. Он взимался только в особых случаях, и каждый раз его начисляли на основе этого списка – каждый человек, богатый или бедный, облагался налогом пропорционально своему налогооблагаемому капиталу, указанному в списке. Таким образом, налог в один процент приносил шестьдесят талантов, два процента – сто двадцать талантов и т. д. Вполне вероятно, что усилия Афин во время архонтства Навсиника, когда этот новый список был впервые составлен, могли привести к введению имущественного налога, но его размер нам неизвестен. [240] [стр. 117]
Вместе с этим новым расписанием налогооблагаемого капитала произошло и новое распределение граждан по особым объединениям, называемым симмориями. Насколько мы можем судить по весьма туманным данным, эти симмории, по-видимому, насчитывали двадцать единиц – по две на каждую филу; каждая включала шестьдесят граждан, что в сумме составляло тысячу двести человек; эти тысяча двести человек были самыми богатыми гражданами согласно расписанию – вероятно, представляя первые два из четырёх зарегистрированных классов. Однако среди этих тысячи двухсот выделялись триста самых богатых как отдельная группа – по тридцать от каждой филы. Эти триста были богатейшими людьми города и назывались «вождями или главами симморий». Триста и тысяча двести, грубо говоря, соответствовали старым соловским классам пентакосиомедимнов и всадников, причём последний класс также насчитывал тысячу двести человек в начале Пелопоннесской войны. [241]
Литургии, или обременительные и затратные общественные обязанности, исполнялись в основном тремястами, но отчасти и тысячей двумястами. Кажется, что первый состав был по сути непостоянным: после того как человек находился в нём некоторое время, исполняя связанные с этим обязанности, стратеги позволяли ему перейти в число тысячи двухсот, а на его место в трёхсотых продвигали кого-то из последней группы. Кроме того, афинский закон всегда допускал процедуру, называемую антидосис, или обмен имуществом. Любой гражданин, считавший, что его чрезмерно обременяют дорогостоящими литургиями, а другой, столь же богатый или богаче, не нёс своей справедливой доли, мог, получив новую литургию, потребовать от другого взять её на себя. В случае отказа он мог предложить обмен имуществом, обязавшись взять на себя новую обязанность, если имущество другого перейдёт к нему.
Следует отметить, что помимо тысячи двухсот самых богатых граждан, составлявших симмории, существовало значительное число менее состоятельных граждан, не входивших в них, но всё же подлежащих имущественному налогу – лиц, владевших имуществом от минимума в двадцать пять мин до какого-то неизвестного нам максимума, с которого начинались симмории. Они, грубо говоря, соответствовали третьему классу – зевгитам – по соловскому цензу. Две симмории каждой филы (включавшие её сто двадцать самых богатых членов) контролировали имущественный реестр филы и собирали взносы с менее состоятельных зарегистрированных членов. В случаях, когда государству требовалась немедленная выплата, тридцать самых богатых людей каждой филы (вместе составлявшие триста) вносили всю сумму налога, причитающуюся с филы, имея законное право взыскать с остальных членов их долю. Таким образом, самые богатые граждане получили как новые права, так и новые обязанности, [стр. 119] которых у них не было до архонтства Навсиника. Предполагалось, что благодаря их посредничеству расписание будет точнее отражать оценку имущества каждого, а взимаемые суммы будут поступать быстрее, чем если бы государство напрямую вмешивалось через своих чиновников.
Вскоре система симморий была распространена на триерархию – изменение, изначально не планировавшееся. Каждая симмория имела своих вождей, кураторов и оценщиков, действовавших под общим руководством стратегов. Двадцать пять лет спустя мы видим, как Демосфен (тогда около тридцати лет) предлагает ещё более широкое применение того же принципа, чтобы люди, деньги, корабли и все ресурсы государства могли быть разделены на отдельные части и распределены между симмориями, каждая из которых имела бы чёткие обязанности, а её члены подвергались бы не только судебному преследованию, но и потере уважения в случае неисполнения. Однако на практике система симморий, по-видимому, стала сильно злоупотребляемой и привела к пагубным последствиям, которых не ожидали.
Пока же я лишь отмечаю эту новую финансово-политическую классификацию, введённую в 378 г. до н. э., как свидетельство того рвения, с которым Афины вступили в запланированную войну против Спарты. Чувства среди их союзников, фиванцев, были не менее решительными. Правление Леонтиада и спартанский гарнизон оставили после себя такую сильную неприязнь, что большинство граждан, горячо поддержав революцию против них, следовало всем указаниям Пелопида и его соратников, которые, со своей стороны, думали только об отражении общего врага.
Фиванское правительство теперь, вероятно, стало демократическим по форме, а по духу – ещё более демократичным из-за всеобщего энтузиазма. Военные силы были приведены в наилучшую готовность; наиболее плодородная часть равнины к северу от Фив, откуда город получал основное пропитание, была окружена рвом и частоколом, [242] чтобы отразить ожидаемое вторжение спартанцев. Тогда же впервые была организована знаменитая Священная дружина. Это был отряд из трёхсот гоплитов, [стр. 120] называемый лохом, или городским полком, поскольку он был посвящён защите Кадмеи, акрополя. [243] Он содержался на государственные средства, как и «Тысяча» в Аргосе, о которой упоминалось в моём седьмом томе. [244] Дружина состояла из молодых граждан из лучших семей, отличившихся силой и храбростью в суровых испытаниях палестры в Фивах, и строилась так, что каждый соседний воин был одновременно близким другом, так что весь отряд связывали узы, которые не могли разорвать никакие опасности.
Изначально, под командованием Горгида (как видно по отборным трёмстам, сражавшимся в 424 г. до н. э. в битве при Делии), [245] её задачей было служить передовыми бойцами, за которыми следовали основные силы гоплитов. Но из-за одного обстоятельства, о котором речь пойдёт далее, Пелопид и Эпаминонд стали использовать её как самостоятельный полк, и в атаке она оказалась непобедимой. [246]
Необходимо отметить, что фиванцы всегда были хорошими воинами, как в качестве гоплитов, так и в качестве всадников. Поэтому царивший тогда энтузиазм в сочетании с более систематическими тренировками превратил хороших солдат в еще более выдающихся. Но в этот момент Фивы были осенены еще одной удачей, какой им прежде никогда не выпадало. Среди их граждан нашелся вождь редчайших достоинств. Именно теперь впервые Эпаминонд, сын Полимнида, начинает играть заметную роль в общественной жизни Греции. Его семья, скорее бедная, чем богатая, принадлежала к числу древнейших в Фивах, входя в [стр. 121] те роды, что назывались Спартами, чьи легендарные предки, как считалось, произросли из зубов дракона, посеянных Кадмом. [247] В то время он, по-видимому, был уже средних лет; Пелопид был моложе и происходил из очень богатой семьи; тем не менее, их отношения были отношениями равной и тесной дружбы, испытанной в день битвы, где они сражались бок о бок как гоплиты, и где Эпаминонд спас жизнь своему раненому другу, заплатив за это несколькими собственными ранами и подвергнув себя величайшей опасности. [248]
Эпаминонд выполнял с точностью все военные и гимнастические обязанности, возлагавшиеся на каждого фиванского гражданина. Но нам сообщают, что в гимнасиях он стремился развить в себе максимум ловкости, а не силы; быстрые движения бегуна и борца – а не тяжелую мускулатуру, отчасти приобретаемую чрезмерным питанием, беотийского кулачного бойца. [249] Он также изучал музыку, вокальную и инструментальную, и [стр. 122] танцы; под чем в те времена понималось не просто умение играть на лире или флейте, но все, что относилось к изящному, выразительному и умелому владению голосом или телом; ритмичное произношение, оттачиваемое декламацией поэтов, – и дисциплинированные движения, необходимые для участия в хоровых празднествах, чтобы гармонично выглядеть среди множества граждан-исполнителей. Из этих двух составляющих – гимнастической и музыкальной подготовки, – которые вместе формировали совершенного эллинского гражданина, первая преобладала в Фивах, вторая – в Афинах. Более того, в Фивах музыкальное обучение основывалось преимущественно на флейте (для изготовления которой у озера Копаида росли превосходные тростники); в Афинах же больше внимания уделяли лире, которая допускала вокальное сопровождение самим исполнителем. Афинянин Алкивиад [250], как рассказывают, с отвращением отбросил флейту со словами, что игра на флейте – подходящее занятие для фиванцев, поскольку они не умеют говорить; и в отношении соотечественников Пиндара [251] это замечание было столь же презрительным, сколь и верным. В этом ключевом аспекте Эпаминонд являл собой блистательное исключение. Он не только обучался игре на лире [252] и флейте у лучших учителей, но и, в отличие от своего брата Кафейсия и друга Пелопида, с юных лет проявлял страстную интеллектуальную тягу, которая была бы примечательна даже для афинянина. Он жадно искал бесед с доступными ему философами, среди которых были фиванец Симмий и тарентинец Спинфар, оба некогда ученики Сократа; так что животворное влияние сократического метода проникало, хотя и частично и опосредованно, в сердце Эпаминонда. Поскольку отношения между Фивами и Афинами со времени окончания Пелопоннесской войны становились все более дружественными, перерастая в конце концов в союз и совместную войну против спартанцев, – мы вправе предположить, что он пользовался уроками учителей как в одном, так и в другом городе. Но человеком, которому он особенно посвятил себя, которого он не только слушал как ученик, но и опекал почти как сын до конца его долгой жизни, был тарентинский изгнанник по имени Лисис; член пифагорейского братства, который по неизвестным нам причинам нашел приют в Фивах и жил там до самой смерти. [253] С ним, как и с другими философами, Эпаминонд обсуждал все актуальные темы изучения и исследования. Благодаря многолетним занятиям он не только приобрел значительные знания, но и научился новым, более широким интеллектуальным построениям; и, подобно Периклу, [254] освободился от суеверного толкования природы, которое делало многих греческих военачальников рабами знамений и предзнаменований. Его терпение как слушателя и нежелание блистать собственными речами были столь поразительны, что Спинфар (отец Аристоксена) после многочисленных бесед с ним заявил, что никогда не встречал никого, кто столько понимал и так мало говорил. [255] [стр. 124]
Эта сдержанность не была следствием неумения выражать свои мысли. Напротив, когда Эпаминонд вступил на общественное поприще, его красноречие оказалось не только выдающимся среди фиванцев, но и эффективным даже против лучших афинских ораторов. [256] Но по характеру он был скромен и чужд честолюбия, сочетая это с сильным интеллектуальным любопытством и большими способностями – редкое сочетание среди народа, обычно склонного к самоуверенности и тщеславию. Мало подверженный личным амбициям и никогда не искавший популярности недостойными средствами, Эпаминонд был еще более равнодушен к деньгам. Он до конца жизни оставался в добровольной бедности, не оставив после себя даже средств на погребение, отвергая не только подкуп со стороны иностранцев, но и настойчивые предложения друзей; [257] хотя нам известно, что, однажды исполняя дорогостоящую обязанность хорега, он позволил своему другу Пелопиду взять на себя часть расходов. [258] Так же как он был свободен от двух главных слабостей, чаще всего губивших выдающихся греческих государственных деятелей, в его нравственном облике была и третья, не менее ценная черта: мягкость его политической неприязни, отвращение к жестокому обращению с побежденными врагами и отказ участвовать в междоусобном кровопролитии. Если и были люди, чье поведение казалось оправдывающим беспощадную месть, то это Леонтиад и его сообщники-предатели. Они впустили спартанца Фойбида в Кадмею и умертвили фиванского вождя Исмения. Тем не менее, Эпаминонд не одобрил плана Пелопида и других изгнанников убить их и отказался в нем участвовать; отчасти из осторожности, но отчасти и по [стр. 125] нравственным соображениям. [259] Ни одна из его добродетелей не оказалась впоследствии столь трудной для подражания его почитателям, как эта власть над гневными и мстительными страстями. [260]
Однако, прежде чем Эпаминонд мог получить полное признание за эти добродетели, ему нужно было доказать, что они сочетаются с необычайными способностями к действию, и совершить нечто, заслуживающее восклицания хвалы, которое, как мы увидим, произнес его враг Агесилай, увидев его во главе вторгшейся в Лаконику фиванской армии: «О, человек великих деяний!» [261] В 379 г. до н. э., когда Кадмея была освобождена, он еще не был заметен в общественной жизни и известен лишь Пелопиду и другим друзьям; среди которых его нечестолюбивый и пытливый характер даже вызывал недовольство, так как он слишком оставался в тени. [262] Но небывалые события того года стали стимулом, преодолевшим всю его сдержанность и заглушившим все прочие склонности. Фиванцы, только что вернувшие себе город благодаря невероятному повороту судьбы, оказались один на один перед лицом полномасштабного нападения Спарты и ее обширного союза. Даже Афины еще не выступили в их поддержку, и у них не было ни одного союзника. В таких условиях Фивы могли спасти только усилия всех граждан – как нечестолюбивых и философствующих, так и остальных. Если обстоятельства требовали такого всеобщего самоотвержения, то электрический разряд недавней революции был достаточен, чтобы пробудить энтузиазм даже в менее патриотичных сердцах, чем сердце Эпаминонда. Он был в числе первых, кто присоединился к победоносным изгнанникам с оружием в руках, когда борьба переместилась из домов Архия и Леонтиада на городскую площадь; и он, вероятно, был бы в числе первых, кто взошел бы на стены Кадмеи, если бы спартанский гармост дождался штурма. Пелопид, став беотархом, естественно, выдвинул своего друга Эпаминонда в число первых и самых деятельных организаторов необходимого военного сопротивления общему врагу; и в этом качестве его способности быстро проявились. Если в тот момент он был почти неизвестен, то к 371 г. до н. э., семь лет спустя, он стяжал такую славу и как оратор, и как полководец, что был избран выразителем фиванской политики в Спарте и ему доверили руководство битвой при Левктрах, от которой зависела судьба Фив. Отсюда мы вправе заключить, что хорошо продуманная и успешная система обороны, а также неуклонное наступление Фив против Спарты в промежуточные годы были в основном его заслугой. [263]
Политический поворот в Афинах, последовавший за оправданием Сфодрия, стал невыразимой выгодой для фиванцев, как поддерживая, так и воодушевляя их оборону; спартанцы же, встревоженные новыми врагами, появившимися из-за их обращения со Сфодрием, сочли необходимым предпринять ответные усилия. Они более систематично организовали военные силы своего союза и даже приняли некоторые примирительные меры, чтобы смягчить ненависть, вызванную их прежним плохим правлением. [264]
Всё войско их союза – включая, как яркий пример нынешней спартанской мощи, даже далёких олинфян [265] – двинулось против Фив летом под командованием Агесилая. Он сумел, внезапно потребовав отряда наёмников, действовавших на службе у аркадского города Клеитора против его соседа, аркадского Орхомена, занять проходы Киферона прежде, чем фиванцы и афиняне узнали о его переходе через границу Лаконии. [266] Затем, перейдя Киферон в Беотию, он разместил свою штаб-квартиру в Феспиях, уже занятых спартанцами. Оттуда он начал атаки на фиванские земли, которые обнаружил частично защищёнными длинной линией рвов и частоколов, а частично – основными силами Фив, усиленными отрядом из афинян и наёмников, присланных из Афин под командованием Хабрия.
Оставаясь по свою сторону частокола, фиванцы внезапно выслали конницу и атаковали Агесилая врасплох, нанеся ему некоторый урон. Такие вылазки повторялись неоднократно, пока он не прорвался на рассвете через брешь в укреплениях во внутренние земли, которые опустошил почти до самых городских стен. [267] Фиванцы и афиняне, хотя и не предлагали ему сражения на равных, тем не менее держали поле против него, занимая выгодные для обороны позиции. Агесилай, со своей стороны, не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы атаковать их при таком неравенстве сил. Однако однажды он всё же решился на это и уже вёл войска в атаку, но был остановлен твёрдой стойкостью и превосходным построением войск Хабрия. Те получили приказ ожидать его подхода на возвышенной и выгодной позиции, не двигаясь до сигнала, с щитами, опёртыми на колено, и копьями, выставленными вперёд. Их вид был настолько внушителен, что Агесилай отвёл свои войска, не осмелившись завершить атаку. [268]
После месяца и более опустошений фиванских земель и череды беспорядочных стычек, в которых он, кажется, потерял больше, чем приобрёл, Агесилай отступил в Феспии, укрепив их фортификации и оставив там Фойбида с немалыми силами, после чего повёл армию обратно в Пелопоннес.
Фойбид – прежний захватчик Кадмеи – теперь размещённый в Феспиях, вёл активные действия против Фив, используя как свою спартанскую часть, так и феспийских гоплитов, обещавших ему стойкую поддержку. Его набеги вскоре вызвали ответные удары фиванцев, которые вторглись в Феспии, но были отбиты Фойбидом, потеряв всю добычу. Однако во время преследования, слишком увлёкшись, он был убит внезапным манёвром фиванской конницы, [269] после чего все его войска бежали, преследуемые фиванцами до самых ворот Феспий.
Хотя спартанцы, ввиду этого поражения, отправили морем другого полководца с отрядом на замену Фойбиду, позиции фиванцев значительно укрепились благодаря этой победе. Они развили успех не только против Феспий, но и против других беотийских городов, всё ещё удерживаемых местными олигархиями, зависимыми от Спарты. В то же время эти олигархии оказались под угрозой из-за растущей силы собственных демократических или про-фиванских граждан, многие из которых бежали в Фивы как изгнанники. [270]
Вторая экспедиция против Фив, предпринятая Агесилаем следующим летом с основными силами союза, оказалась не более решительной или успешной, чем предыдущая. Хотя ему удалось хитростью прорвать фиванский частокол и опустошить равнину, он не одержал серьёзной победы и даже яснее, чем прежде, показал свою нерешительность вступать в бой, кроме как на абсолютно равных условиях. [271] Стало очевидно, что фиванцы не только укрепляли свои позиции в Беотии, но и набирались боевого опыта и уверенности против спартанцев. Настолько, что Анталкид и некоторые другие соратники упрекнули Агесилая за ведение войны, которая лишь учила врагов военному делу, и потребовали от него нанести решительный удар. Однако он покинул Беотию после летней кампании, так и не предприняв такого шага. [272]
По пути он уладил внутренний конфликт, готовый вспыхнуть в Феспиях. Затем, проходя через Мегару, он получил растяжение или травму, серьёзно повредившую здоровую ногу (уже упоминалось, что он был хром на одну ногу), и хирург был вынужден вскрыть вену, чтобы уменьшить воспаление. Однако кровь не удавалось остановить, пока он не потерял сознание. Доставленный в Спарту в тяжёлом состоянии, он пролежал несколько месяцев и гораздо дольше оставался неспособным к активному командованию. [273]
Обязанности полководца теперь перешли к другому царю, Клеомброту, который следующей весной повёл войско союза в новое вторжение в Беотию. Но на этот раз афиняне и фиванцы заняли проходы Киферона, так что он даже не смог войти в страну и был вынужден распустить войска, не добившись ничего. [274]
Его бесславное отступление вызвало такие ропот среди союзников на собрании в Спарте, что они решили снарядить крупные морские силы, достаточные как для перехвата поставок зерна в Афины, так и для переброски армии по морю против Фив в беотийский порт Креус в Криссейском заливе. Сначала была предпринята попытка достичь первой цели. К середине лета флот из шестидесяти триер под командованием спартанского наварха Поллиса [с. 130] крейсировал в Эгейском море, особенно у побережья Аттики, близ Эгины, Кеоса и Андроса. Афиняне, которые с момента возобновления своего союза не сталкивались с врагами на море, теперь оказались под угрозой не только потери власти, но и утраты торговли и даже голода, поскольку их зерновые суда с Понта, хотя и благополучно достигавшие Гераста (южной оконечности Эвбеи), не могли обогнуть мыс Суний. Остро ощущая эти затруднения, они снарядили в Пирее флот из восьмидесяти триер [275] с экипажами, состоявшими в основном из граждан. Под командованием наварха Хабрия в ожесточенном сражении у Наксоса они наголову разгромили флот Поллиса и вернули Афинам господство на море. Сорок девять лакедемонских триер были выведены из строя или захвачены, восемь – вместе со всем экипажем [276]. Более того, Хабрий мог бы уничтожить все или большую часть остальных, если бы не приостановил атаку, поскольку восемнадцать его кораблей были повреждены, чтобы подобрать как выживших, так и тела погибших, а также всех афинян, спасавшихся вплавь. Он поступил так (как нам сообщают [277]), ясно [с. 131] помня о яростном недовольстве народа победившими стратегами после битвы при Аргинусах. И мы видим, что хотя действия в тот памятный случай были запятнаны беззаконием и насилием, они оказали благотворное влияние на общественное поведение последующих командующих. Многие храбрые афиняне (экипажи состояли в основном из граждан) обязаны жизнью после битвы при Наксосе суровому уроку, преподанному народом своим стратегам в 406 г. до н.э., за тридцать лет до этого.
Это была первая крупная победа (в сентябре 376 г. до н.э. [278]), которую афиняне одержали на море со времен Пелопоннесской войны. Она не только наполнила их радостью и уверенностью, но и привела к значительному расширению их морского союза. Флот Хабрия – часть которого была выделена под командование Фокиона, молодого афинянина, впервые отличившегося и впоследствии не раз упоминаемого, – победоносно прошел по Эгейскому морю, захватил еще двадцать триер поодиночке, взял три тысячи пленных и сто десять талантов денег, а также включил в союз семнадцать новых городов, направлявших депутатов в синод и вносивших взносы. Осмотрительное и дружелюбное поведение Фокиона особенно расположило к нему островитян и способствовало присоединению нескольких новых членов к Афинам [279]. Жителям [с. 132] Абдеры во Фракии Хабрий оказал неоценимую услугу, помогая им отразить варварскую орду трибаллов, которые, покинув свои земли из-за голода, хлынули к побережью, разбили абдеритов и разграбили их территорию. Горожане, благодарные за оставленный для защиты города отряд, охотно вступили в союз с Афинами, чья конфедерация таким образом распространилась на фракийское побережье [280].











