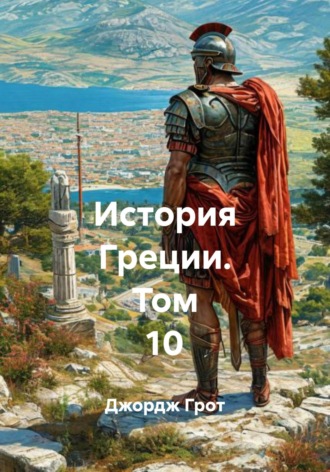
Полная версия
История Греции. Том 10
Этот предварительный поход Тимодея, предпринятый с целью сбора средств для экспедиции на Керкиру, начался в апреле или начале мая 373 г. до н. э. [312] [стр. 148] Перед отплытием он, по-видимому, отдал приказ союзникам, которые должны были участвовать в экспедиции, собраться на Калаврии (остров близ Трезена, посвящённый Посейдону), откуда он сам забрал бы их для дальнейшего движения. Согласно этому приказу, несколько контингентов собрались на острове – среди них беотийцы, приславшие несколько триер, хотя в предыдущем году их обвиняли в том, что они ничего не внесли в поддержку морских усилий Афин. Однако Тимодей задержался надолго. Расчёт был на него и на деньги, которые он должен был привезти для оплаты флота; и неоплаченные триеры в результате оказались в тяжёлом положении и дезорганизовались на Калаврии, ожидая его возвращения. [313] Тем временем в Афины пришли новые известия, что Керкира сильно теснима; и против отсутствующего адмирала поднялось сильное негодование за то, что он тратил драгоценное время на свой поход, вместо того чтобы успеть вовремя достичь острова. Ификрат (недавно вернувшийся из похода с Фарнабазом в безуспешной попытке отвоевать Египет для персидского царя) и оратор Каллистрат особенно громко обвиняли его. И поскольку спасение Керкиры требовало крайней спешки, афиняне отменили назначение Тимодея даже в его отсутствие, поручив Ификрату, Каллистрату и Хабрию снарядить флот и немедленно отправиться к Керкире. [314]
Прежде чем они успели подготовиться, вернулся Тимодей; он привёз несколько новых присоединений к союзу и блестящий отчёт об общем успехе. [315] Он отправился на Калаврию, чтобы восполнить недостаток средств и исправить затруднения, вызванные его отсутствием. Однако он не смог оплатить беотийских триерархов, не заняв денег для этого под свой личный кредит; ибо хотя сумма, привезённая им из похода, была значительна, требования к нему оказались ещё больше. Сначала Ификрат и Каллистрат, пользуясь явным недовольством публики, выдвинули против него обвинение. Но поскольку эти двое сами были назначены совместными командующими экспедиции на Керкиру, не терпевшей отлагательства, – его суд был отложен до осени; отсрочка, выгодная для обвиняемого и, несомненно, поддержанная его друзьями. [316] [стр. 150]
Тем временем Ификрат принял самые энергичные меры для ускорения снаряжения флота. При нынешнем настроении публики и известной опасности для Керкиры ему разрешили (хотя несколькими неделями ранее Тимодею, возможно, не позволили бы) не только набирать гребцов в порту, но даже строго принуждать триерархов [317] и использовать все триеры, зарезервированные для береговой охраны Аттики, включая две священные триеры – Парал и Саламинию. Таким образом он собрал флот из семидесяти кораблей, пообещав вернуть большую его часть, если дела на Керкире примут благоприятный оборот. Ожидая встретить лакедемонский флот, равный по силе его собственному, он организовал поход так, чтобы сочетать максимальную скорость с обучением гребцов и подготовкой к морскому сражению. Большие паруса античной триеры обычно убирали перед боем как неудобные; Ификрат оставил такие паруса в Афинах, пользовался даже малыми парусами экономно и держал гребцов постоянно за вёслами, что ускоряло движение и одновременно поддерживало их в отличной форме. Каждый день он останавливался на вражеском берегу для приёма пищи и отдыха; и эти остановки были организованы с такой исключительной точностью и ловкостью, что тратилось минимальное время, недостаточное для сбора местных враждебных сил. Достигнув Сфактерии, Ификрат впервые узнал о поражении и гибели Мнасиппа. Однако, не вполне доверяя этим сведениям, он продолжал соблюдать скорость и предосторожности, пока не достиг Кефаллении, где окончательно убедился, что опасность для Керкиры миновала. Превосходное руководство Ификрата в этом походе описано Ксенофонтом с восхищением. [318]
Не опасаясь более лакедемонского флота, афинский командующий, вероятно, отправил обратно эскадру береговой охраны Аттики, которую ему разрешили взять, но которая была необходима для защиты побережья. [319] Захватив несколько городов Кефаллении, он затем двинулся [стр. 151] к Керкире, куда как раз приближалась эскадра из десяти сиракузских триер, посланная Дионисием для помощи лакедемонянам, но ещё не знавшая об их бегстве. Ификрат, расставив наблюдателей на холмах, выделил двадцать триер для немедленного выхода по сигналу. Его дисциплина была столь превосходна (пишет Ксенофонт), что «когда подали сигнал, рвение всех экипажей было прекрасно видно; не было ни одного человека, который не бросился бы бегом на корабль». [320] Десять сиракузских триер, совершив переход от мыса Япигии, остановились для отдыха на одном из северных мысов Керкиры, где Ификрат настиг их и захватил со всеми экипажами и адмиралом Аниппом; лишь одна триера спаслась благодаря отчаянным усилиям своего капитана, родосца Меланопа. Ификрат триумфально вернулся, приведя на буксире девять трофеев в гавань Керкиры. Экипажи, проданные или выкупленные, принесли ему шестьдесят талантов; адмирала Аниппа оставили в надежде на больший выкуп, но вскоре он покончил с собой от унижения. [321]
Хотя полученная таким образом сумма позволила Ификрату на время выплатить жалованье своим людям, самоубийство Аниппа стало для него финансовым разочарованием, и вскоре он снова начал испытывать нехватку денег. Это обстоятельство побудило его согласиться на возвращение своего коллеги Каллистрата, который – будучи оратором по профессии и не находясь в дружеских отношениях с Ификратом – отправился в поход против собственной воли. Сам Ификрат выбрал в качестве своих коллег и Каллистрата, и Хабрия. Он не был равнодушен к ценности их советов и не боялся критики, даже со стороны соперников, относительно того, что они [стр. 152] действительно видели в его действиях. Однако он принял командование в рискованных обстоятельствах: не только из-за оскорбительного смещения Тимофея и раздражения, вызванного этим у влиятельной партии, преданной сыну Конона, но и из-за серьёзных сомнений в том, сможет ли он, несмотря на жёсткие меры по укомплектованию флота, спасти Керкиру. Если бы остров был захвачен, а Ификрат потерпел неудачу, он оказался бы перед лицом суровых обвинений и множества врагов в Афинах. Возможно, Каллистрат и Хабрий, оставшись дома, могли бы в таком случае оказаться среди его обвинителей – поэтому для него было важно связать их обоих со своим успехом или неудачей, а также воспользоваться военными талантами последнего и ораторским искусством первого. [322]
Однако, поскольку результат экспедиции оказался полностью благоприятным, все подобные опасения рассеялись. Ификрат мог легко отпустить обоих своих коллег, и Каллистрат пообещал, что, если ему позволят вернуться домой, он приложит все усилия, чтобы обеспечить флоту регулярную выплату жалованья из государственной казны; а если это окажется невозможным, то будет добиваться заключения мира. [323]
Так ужасны были трудности, с которыми греческие военачальники теперь сталкивались при получении денег из Афин (или других городов, на службе у которых они находились) для выплаты своим войскам! Ификрат испытывал те же затруднения, что и Тимофей годом ранее, – и в дальнейшем эти проблемы будут ощущаться ещё острее, как мы увидим по мере продвижения в истории. Пока же он содержал своих моряков, находя для них работу на фермах керкирян, где, несомненно, требовалось много восстановительных работ после опустошений, учинённых Мнасиппом. Сам же он переправился в Акарнанию со своими пельтастами и гоплитами, где поступил на службу к городам, дружественным Афинам, против тех, что поддерживали Спарту, – особенно против воинственных жителей укреплённого города Фириеида. [324]
Успех керкирской экспедиции, вызвавший всеобщее удовлетворение в Афинах, оказался не менее выгодным для Тимофея, чем для Ификрата. В ноябре 373 г. до н. э. первый, а также его казначей или военный квестор Антимах предстали перед судом. Каллистрат, вернувшись домой, выступил против квестора, а возможно, и против самого Тимофея, в качестве одного из обвинителей; [325] хотя, вероятно, в более мягком и умеренном духе, учитывая их недавний совместный успех и общее благодушное настроение в городе.
И если остриё обвинения против Тимофея таким образом притупилось, то защита усилилась не только благодаря многочисленным друзьям-гражданам, выступавшим в его пользу с возросшей уверенностью, но и необычному явлению – поддержке двух влиятельных иностранных союзников. По просьбе Тимофея, как Алкет Эпирский, так и Ясон Ферский прибыли в Афины незадолго до суда, чтобы выступить в его защиту. Он принял их и разместил в своём доме на Гипподамовой агоре, главной площади Пирея. Поскольку в то время он испытывал финансовые затруднения, ему пришлось занять у Пасиона, богатого банкира, жившего поблизости, различные предметы роскоши, чтобы оказать им должный приём: одежду, постельные принадлежности и два серебряных кубка. Эти важные свидетели могли подтвердить усердную службу и достойные качества Тимофея, который внушил им искренний интерес и способствовал их союзу с Афинами – союзу, который они скрепили, немедленно обеспечив переправу Стесикла и его отряда через Фессалию и Эпир на Керкиру.
Умы дикастов должны были быть сильно впечатлены присутствием перед ними такого человека, как Ясон Ферский, в тот момент самого могущественного человека в Греции; и мы [стр. 154] не удивляемся, узнав, что Тимофей был оправдан. Его казначей Антимах, судившийся другим составом дикастов и, несомненно, не имевший столь могущественных защитников, оказался менее удачлив. Он был приговорён к смерти, а его имущество конфисковано; дикасты, очевидно, считали (на основании каких доказательств – нам неизвестно), что он виновен в мошенничестве при распоряжении государственными деньгами, что нанесло серьёзный ущерб в критический момент. В данных обстоятельствах он, как казначей, нёс ответственность за финансовую сторону порученного Тимофею народом командования по сбору средств.
Что касается военных действий, за которые лично отвечал сам Тимофей, мы можем лишь отметить, что, получив командование специально для спасения осаждённой Керкиры, он потратил неоправданно много времени на свою собственную инициативную кампанию в других местах, хотя сама по себе она была выгодна Афинам. Если бы Керкира действительно была захвачена, народ имел бы все основания возложить вину за это несчастье на его промедление. [326] И хотя [стр. 155] он был теперь оправдан, его репутация настолько пострадала от всей этой истории, что следующей весной он с радостью принял предложение персидских сатрапов, предложивших ему командование греческими наёмниками на службе у них в египетской войне; [стр. 157] это было то самое командование, от которого незадолго до этого отказался Ификрат. [327]
Тот адмирал, чьи морские силы были усилены большим числом керкирских триер, беспрепятственно совершал набеги на Акарнанию и западное побережье Пелопоннеса. Настолько, что изгнанные мессенцы, находившиеся в далёкой ссылке в Гесперидах в Ливии, начали надеяться на возвращение в Навпакт с помощью Афин, где они находились под их защитой во время Пелопоннесской войны. [328] И пока афиняне господствовали на море как к востоку, так и к западу от Пелопоннеса, [329] Спарта и её союзники, обескураженные катастрофическим провалом своей экспедиции против Керкиры в предыдущем году, по-видимому, бездействовали. В таком настроении они были сильно потрясены религиозным страхом, вызванным ужасными землетрясениями и наводнениями, обрушившимися на Пелопоннес в этом году и воспринятыми как знаки гнева бога Посейдона. В этом году Пелопоннес пережил больше таких грозных явлений, чем когда-либо прежде; особенно одно, самое страшное, в результате которого были уничтожены два города – Гелика и Бура в Ахее, вместе с большой частью их населения. Десять лакедемонских триер, случайно стоявших на якоре у этого берега в ночь катастрофы, были уничтожены нахлынувшими водами. [330]
В этих угнетающих обстоятельствах лакедемоняне прибегли к тому же манёвру, который хорошо послужил им пятнадцать лет назад, в 388–387 гг. до н. э. Они снова отправили Анталкида послом в Персию, чтобы просить как денежной помощи, [331] так и нового персидского вмешательства для подтверждения мира, носящего его имя. Этот мир теперь, по мнению лакедемонян, был нарушен восстановлением Беотийского союза под главенством Фив. И, по-видимому, осенью или зимой персидские послы действительно прибыли в Грецию, требуя, чтобы все воюющие стороны прекратили войну и уладили свои разногласия на принципах Анталкидова мира. [332] Персидские сатрапы, в это время возобновлявшие свои усилия против Египта, были заинтересованы в прекращении боевых действий в Греции, чтобы увеличить число греческих наёмников; именно для командования этими войсками Тимофей несколькими месяцами ранее покинул Афины.
Однако, помимо этой перспективы персидского вмешательства, которая, несомненно, имела определённый эффект, сами Афины всё больше склонялись к миру. Тот общий страх и ненависть к лакедемонянам, которые в 378 г. до н. э. привели их к союзу с Фивами, теперь уже не доминировали. Афины фактически возглавляли значительный морской союз, и вряд ли они могли надеяться расширить его, продолжая войну, поскольку морское могущество Спарты уже было подорвано. Кроме того, они находили военные расходы чрезвычайно обременительными, никак не покрываемыми ни взносами союзников, ни плодами победы. Оратор Каллистрат, пообещавший либо обеспечить перечисления денег Ификрату из Афин, либо добиться заключения мира, [стр. 159] был вынужден ограничиться последним и много сделал для укрепления мирных настроений среди своих сограждан. [333]
Более того, афиняне всё больше отдалялись от Фив. Древняя вражда между этими соседями на время была подавлена общим страхом перед Спартой. Но как только Фивы восстановили свою власть в Беотии, афинская ревность снова дала о себе знать. В 374 г. до н. э. Афины заключили мир со спартанцами без согласия Фив; этот мир был почти сразу нарушен самими спартанцами из-за действий Тимофея на Закинфе. Фокидяне, против которых Фивы теперь вели войну как против активных союзников Спарты в её вторжениях в Беотию, также были давними друзьями Афин, сочувствовавшими их страданиям. [334] Кроме того, фиванцы, со своей стороны, вероятно, возмущались неоплаченным и бедственным положением, в котором Тимофей оставил их моряков на Калаврии во время экспедиции по спасению Керкиры в предыдущем году; [335] экспедиции, от которой одни Афины получили и славу, и выгоду.
Хотя они оставались членами союза, отправляя делегатов на собрания в Афинах, неприязненный дух с обеих сторон продолжал расти и ещё более обострился из-за их насильственных действий против Платей в первой половине 372 г. до н. э.
В последние три-четыре года Платея, как и другие города Беотии, снова вошла в состав союза под главенством Фив. Восстановленная Спартой после Анталкидова мира как якобы автономный город, она была занята их гарнизоном как опорный пункт против Фив и уже не могла сохранять реальную автономию после того, как спартанцы были изгнаны из Беотии в 376 г. до н. э. В то время как другие беотийские города радовались освобождению от своих филолаконских олигархий и воссоединению с федерацией под началом Фив, Платея, как и Феспии, подчинилась объединению лишь по принуждению, выжидая удобного момента для выхода – будь то с помощью Спарты или Афин.
Очевидно, осознавая растущую холодность между афинянами и фиванцами, платейцы тайно пытались убедить Афины принять и занять их город, присоединив Платею к Аттике; [336] проект рискованный как для Фив, так и для Афин, поскольку он привёл бы их к открытой войне друг с другом, в то время как ни одна из сторон ещё не находилась в мире со Спартой.
Эта интрига, став известной фиванцам, побудила их нанести решительный удар. Их главенство над многими малыми городами Беотии всегда было суровым, что соответствовало грубости их нрава. Особенно по отношению к Платеям они питали не только давнюю вражду, но и считали восстановленный город не чем иным, как спартанским вторжением, отнимавшим у них часть территории, которая стала фиванской благодаря сорокалетнему владению после сдачи Платей в 427 г. до н.э. [337] Поскольку для Фив это означало бы потерю и осложнение, если бы Афины приняли предложение Платей, они предупредили эту возможность, захватив город сами.
После повторного завоевания Беотии Фивами платейцы, хотя и неохотно, вновь оказались под древней беотийской конституцией. Они жили в мире с Фивами, признавая их права как главы федерации, а взамен их собственные права как членов союза гарантировались Фивами – вероятно, на основании формального соглашения, включавшего их безопасность, территорию и ограниченную автономию в рамках федеральных обязательств.
Но даже находясь в мире с Фивами, [337] платейцы хорошо понимали истинные чувства фиванцев к ним и свои собственные к Фивам. Если верить весьма вероятным слухам, что они тайно вели переговоры с Афинами о помощи в выходе из федерации, осознание этой интриги лишь усиливало их тревогу и подозрительность. Опасаясь агрессии со стороны Фив, они постоянно были настороже. Однако их бдительность ослабла, и большинство мужчин покинуло город, отправившись в свои загородные поместья в дни, когда в Фивах проводились народные собрания, даты которых были известны заранее.
Этим воспользовался беотарх Неокл. [338] Он повел фиванский отряд прямо с собрания обходным путем через Гиссии к Платеям, где застал город почти без мужчин, неспособный к сопротивлению. Платейцы, застигнутые врасплох в полях, обнаружили свои стены, жен и детей во власти победителей и были вынуждены принять предложенные условия. Им разрешили уйти в безопасности, забрав движимое имущество, [p. 162] но их город был разрушен, а территория вновь присоединена к Фивам. Несчастные беглецы во второй раз искали убежища в Афинах, где их снова приняли дружелюбно и восстановили в ограниченных гражданских правах, которые они имели до Анталкидова мира. [339]
Фивы вмешивались не только в дела Платей, но и Феспий. Не доверяя настроениям феспийцев, они заставили их снести укрепления своего города, [340] как уже делали пятьдесят два года назад после победы при Делии, [341] подозревая их в симпатиях к Афинам.
Такие действия фиванцев в Беотии вызвали сильное возмущение в Афинах, где платейцы не только появились [p. 163] как просители, демонстрируя явные следы своих страданий, но и трогательно изложили свое дело перед народным собранием, умоляя помочь вернуть город, от которого их только что оторвали. По вопросу, столь трогательному и политически значимому, несомненно, было произнесено множество речей, одна из которых, к счастью, дошла до нас – речь Исократа, возможно, произнесенная платейским оратором перед собранием. В ней ярко описана тяжелая судьба этого небольшого, но важного сообщества, включая горькие упреки (не без риторического преувеличения) в адрес многочисленных несправедливостей Фив как по отношению к Афинам, так и к Платеям.
Хотя многие его обвинения звучали резко, они не всегда были убедительны. Например, когда оратор неоднократно ссылался на право Платей на автономию, гарантированную Анталкидовым миром, [342] фиванцы, несомненно, отвечали, что на момент заключения мира Платей уже не существовало: город был уничтожен сорок лет назад и возрожден спартанцами лишь в своих политических целях. Оратор прямо указывает, что фиванцы нисколько не стыдились своих действий и даже прибыли в Афины, чтобы открыто их оправдать; более того, некоторые видные афинские ораторы поддержали их сторону. [343]
То, что платейцы сотрудничали со Спартой в ее недавних действиях в Беотии против Афин и Фив, было неоспоримым фактом, который сам оратор мог лишь смягчать, утверждая, что они действовали под давлением спартанских сил. Однако противники использовали это как доказательство их проспартанских настроений и готовности вновь присоединиться к общему врагу. [344] Фиванцы обвиняли Платеи в измене союзу и даже утверждали, что оказали услугу афинской конфедерации, изгнав жителей Платей и разрушив Феспии, поскольку оба города не только симпатизировали Спарте, но и находились у Киферона – рубежа, через который спартанская армия могла вторгнуться в Беотию. [345]
В афинском народном собрании и на общем конгрессе союзников в Афинах разгорелись жаркие споры по этому вопросу. [346] В этих дебатах, как сообщается, Эпаминонд, выступавший как оратор и представитель Фив, достойно противостоял афинскому оратору Каллистрату, защищая фиванскую позицию с таким мастерством, что это еще больше укрепило его растущую репутацию. [347]
Хотя фиванцы и их афинские сторонники, опираясь на благоразумие, добились того, что платейцев не восстановили и против их изгнателей не было предпринято враждебных действий, общий итог дебатов, проникнутых сочувствием к страданиям платейцев, серьезно подорвал добрые отношения между Афинами и Фивами. Это проявилось в усилении стремления к миру со Спартой, которое активно отстаивал оратор Каллистрат. Теперь этому способствовало не только персидское посредничество, но и тяжелые издержки войны, а также отсутствие перспектив выгоды от ее продолжения.
В конце концов было принято решение – сначала Афинами, а затем, вероятно, большинством союзников, собравшихся в Афинах, – предложить Спарте мир, где аналогичные настроения также преобладали. Фиванцы были уведомлены об этом намерении и приглашены прислать своих послов, если пожелают участвовать.
Весной 371 г. до н.э., когда члены спартанской конфедерации собрались в Спарте, туда прибыли афинские и фиванские послы, а также представители различных членов афинского союза. Среди афинских послов были как минимум двое – Каллий (наследственный дадух, или факелоносец, Элевсинских мистерий) и Автокл – представители знатных афинских семей, а также оратор Каллистрат. [348] Из фиванцев единственным заметным деятелем был Эпаминонд, в то время один из беотархов.
О дебатах, состоявшихся на этом важном конгрессе, мы знаем очень плохо; а о частных дипломатических беседах, не менее важных, чем дебаты, мы вообще ничего не знаем. Ксенофонт передает нам речь каждого из трех афинян, и никого больше. Речь Каллиаса, объявившего себя наследственным проксеном Спарты в Афинах, хвастлива и пуста, но в высшей степени фило-лаконская по духу; [349] речь Автоклеса – в противоположном тоне, полная суровых порицаний прошлого поведения Спарты; А послание Каллистрата, произнесенное после двух других, – в то время как враги Спарты были воодушевлены, ее друзья унижены, а обе стороны молчали от свежего воздействия упреков Автоклеса, [350] – составлено в духе примирения; признавая недостатки обеих сторон, но осуждая продолжение войны, как вредное для обеих, и показывая, насколько совместные интересы обеих сторон указывают на мир. [351] [p. 166]
Этот оратор, представляющий афинскую дипломатию того времени, ясно признает Анталкидов мир основой, на которой Афины были готовы вести переговоры, – автономию для каждого города, малого и великого; и таким образом, совпадая с взглядами персидского царя, он с безразличием отвергает угрозу, что Анталкид возвращается из Персии с деньгами для помощи лакедемонянам в войне. Не из страха перед персидскими сокровищами (утверждал он), – как заявляли враги мира, – Афины искали мира. [352] Их дела теперь были столь процветающими как на море, так и на суше, что доказывали: они поступали так лишь из-за общих бедствий затяжной войны и из-за благоразумного отказа от той безрассудной уверенности, которая всегда готова была бороться за крайние ставки, [353] подобно игроку, ставящему всё или ничего. Настало время и Спарте, и Афинам прекратить вражду. Первая имела силу на суше, вторые господствовали на море; так что каждая могла защитить другую; в то время как примирение между ними принесло бы мир всему эллинскому миру, поскольку в каждом отдельном городе одна из двух противоборствующих местных партий опиралась на Афины, другая – на Спарту. [354] Но было совершенно необходимо, чтобы Спарта отказалась от той системы агрессии (уже резко осужденной афинянином Автоклом), которой она придерживалась со времени Анталкидова мира; системы, от которой она в конце концов пожала горькие плоды, поскольку её несправедливый захват Кадмеи привел к тому, что все беотийские города, чью отдельную автономию она всеми силами старалась обеспечить, оказались в объятиях фиванцев. [355]
В этой замечательной речи, трезво оценивающей текущее положение дел, выделяются два момента: во-первых, автономия для каждого города; и автономия в подлинном смысле, не искаженная и не навязанная интересами Спарты, как это было при Анталкидовом мире; во-вторых, распределение такого преобладания или главенства, которое совместимо с этой всеобщей автономией, между Спартой и Афинами – первая на суше, вторые на море, – как средство обеспечения спокойствия в Греции. Та «автономия, извращенная в угоду лакедемонянам», которую Перикл осуждал перед Пелопоннесской войной как состояние Пелопоннеса и которая стала политическим каноном Греции благодаря Анталкидову миру, теперь подошла к концу. С другой стороны, Афины и Спарта должны были стать взаимными партнерами и гарантами; разделив главенство над Грецией по четкой демаркационной линии, но ни одна из них не вмешиваясь в принцип всеобщей автономии. Таким образом, Фивы и их притязания на гегемонию в Беотии должны были быть отвергнуты по взаимному согласию.











