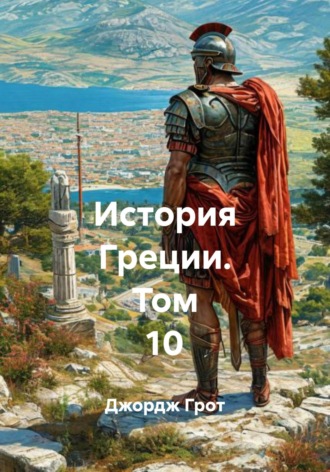
Полная версия
История Греции. Том 10
Изгнанники из Фив, прибыв в Спарту, до крайности разожгли гнев как эфоров, так и ненавидящего Фивы Агесилая. Хотя стояла глубокая зима, [200] немедленно было решено начать поход против Фив, и союзные контингенты были призваны. Агесилай отказался принять командование, ссылаясь на то, что ему уже за шестьдесят, и потому он более не обязан нести заграничную службу. Но (как говорит Ксенофонт [201]) это была не настоящая причина. Он боялся, что его враги в Спарте скажут: «Вот Агесилай снова втягивает нас в расходы, чтобы поддерживать тиранов в других городах», – как он только что сделал и был упрекаем за это во Флиунте; это второе доказательство того, что упреки в адрес Спарты (которые я привел несколькими страницами ранее из Лисия и Исократа) о союзе с греческими тиранами и варварами для подавления греческой свободы находили отклик даже в самой Спарте. В итоге командование принял Клеомброт, второй царь Спарты. Он недавно сменил своего брата Агесиполида и ранее никогда не командовал. [стр. 95]
Клеомброт повел свою армию через Истм Коринфа, Мегары к Платеям, разгромив фиванский аванпост, состоявший в основном из освобожденных недавней революцией пленников, поставленных для защиты горного прохода. От Платей он двинулся к Феспиям, а оттуда – к Киноскефалам на фиванской территории, где простоял лагерем шестнадцать дней, после чего отступил обратно в Феспии. Похоже, он ничего не предпринимал, и его бездействие вызывало немалое удивление в армии, где даже начали сомневаться, действительно ли он враждебен Фивам. Возможно, изгнанники, с обычным преувеличением, внушили ему надежду, что смогут поднять восстание в Фивах, если он подойдет ближе. В любом случае, плохая погода, должно быть, серьезно мешала действиям, поскольку на обратном пути в Пелопоннес через Креусис и Эгостены поднялся такой ураган, что солдаты не могли идти, не бросив щитов, чтобы потом вернуться за ними. Однако Клеомброт не покинул Беотию, не оставив Сфодрия гармостом в Феспиях с третью всей армии и значительной суммой денег для найма наемников и активных действий против фиванцев. [202]
Армия Клеомброта, проходя по границам Аттики от Мегар к Платеям, вызвала такую тревогу у афинян, что они поставили Хабрия с отрядом пельтастов охранять их границу и соседнюю дорогу через Элевферы в Беотию. Это был первый раз, когда лакедемонская армия вступила на землю Аттики (больше не защищенную коринфскими укреплениями, как в войне 394–388 гг. до н.э.) со времен ухода царя Павсания в 404 г. до н.э., что ясно показало уязвимость страны и оживило в афинском сознании страшные воспоминания о Декелее и Пелопоннесской войне. Именно в разгар этой тревоги – и, видимо, пока Клеомброт еще стоял с армией у Феспий или Киноскефал, близ афинской границы – в Афины прибыли три лакедемонских посла, Этимокл и двое других, чтобы потребовать возмездия за участие двух афинских стратегов и афинских добровольцев в заговоре Пелопида и его товарищей. Настолько сильным было всеобщее стремление не раздражать Спарту, что оба стратега были преданы суду. Первый был осужден и казнен; второй, учтя этот урок (поскольку, согласно псефизме Каннона, [203] их судили отдельно), бежал, и против него был вынесен приговор об изгнании. [204] Эти стратеги, несомненно, злоупотребили своей властью. Они подвергли государство опасности, не только не посоветовавшись с советом или народным собранием, но даже не спросив мнения своей коллегии Десяти. Тем не менее, суровость приговора отражала не только недовольство, но и страх афинян, а также служила фактическим (если не формальным) отречением от всякой политической связи с Фивами. [205] [стр. 97]
Однако еще до того, как лакедемонские послы покинули Афины, произошел случай, столь же внезапный, сколь и памятный, полностью изменивший настроение афинян. Лакедемонский гармост Сфодрий (оставленный Клеомбротом в Феспиях для войны с Фивами), узнав, что Пирей со стороны суши не имеет ни ворот, ночной стражи – поскольку нападения не ожидали, – задумал внезапным ночным маршем из Феспий захватить его и одним ударом овладеть торговлей, богатством и морскими ресурсами Афин. Выступив вечером после раннего ужина, он рассчитывал достичь Пирея к утру. Но его расчеты оказались ошибочными. Утро застало его лишь на Фриасийской равнине близ Элевсина, откуда, поняв бесполезность дальнейшего продвижения, он повернул обратно в Феспии, не преминув, однако, разграбить окрестные афинские владения.
Этот план против Пирея нельзя назвать плохо задуманным. Будь Сфодрий человеком, способным организовать и выполнить столь же стремительные маневры, как Брасид, нет причин сомневаться в успехе; в таком случае весь ход войны изменился бы, поскольку спартанцы, овладев Пиреем, смогли бы и стали бы удерживать его. Но это была одна из тех несправедливостей, которые никто не хвалит, пока они не удались – «consilium quod non potest laudari nisi peractum». [206] Поскольку она провалилась, современники, как и позднейшие критики, видели в ней не только преступление, но и ошибку, а ее автора, Сфодрия, считали храбрецом, но человеком крайне безрассудным и легкомысленным. [207] Не принимая полностью эту оценку, можно предположить, что его агрессия была вызвана неудачным стремлением сравняться со славой Фойбида, который, несмотря на притворный или кратковременный гнев сограждан, приобрел ее захватом Кадмеи. Утверждение Диодора, что Сфодрий действовал по тайному приказу Клеомброта, недостаточно подтверждено; а подозрение, намекаемое Ксенофонтом, будто его подстрекали тайные посланцы и подкуп со стороны врагов-фиванцев, чтобы втянуть Афины в войну со Спартой, маловероятно; [208] и кажется лишь гипотезой, подсказанной последствиями поступка – которые были таковы, что, будь он подкуплен врагами, он не мог бы лучше им послужить. [стр. 100]
Появление Сфодрия с войском на Фриасийской равнине стало известно в Афинах на рассвете и вызвало не меньше ужаса, чем изумления. Все мгновенно взялись за оружие для обороны; но вскоре пришла весть, что нападавший отступил. Успокоившись, афиняне перешли от страха к гневу. Лакедемонские послы, остановившиеся в доме proxena Спарты Каллия, были немедленно арестованы и допрошены. Но все трое заявили, что они не менее потрясены и возмущены походом Сфодрия, чем сами афиняне, добавив в подтверждение, что, будь они в курсе плана захватить Пирей, они не остались бы в городе, в доме proxena, где их, конечно, сразу схватили бы. Они заверили афинян, что Сфодрий не только будет отвергнут с негодованием, но и казнен в Спарте. Их ответ сочли столь удовлетворительным, что им позволили уехать, а афинское посольство отправили в Спарту требовать наказания виновного. [209]
Эфоры немедленно вызвали Сфодриа в Спарту для суда по обвинению, караемому смертью. Он сам настолько отчаялся в своем деле, что не осмелился явиться; при этом общее мнение как в Спарте, так и за ее пределами было таково, что он непременно будет осужден. Тем не менее, несмотря на отсутствие и отсутствие защиты, он был оправдан исключительно благодаря личной симпатии и уважению к его общей репутации. Он принадлежал к партии Клеомброта, так что все друзья этого правителя, естественно, поддержали его дело. Но поскольку он был членом партии, противостоящей Агесилаю, его друзья опасались, что последний выступит [p. 101] против него и добьется его осуждения. Сфодриа спасла только особая близость между его сыном Клеонимом и Архидамом, сыном Агесилая. Скорбная настойчивость Архидама побудила Агесилая, когда это важное дело было передано в Совет Спарты, отбросить свои судебные убеждения и высказаться следующим образом: «Конечно, Сфодриа виновен; в этом не может быть двух мнений. Тем не менее, мы не можем казнить человека, подобного ему, который в детстве, юности и зрелости оставался безупречным во всех отношениях спартанской чести. Спарта не может лишиться таких воинов, как Сфодриа [210].» Друзья Агесилая, следуя этому мнению и соглашаясь с друзьями Клеомброта, обеспечили благоприятный вердикт. И что примечательно, сам Этимокл, который в качестве посла в Афинах заявлял как о несомненном факте, что Сфодриа будет казнен, – как член совета и друг Агесилая проголосовал за его оправдание [211].
Это примечательное событие (дошедшее до нас от свидетеля не только филолаконского, но и лично близкого к Агесилаю) показывает, насколько сильно ход правосудия в Спарте подчинялся личным симпатиям и интересам, – особенно интересам двух царей. Оно особенно ярко иллюстрирует то, что было сказано в предыдущей главе относительно притеснений, совершаемых спартанскими гармостами и декадархиями, против которых в Спарте невозможно было добиться справедливости. Здесь был случай, когда не только вина Сфодриа была признана, но и его оправдание неизбежно должно было привести к войне с Афинами. Если при таких обстоятельствах афинское требование возмездия было отвергнуто из-за расположения двух царей, то какие шансы были у жалобы зависимого города или пострадавшего лица [p. 102] на гармоста? Поучителен также контраст между спартанской и афинской процедурами. Всего несколькими днями ранее афиняне по требованию Спарты осудили двух своих стратегов, которые без разрешения оказали помощь фиванским изгнанникам. При этом афинский дикастерион применил закон против явных служебных нарушений – и это в случае, когда их симпатии были на стороне поступка, хотя страх перед войной со Спартой оказался сильнее. Но самое важное обстоятельство, которое следует отметить, заключается в том, что в Афинах не было ни частного, ни царского влияния, способного перевесить искреннюю судебную совесть многочисленного и независимого дикастериона.
Результат оправдания Сфодриа, должно быть, был заранее известен всем сторонам в Спарте. Даже общее мнение Греции осудило этот приговор как несправедливый [212]. Но афиняне, которые так недавно строго отреагировали на протесты Спарты против своих собственных стратегов, были глубоко уязвлены этим решением – и тем более, что оправдание было основано на необычайных похвалах Сфодриа. Они немедленно заключили сердечный союз с Фивами и начали активную подготовку к войне против Спарты как на суше, так и на море. Завершив укрепления Пирея, чтобы исключить возможность повторного нападения, они занялись строительством новых военных кораблей и расширением своего морского господства за счет Спарты [213].
С этого момента в греческой политике началась новая комбинация. Афиняне сочли момент благоприятным для попытки создания нового союза, аналогичного Делосской симмахии, сформированной столетием ранее; на ее основе было создано могущественное Афинское государство, утраченное в конце Пелопоннесской войны. К этому созданию уже имелась определенная тенденция, поскольку у Афин уже была небольшая группа морских союзников, а такие ораторы, как Исократ (в своей «Панегирической речи», опубликованной двумя годами ранее), уже знакомили общественное мнение с более масштабными идеями. Но теперь это предприятие велось с решимостью и энергией людей, уязвленных недавним оскорблением. У афинян были хорошие основания для строительства, поскольку [p. 103], в то время как недовольство господством Спарты было широко распространено, недавняя революция в Фивах значительно ослабила то чувство страха, на котором это господство в основном держалось. Для Фив союз с Афинами был чрезвычайно желанным, и их лидеры охотно включили свой город в состав нового союза [214]. Они охотно признали главенство Афин, – однако, явно или неявно, сохранив свои права как руководители Беотийского союза, как только он будет восстановлен; это восстановление было в тот момент желательно даже для Афин, учитывая, что беотийские города теперь были зависимыми союзниками Спарты под управлением гармостов и олигархий.
Афиняне затем разослали послов по главным островам и приморским городам Эгейского моря, приглашая всех их к союзу на равных и почетных условиях. Основные принципы были в целом те же, что и при создании Делосской симмахии против персов почти столетием ранее. Предлагалось, чтобы в Афинах собрался конгресс депутатов, по одному от каждого города, малого и большого, каждый с одним голосом; чтобы Афины были председателями, но каждый город оставался автономным; чтобы был создан общий фонд и общие морские силы через взносы, наложенные этим конгрессом на каждого участника и используемые по его указанию; общая цель определялась как обеспечение свободы и безопасности от внешней агрессии для каждого союзника силами всех. Было приложено все усилия, чтобы по возможности избавиться от ассоциаций с данью и подчинением, которые сделали воспоминания о прежнем Афинском государстве непопулярными [215]. И поскольку было много афинских граждан, которые в те времена господства были поселены в качестве клерухов или колонистов в различных зависимых территориях, но лишились своей собственности в конце войны, – сочли необходимым принять формальный декрет [216], отказывающийся от любых попыток возобновления этих приостановленных прав. Было также постановлено, что отныне ни один афинянин ни под каким [p. 105] предлогом не может владеть собственностью, будь то дом или земля, на территории любого из союзников; ни путем покупки, ни в качестве залога за предоставленные деньги, ни любым другим способом приобретения. Любой афинянин, нарушивший этот закон, мог быть обвинен перед синодом; который, в случае доказательства факта, лишал его собственности, – половина ее шла доносчику, половина – на общие нужды союза.
Таковы были либеральные принципы союза, предложенные теперь Афинами, – которые, как претендент на власть, действовали прямо и справедливо, подобно геродотовскому Дейоку [217], – и формально ратифицированные как афинянами, так и общим голосом депутатов союза, собравшихся в их стенах. Формальный декрет и договор о союзе были высечены на каменной колонне и помещены рядом со статуей Зевса Элевтерия или Освободителя; символ освобождения от Спарты, а также свободы, которую предстояло защищать от Персии и других врагов [218]. Периодические собрания депутатов союза должны были проводиться (как часто, мы не знаем) в Афинах, и синод признавался компетентным судить всех лиц, даже афинских граждан, обвиняемых в измене союзу. Для обеспечения большей безопасности союзникам в целом, в первоначальном договоре было предусмотрено, что если какой-либо афинский гражданин будет либо выступать, либо ставить на голосование в афинском собрании что-либо, противоречащее духу этого документа, – он будет судим синодом за измену; и если будет признан виновным, они могут приговорить его к суровому наказанию.
Три афинских лидера занимали видное место в качестве уполномоченных при первой организации конфедерации и в отношениях с теми многочисленными городами, чье присоединение должно было быть достигнуто путем дружеских уговоров, – Хабрий, Тимофей, сын Конона, и Каллистрат [219].
Первый из трех уже известен читателю. Он и Ификрат были самыми выдающимися воинами, которых Афины могли назвать своими гражданами. Однако, не участвуя ни в одной войне после Анталкидова мира 387 г. до н.э., город не нуждался в их услугах; поэтому оба они отсутствовали в Афинах большую часть последних девяти лет, и, похоже, Ификрат всё ещё находился в отъезде.
Когда был заключён этот мир, Ификрат служил в Геллеспонте и Фракии, а Хабрий – с Эвагором на Кипре; каждый из них был отправлен туда Афинами во главе отряда наёмных пельтастов. Вместо того чтобы распустить свои войска и вернуться в Афины как мирные граждане, эти полководцы, следуя своим воинским склонностям, а также ради собственного влияния и выгоды, предпочли сохранить свои отряды и поступить на иностранную службу.
Так, Хабрий продолжил службу сначала на Кипре, затем у местного египетского царя Акориса. Персы, против которых он воевал, сочли его враждебность настолько неудобной, что Фарнабаз потребовал от афинян отозвать его под угрозой гнева Великого царя; одновременно он попросил, чтобы Ификрат был отправлен для помощи персидским сатрапам в организации крупной экспедиции против Египта. Афиняне, для которых благосклонность Персии теперь имела особое значение, согласились на оба условия: отозвали Хабрия, который таким образом стал доступен для афинской службы, [220] и отправили Ификрата принять командование вместе с персами.
Ификрат после Анталкидова мира использовал своих пельтастов на службе у фракийских царей: сначала у Севфа, близ берегов Пропонтиды, помогая ему вернуть утраченные владения, – затем у Котиса, чьё расположение он завоевал и на чьей дочери вскоре женился. [221] Он не только получил широкие возможности для военных действий и грабежа среди [p. 107] «поедающих масло фракийцев», [222] – но и приобрёл в качестве приданого значительные запасы тех продуктов, которыми распоряжались фракийские цари, а также благо ещё более важное – приморскую деревню недалеко от устья Гебра, называемую Дрис, где он устроил укреплённый пост и собрал греческую колонию, зависимую от него. [223] Мильтиад, Алкивиад и другие выдающиеся афиняне делали то же самое до него, хотя Ксенофонт отказался от подобного предложения, когда его сделал ему более ранний Севф. [224]
Таким образом, Ификрат стал важной фигурой во Фракии, но при этом не порывал связей с Афинами, а использовал своё положение в обоих местах для усиления своего влияния. Пока он мог способствовать проектам афинских граждан по приобретению торговых и территориальных владений в Херсонесе и других частях [p. 108] Фракии, – он также мог предоставлять помощь афинского флота и военного искусства не только фракийским царям, но и другим, даже за пределами этих земель, – поскольку мы знаем, что Аминта, царь Македонии, настолько привязался к нему или был ему обязан, что усыновил его. [225]
Когда Ификрат был отправлен афинянами в Персию по просьбе Фарнабаза (примерно в 378 г. до н.э.), у него были все основания ожидать, что перед ним открывается ещё более прибыльная карьера. [226] [p. 109]
Поскольку Ификрат находился за границей, афиняне назначили Хабрия, а также двух других коллег, о которых мы слышим впервые – Тимофея, сына Конона, и Каллистрата, самого знаменитого оратора того времени, [227] – для миссии и мер по организации их нового союза.
Способности Каллистрата вовсе не были военными, тогда как Тимофей и Хабрий были людьми с выдающимися военными заслугами. Но в привлечении новых союзников и депутатов к предлагаемому конгрессу Афины нуждались в убедительных речах, умелом ведении переговоров и реальной справедливости во всех предложениях не меньше, чем в полководческом искусстве.
Говорят, что Тимофей (несомненно, как сын освободителя Конона, благодаря воспоминаниям о битве при Книде) особенно преуспел в привлечении новых членов; и, вероятно, Каллистрат, [228] объезжая с ним разные острова, немало способствовал тому же результату своими речами. По их приглашению многие города вступили в союз. [229]
В то время (как и в раннем Делосском союзе) все присоединившиеся должны были быть добровольными членами. И мы можем понять их мотивы, если прочитаем описание, данное Исократом (в 380 г. до н.э.), персидской тирании на азиатском материке, угрожавшей поглотить соседние острова.
Теперь не только появилась новая мощная основа в виде союза Афин и Фив, но и широко распространилась ненависть к имперской Спарте, усилившаяся после её извращения мнимого блага автономии, обещанного Анталкидовым миром. Сочетание этих настроений сделало афинскую миссию по приглашению чрезвычайно успешной.
Все города Эвбеи (кроме Гестиеи на севере острова), а также Хиос, Митилена, Византий и Родос – первые три из которых сохраняли благоприятное отношение к Афинам ещё со времён Анталкидова мира [230] – все вступили в союз.
Афинский флот под командованием Хабрия, курсируя среди Киклад и других островов Эгейского моря, способствовал изгнанию лакедемонских гармостов [231] вместе с преданными им местными олигархиями, где они ещё сохранялись. Все освобождённые таким образом города стали равноправными членами вновь созданного конгресса в Афинах.
Через некоторое время в нём участвовало не менее [p. 112] семидесяти городов, многие из которых были весьма могущественны, [232] – достаточное количество, чтобы устрашить Спарту и даже вселить в Афины надежду на возрождение былого величия.
Первые решения как самих Афин, так и нового конгресса, предвещали войну в самых крупных масштабах. Было принято постановление снарядить двадцать тысяч гоплитов, пятьсот всадников и двести триер. [233]
Вероятно, островные и ионийские депутаты обещали определённые денежные взносы, но не более того. Однако мы не знаем, насколько эти обязательства – большие или малые – были выполнены, имели ли Афины право принуждать неисправных плательщиков или были в состоянии воспользоваться таким правом, даже если оно было предоставлено им конгрессом.
Именно таким образом (как читатель помнит из моего пятого тома) Афины впервые стали непопулярны в Делосском союзе – принудительно исполняя решения союзного совета против уклоняющихся или выходящих членов. Именно так первоначально добровольное объединение постепенно превратилось в принудительную империю.
В новых условиях 378 г. до н.э. можно предположить, что союзники, хотя и были полны энтузиазма и щедры на обещания при первом собрании в Афинах, с самого начала не отличались точностью в их выполнении, а со временем стали ещё менее обязательными. Однако Афины вынуждены были воздерживаться от требований или применения права принуждения.
Принять решение о взносах большинством присутствующих депутатов было лишь первым шагом; добиться своевременной выплаты, когда афинский флот отправлялся для их сбора, – но при этом не навлечь на себя опасную непопулярность, – было вторым шагом, но гораздо более сомнительным и трудным.
Тем не менее следует помнить, что в момент создания союза и Афины, и другие города [p. 113] объединились благодаря искреннему взаимному порыву и сотрудничеству.
Спустя несколько лет мы увидим, что ситуация изменилась: Афины стали действовать эгоистично, а союзники – неохотно. [234]
Воодушевлённые своим возрождённым лидерством, а также новой ненавистью к Спарте, афиняне предприняли значительные собственные усилия – как финансовые, так и военные. Создав флот, который на тот момент был сильнейшим в Эгейском море, они опустошили враждебную территорию Гестиеи на Эвбее и присоединили к своему союзу острова Пепареф и Скиаф.
Они также ввели прямой налог на имущество; однако его размер нам неизвестен.
Именно по случаю этого налога они внесли значительные изменения в финансовую систему и устройство города; изменения, прославившие архонтство Навсиника (378–377 гг. до н.э.). Основная масса состоятельных афинских граждан, а также метэки, были теперь переклассифицированы для целей налогообложения.
Следует помнить, что ещё со времён Солона [235] граждане Афин делились на четыре класса – пентакосиомедимны, всадники, зевгиты и феты – различавшиеся между собой по размеру имущества. Из этих соловоновых классов четвёртый, или беднейший, не платил прямых налогов, тогда как три первых облагались налогом в соответствии с оценкой, представлявшей определённую долю их реального имущества. Налогооблагаемое имущество самых богатых (пентакосиомедимнов, включавших всех, чей доход составлял не менее пятисот медимнов зерна в год) заносилось в налоговую книгу в сумме, равной двенадцатикратному их доходу; имущество всадников (включавших всех, чей годовой доход составлял от трёхсот до пятисот медимнов) – в десятикратном размере; имущество зевгитов (или тех, чей годовой доход составлял от двухсот до трёхсот медимнов) – в пятикратном размере. Один медимн зерна приравнивался к одной драхме, что позволяло применять эту же классовую систему как к движимому имуществу, так и к земле. Таким образом, когда вводился реальный имущественный налог (эйсфора), он действовал как равный или пропорциональный налог в пределах одного класса, но как прогрессивный – при сравнении членов более богатого класса с членами более бедного.
Три вышеупомянутых соловоновых имущественных класса, по-видимому, просуществовали, хотя, вероятно, не без изменений, вплоть до конца Пелопоннесской войны и в значительной степени сохранились после восстановления демократии в 403 г. до н.э., во время архонтства Евклида [236]. Хотя к тому времени право занимать высшие государственные должности уже не зависело от имущественного ценза, всё же было необходимо иметь возможность отличать более состоятельных граждан не только в случае введения прямого налогообложения, но и потому, что обязанность нести литургии или обременительные повинности возлагалась на тех, чьё имущество превышало установленный минимум. Поэтому, по-видимому, соловонова система ценза сохранилась в своих основных принципах классификации и градации. После оценки имущества каждого человека его относили к одному из трёх или более классов в зависимости от его размера. Для каждого класса предполагалась фиксированная доля налогооблагаемого капитала по отношению к имуществу человека, и в списке указывалась не вся стоимость имущества, а сумма налогооблагаемого капитала, соответствующая его имуществу согласно принятой пропорции. В первом, самом богатом классе налогооблагаемый капитал составлял бóльшую долю от реального имущества, чем в менее богатых; во втором – бóльшую, чем в третьем. Сумма всех этих позиций налогооблагаемого капитала по всем классам, указанная напротив имени каждого человека в списке, составляла совокупный ценз Аттики, на основе которого налагался любой прямой имущественный налог – в равной пропорции для каждого.











