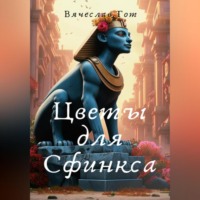Полная версия
Век Проклятых
– «Внемли, сын» … – произнес он тихо, и слова его были холоднее мрамора. – Он называет меня сыном. Как будто я мальчишка, а не помазанник Божий на троне Франции.
В тени за его спиной зашевелилась фигура. Гийом де Ногаре, его верный клинок из Лангедока, вышел на свет. Его смуглое лицо с острыми чертами светилось не возмущением, а ожидание, словно хищник, учуявший долгожданную добычу.
– Он оскорбляет не только вас, государь, – голос Ногаре был тихим, но ядовитым, словно шипение змеи. – Он оскорбляет саму Францию. Он заявляет, что его власть, духовная, простирается над вашей, светской. Что он вправе судить королей. Это ересь против самого принципа Бого установленной королевской власти.
Филипп медленно повернулся. Его синие глаза уставились на Ногаре.
– Он наложил интердикт на мое королевство. Запретил богослужения. Он думает, что, лишив мой народ таинств, он заставит меня согнуться.
– Он думает, что имеет дело с Генрихом IV в Каноссе, – отчеканил Ногаре. – Но времена изменились. И вы – не Генрих.
На губах Филиппа дрогнул подобие улыбки. Холодной и безрадостной.
– Что предлагаешь, мой верный легалист? Как бороться с тем, кто считает себя наместником Бога на земле?
– С помощью слова, государь. И клеветы, – без тени смущения ответил Ногаре. – Его тиара сидит на голове не так прочно, как ему кажется. В Риме у него много врагов. Семья Колонна ненавидит его. Ходят слухи… темные слухи о том, как он взошел на престол после отречения папы Целестина. Говорят, он советовался с демонами. Что он содомит. Что он не верит в бессмертие души.
– Слухи, – произнес Филипп с легким пренебрежением.
– Слухи, подкрепленные показаниями «свидетелей» и раздутые умелыми проповедниками по всей Франции, становятся оружием, – страстно парировал Ногаре. – Мы можем созвать Генеральные штаты. Не только духовенство и знать, но и горожан. Пусть вся Франция, все сословия услышат о злодеяниях этого лжепапы и поддержат своего короля! Мы объявим его еретиком. Преступником. Узурпатором.
Идея была дерзкой, беспрецедентной. Апеллировать не к теологии, а к народу? Превратить богословский диспут в политический процесс?
– Сделай это, – просто сказал Филипп. В его глазах вспыхнул тот самый холодный огонь, который видели лишь немногие. Огонь абсолютной, безжалостной решимости.
Началась грандиозная пропагандистская машина. По всей Франции зазвучали голоса королевских проповедников, обвиняющих Бонифация во всех смертных грехах. Ногаре, как главный инквизитор этой новой ереси, собирал, фабриковал и облекал в юридические формы любые сплетни. Был созван первый в истории Генеральные штаты с участием третьего сословия. И они поддержали короля. Франция, от знатного барона до парижского лавочника, сплотилась против римского узурпатора.
Бонифаций VIII пришел в ярость. Его ответ был сокрушительным – булла «Unam Sanctam», самый радикальный манифест папского всевластия за всю историю католической церкви. «…Заявляем, говорим, определяем и провозглашаем, что подчинение римскому первосвященнику является для всякого человеческого существа совершенно необходимым условием его спасения».
Свиток с этим текстом лег на стол Филиппа. Король прочел его, не дрогнув ни одним мускулом.
– Он объявил мне войну, – констатировал он. – Не на жизнь, а на смерть.
Ногаре склонился в почтительном поклоне.
– Тогда мы должны нанести удар первыми, государь. Пока он не отлучил вас официально и не освободил ваших подданных от присяги. Пока его гнев не обрушился на Францию с новой силой.
– Что ты предлагаешь? – спросил Филипп, хотя прекрасно знал ответ.
– Арестовать его, государь. Доставить во Францию и предать суду вселенского собора. Я готов возглавить экспедицию.
Филипп смотрел на своего советника долгим, пронизывающим взглядом. Он понимал весь риск. Это было святотатство. Это могло навлечь на него гнев всей Европы. Но Бонифаций не оставил ему выбора. Либо абсолютная власть папы, либо абсолютная власть короля. Третьего не дано.
– Отправляйся, – сказал король. – И сделай все, что должно быть сделано. От моего имени.
7 сентября 1303 года. Ананьи, Италия.
Дворец папы в его родном городе был не такой неприступной крепостью, как замок Святого Ангела в Риме. Отряду Ногаре и его союзника, Шарра Колонны, заклятого врага Бонифация, удалось ворваться внутрь.
То, что произошло дальше, стало легендой, которая в ужасе облетела всю Европу. Ногаре ворвался в покои восьмидесяти шестилетнего папы. Бонифаций, уже больной и немощный, но не сломленный духом, встретил их, облаченный в папские регалии, восседая на троне со крестом в руках.
– Вот моя шея, вот моя голова! – крикнул он, по легенде. – Умру я, но умру как папа!
Его не убили. Но его унизили. Говорили, что Шарра Колонна ударил его железной перчаткой по лицу. Что его бросили в темницу, оскорбляли и собирались вывезти во Францию. Сердце старого папы не выдержало позора и потрясения. Через месяц после этого нападения он умер в Риме, сломленный и обесчещенный.
Весть о смерти Бонифация достигла Парижа быстро. Ногаре вернулся ко двору, ожидая, если не награды, то хотя бы одобрения.
Филипп принял его в том же кабинете, где все и началось.
– Он мертв, – доложил Ногаре.
Король медленно кивнул. На его мраморном лице не было ни радости, ни торжества. Лишь холодное удовлетворение от решенной задачи.
– Отлично, – произнес он. – Теперь мы обеспечим избрание нового папы. Благочестивого. И понимающего свои обязанности перед короной Франции.
Он повернулся к окну. Папская игра была выиграна. Цена оказалась высокой – дым от сожженной буллы смешался с дымом скандала, который будет преследовать его имя еще долго. Но он доказал себе и всему миру главное: нет такой силы на земле – ни духовной, ни светской, – которая могла бы безнаказанно бросить вызов «Железному королю». Никто. Даже наместник Бога.
Тень Ананьи легла на его правление, но для Филиппа это была не тень позора, а тень победы. Он переступил через последнюю священную границу. И теперь ничто не могло остановить его воля. А воля его уже была обращена к новой, куда более близкой и куда более богатой цели. К цели, что носила белый плащ с алым крестом.
Глава 4: Авиньонский пленник
1305 – 1309 гг.
Туман над По, густой и молочно-белый, скрывал не только берега реки, но и лица людей в лодке. Это была не просто предрассветная мгла; это была сама неопределенность, воплощенная в погоде. Кардинал Бертран де Го, архиепископ Бордо, кутался в дорогую, но промокшую мантию, стараясь не смотреть на воду. Конклав в Перудже зашел в тупик. Одиннадцать месяцев интриг, сплетен, взяток и закулисных сговоров не могли привести к избранию преемника Бенедикта XI, того самого папы, который столь внезапно и удобно скончался, едва успев начать расследование событий в Ананьи.
Бертран де Го был умен, осторожен и болен. Подагра терзала его суставы, превращая любое путешествие в пытку. Он не рвался в папы. Он рвался в Бордо, к своему знакомому камину и винным погребам. Но судьба, а вернее, длинная, невидимая рука, протянувшаяся из Парижа, уже коснулась его плеча.
В тумане показалась еще одна лодка. Бесшумная, как призрак. На ее носу стоял знакомый худощавый силуэт. Сердце кардинала сжалось. Гийом де Ногаре. Посланник французского короля. Призрак Ананьи.
Лодки поравнялись. Ногаре, не теряя времени на приветствия, перешагнул с борта на борт. Его лицо в предрассветных сумерках казалось высеченным из оливкового дерева – жестким и неумолимым.
– Ваше преосвященство, – его голос был тише шелеста воды о весла. – Конклав затягивается. Король проявляет беспокойство.
– Король может быть спокоен, – с трудом выдавил де Го. – Церковь ищет достойнейшего.
– Церковь ищет того, за кого проголосуют, – поправил его Ногаре с ледяной улыбкой. – А голоса… их можно направлять. Его величество считает, что достойнейший – это вы, монсеньор.
Де Го почувствовал, как под рясой выступает холодный пот.
– Я… я не стремился… Здоровье не позволяет…
– Здоровье папы – в руках Господа и лучших лекарей Франции, – парировал Ногаре. – Его величество обещает обеспечить и то, и другое. Он также помнит вашу… лояльность. И помнит тех, кто не лоялен.
В его словах не было прямой угрозы. Она витала в воздухе, гуще тумана. Де Го понимал намек. Он понимал, что отказ может означать не просто опалу. Человек, пославший Ногаре в Ананьи, не остановится ни перед чем.
– Чего хочет король? – прошептал кардинал, уже зная ответ.
– Дружбы, – просто сказал Ногаре. – Верности. И понимания, что интересы Церкви и короны Франции отныне неразделимы. Один из первых шагов к этой дружбе… аннулирование всех обвинений, связанных с Ананьи. Полное и безоговорочное.
Бертран де Го закрыл глаза. Он видел тиару. И он видел клетку. Великолепную, золотую, но клетку. Он сделал глубокий вдох, вдыхая запах речной сырости и политической сделки, от которой пахло серой.
– Передайте его величеству… – он сглотнул. – …что я ценю его доверие.
14 ноября 1305 года. Бертран де Го был избран папой и взял имя Климент V. Церемония коронации в Лионе проходила с невиданной пышностью, оплаченной из французской казны. И на ней присутствовал сам Филипп Красивый. Во время торжественного шествия обрушилась стена, под которой проезжали папа и король. Климент V был ранен, его брат убит. Филипп же остался невредимым, холодный и невозмутимый, как будто сама судьба подтверждала его избранность и его право диктовать условия тому, кого только что чудом не убило.
С этого дня независимость папства закончилась.
Климент V, запуганный, больной и вечно должный своему благодетелю, выполнял все условия. Ногаре и его сообщники были прощены. Все обвинения против них сняты. Папский двор, опасаясь враждебности римских кланов и чувствуя себя в безопасности лишь под сенью французской короны, начал свое долгое странствие по Провансу.
И наконец, обосновался в Авиньоне.
1309 год. Авиньон.
Город на Роне стал новым Ватиканом. Но это был Ватикан под присмотром. С высоких башен авиньонского дворца были видны французские земли. Здесь папство дышало воздухом, принесенным с севера, слышало французскую речь и подчинялось французской воле.
Филипп принимал доклад от Ногаре в своих покоях в Лувре. Мариньи стоял рядом со свитком в руках.
– Климент обосновался в Авиньоне, государь, – докладывал Ногаре. – Курия следует за ним. Рим в ярости, но что поделать? Папа чувствует себя там в безопасности.
– От кого? – спокойно спросил Филипп.
– От итальянских смут, государь, – с едва уловимой ухмылкой ответил Ногаре. – И… от всего остального.
Филипп кивнул. Он достиг невозможного. Он, светский правитель, приручил папство. Святой Престол стал его карманным институтом, удобным инструментом для легитимации любой его воли. Он был на пике своего могущества. Власть его простиралась от берегов Фландрии до Средиземного моря, и ни один епископ, ни один кардинал не смел и пикнуть без его одобрения.
Мариньи почтительно кашлянул.
– Поздравляю ваше величество с величайшей победой, – сказал он. – Однако…
Филипп медленно перевел на него свой ледяной взгляд.
– Однако?
– Однако казна, государь, – Мариньи развернул злополучный свиток. – Подержание папского двора, подарки кардиналам, взносы… Война во Фландрии, содержание армии… – Он сделал паузу, чтобы подобрать нужное слово, но нашел лишь простое и страшное: – Казна пуста. Совершенно пуста. Мы должны генуэзским банкирам, флорентийским банкирам, нашим же еврейским ростовщикам… Введены все возможные и невозможные налоги. Страна на грани бунта. Даже победа имеет свою цену. И эта цена… астрономическая.
В комнате повисло молчание. Ногаре смотрел на короля, ожидая вспышки гнева. Но ее не последовало.
Филипп подошел к окну и смотрел на Париж, на крыши домов своих подданных, на дымок очагов, которые он обложил непосильными поборами. Он достиг абсолютной власти. Но эта власть висела в воздухе, не имея под собой фундамента. Фундамента из золота.
Он повернулся. Его лицо было спокойно. В его голубых глазах горел тот самый холодный, расчетливый огонь, который видели лишь несколько раз – перед Фландрией, перед отправкой Ногаре в Ананьи.
– Есть сила во Франции, что богаче нас всех, вместе взятых, – произнес он тихо. – Сила, что ссужает деньги императорам и королям. Сила, что смеет жить по своим законам, не подчиняясь моим указам о налогах. Сила, что копит золото, в то время как корона нищает.
Он посмотрел на Ногаре.
– Вы подготовили материалы? Все, что нам нужно?
Ногаре кивнул, и в его глазах вспыхнул тот же огонек.
– Да, государь. Показания собраны. Обвинения составлены. Юридические основания… найдены. Осталось лишь ваше слово.
Филипп Красивый, король Франции, повелитель папы, сделал последний шаг к своей истинной цели. Он больше не нуждался в предлогах.
– Тогда начнем, – сказал: «Железный король». – Пришло время напомнить Тамплю, что во Франции есть только один король. И только одна казна.
Глава 5: Банкиры Бога
1310 год. Париж.
Владения Ордена Храма в Париже были не просто резиденцией. Это был оплот иной власти, государства в государстве, выстроенного не на крови и наследственных правах, а на золоте и вере. За высокими, неприступными стенами Тампля кипела жизнь, непохожая на суету остального города. Здесь царили порядок, дисциплина и несметное богатство.
Воздух в громадной казнохранительнице был густым и спертым, пахнущим старым камнем, пылью, воском от опечатанных свитков и сладковатым запахом благородного металла. Под сводчатыми потолками, поддерживаемыми мощными колоннами, рядами стояли дубовые сундуки, окованные железными полосами. Некоторые были распахнуты, и в свете факелов в них тускло мерцало золото – ливры, экю, флорины, марки, монеты всех христианских и не только королевств. В углах громоздились слитки серебра, свертки с жемчугом, ларец с изумрудами, присланными в дар от какого-то восточного эмира. Счетоводы, братья-тамплиеры в темных рясах, склонились над высокими конторками, их гусиные перья скрипели по пергаменту, внося в огромные фолианты приход и расход сумм, способных купить целое герцогство.
Рыцари в белых плащах с алыми крестами неспешно прохаживались между рядами сокровищ. Их лица были спокойны и надменны. Они были не просто воинами; они были стражами величайшей финансовой империи средневекового мира. Они предоставляли ссуды, переводили средства через границы, хранили ценности пап, королей и купцов. Их сеть командорств простиралась от Эдинбурга до Иерусалима, и везде их слово было весомее королевского, ибо оно было подкреплено звонкой монетой.
В личных покоях Великого Магистра Жака де Моле царила иная, но столь же уверенная атмосфера. Здесь пахло дорогим воском, старым вином и властью. Де Моле, человек уже в летах, с лицом, обветренным палестинскими ветрами, принимал высоких гостей. Кардиналы, герцоги, послы – все они говорили с ним почтительно, как с равным, а то и как с высшим по чину. Он был принцем Церкви и финансовым повелителем в одном лице.
Именно в эти покои, в этот оплот уверенности и силы, ввели короля Франции.
Филипп IV Красивый вошел не как повелитель, а как проситель. Его свита осталась у ворот. С ним были лишь Ногаре и Мариньи. Король был облачен в темно-синий, лишенный вычурности камзол, но на его мраморном, бесстрастном лице лежала печать унизительной необходимости. Он шел по коврам Тампля, и каждый его шаг отдавался в ушах глухим стуком – стуком королевской гордости, падающей на каменные плиты.
Де Моле принял его с подчеркнутой, холодной учтивостью. Не встал, а лишь указал рукой на кресло напротив. Между ними стоял массивный стол, на котором лежала не расписка, а уже составленный договор займа.
– Ваше величество, – голос де Моле был глуховатым и лишенным почтительности. – Рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, дела королевства процветают?
Филипп сел, выпрямив спину. Его взгляд был устремлен куда-то в пространство за спиной Магистра.
– Королевству требуются средства, – произнес он, опуская формальности. Его голос звучал ровно, но в его абсолютной ровности слышалась стальная напряженность. – Урожай был плох. Налоги собраны не полностью. Война во Фландрии потребовала новых расходов.
– Ах, война… – Де Моле сделал жест, полный сожаления, но в его глазах читалось лишь равнодушие. – Дело дорогое и, увы, редко окупаемое. Насколько именно… обременительна ваша потребность?
Мариньи, стоявший за спиной короля, тихо назвал сумму. Она была огромной. Чудовищной.
Великий Магистр медленно кивнул, его пальцы постучали по пергаменту.
– Значительная сумма. Очень значительная. Орден, конечно, всегда готов помочь набожному королю Франции в его… трудностях. Однако… – он сделал театральную паузу, наслаждаясь моментом, – …риски. Вы понимаете? Долг королевства уже велик. Обеспечение…
– Обеспечением будет будущий сбор налогов с Лангедока, – холодно отрезал Филипп.
– Который может снова оказаться неудачным, – мягко парировал де Моле. – У нас есть предложение. Командорство в Шампани. Его земли плодородны, доходы стабильны. В залог. На время, разумеется.
Это был грабеж. Филипп понимал это. Отдать под контроль Тампля одно из самых богатых командорств – значит не только лишиться доходов, но и позволить Ордену укрепить свое присутствие в самом сердце Франции.
Ногаре, наблюдавший за сценой с каменным лицом, видел, как скулы короля напряглись. Он видел, как белые, идеальные пальцы сжали подлокотник кресла до побеления костяшек. Филипп молчал несколько секунд, которые показались вечностью.
– Командорство не может быть передано, – наконец произнес он. – Это коронная земля.
– Тогда, боюсь, наши возможности ограничены, – развел руками де Моле. В его голосе звучала не озабоченность, а легкое презрение. Банкир, отказывающий несостоятельному клиенту.
Филипп медленно поднялся. Его рост и врожденное величие заставили де Моле на мгновение откинуться назад.
– Я – король Франции, – произнес Филипп, и его голос впервые зазвучал как сталь, обнажаемая из ножен. – Мое слово – достаточное обеспечение.
В зале повисла тягостная пауза. Де Моле выдержал взгляд. Он был банкиром, а банкиры имели дело с цифрами, а не с титулами.
– Слово короля – вещь бесценная, – сказал он наконец, выбирая слова с ядовитой вежливостью. – Но устав Ордена требует… материальных гарантий. Мы – всего лишь слуги Божьи и хранители вверенного нам достояния. Мы не можем так легкомысленно рисковать им.
Он отодвинул договор.
– Может быть, вам стоит обратиться к ломбардским ростовщикам? Хотя проценты у них, конечно, грабительские.
Это было последней каплей. Отказ, да еще и предложение пойти к презренным евреям и итальянцам. Унижение было полным.
Филипп не сказал больше ни слова. Он развернулся и вышел из покоев, не кивнув на прощание. Его спутники последовали за ним.
Они молча шли по внутреннему двору Тампля, мимо бесстрастных стражей в белых плащах, мимо сундуков с золотом, которое принадлежало не ему, королю, а этим монахам-воинам, этимбанкирам Бога.
Только когда тяжелые ворота Тампля захлопнулись за их спинами, и они оказались на узкой улочке Парижа, Филипп остановился. Он обернулся и посмотрел на неприступные башни, на зубчатые стены, отбрасывавшие тень на его город. На его лице не было ни ярости, ни обиды. Лишь абсолютная, ледяная холодность.
Ногаре подошел ближе.
– Государь, это невыносимо. Их гордыня…
– Их гордыня будет сломлена, – тихо, но очень четко произнес Филипп. Он не смотрел на Ногаре, его взгляд был прикован к стенам Тампля. – Они забыли, кто в этом королевстве хозяин. Они думают, что их золото защитит их от королевской власти. Они ошибаются.
Он повернулся к Ногаре, и в его синих глазах горел новый, страшный огонь.
– Материальные гарантии, – повторил он слова де Моле с ледяным презрением. – Я дам им самую материальную гарантию. Их жизнь. Их богатство. Их орден. Все это теперь принадлежит короне. Все.
В этот миг, на пыльной парижской улице, родился план мести. Не просто взыскания долга. Не просто усмирения. Полного уничтожения. Зародыш будущего костра, на котором сгорят не только люди, но и целая эпоха.
– Готовьте все, – сказал: «Железный король», в последний раз бросая взгляд на Тампль. – Пришло время напомнить им, что есть только один Бог на небе и только один король на земле. И оба они – не в их распоряжении.
Глава 6: Шепоты в Лувре.
1311 год. Париж.
Лувр погружался в ночь. По бесконечным, холодным коридорам гуляли сквозняки, гасили факелы в железных держателях, заставляя тени плясать на стенах, словно призраки задуманного предательства. В самой дальней, глухой башне, в кабинете без окон, освещенном лишь трепетным светом очага и нескольких толстых свечей, царила атмосфера, густая от секретности и холодной решимости.
Воздух был спертым, пахнущим дымом, воском и запахом возбужденного мужского пота. На массивном дубовом столе, заваленном не картами сражений, а свитками пергамента, сидели трое людей, чья воля должна была перевернуть христианский мир.
Филипп IV, король из мрамора, откинулся в своем кресле. Его прекрасное лицо было непроницаемой маской, но в синих глазах, отражавших языки пламени, горел тот самый холодный огонь, что видели лишь немногие. Гийом де Ногаре, его тень и клинок, нервно прохаживался по комнате, его смуглое лицо с хищными чертами было оживлено почти лихорадочной энергией. Ангерран де Мариньи, обычно спокойный и рассудительный, сидел, сжав в руках кубок с не тронутым вином, его взгляд был потуплен, черты напряжены.
– Он отказал, – тихо произнес Филипп, и его голос, ровный и безэмоциональный, резал тишину, как лезвие. – Не просто отказал. Он предложил мне идти к ростовщикам. Как последнему дворянину, промотавшему состояние.
– Их надменность не знает границ, государь, – выдохнул Ногаре, останавливаясь у стола. – Они забыли, что их привилегии дарованы им светскими правителями. Они живут в своем государстве, со своими законами, своей казной, своей армией. Они – раковая опухоль на теле Франции. И ее нужно вырезать.
– Вырезать – значит объявить войну, – мрачно заметил Мариньи, не поднимая глаз. – Войну не только им, но и папе, всей Церкви, половине знати Европы, которая у них в долгу. Это… авантюра.
– Это необходимость, – парировал Ногаре, ударяя кулаком по столу. Свечи вздрогнули. – Казна пуста! Мы в долгах как в шелках! А у них? – Он указал пальцем в сторону, где в воображении стоял неприступный Тампль. – У них золото течет рекой! Золото, которое должно служить короне! Золото, которое они нажили на наших нуждах! Они – еретики и предатели!
Филипп медленно перевел взгляд на своего легалиста.
– Еретики? – переспросил он, и в его голосе прозвучала тонкая, как лезвие бритвы, нотка интереса.
Ногаре замер, поняв, что поймал нужную волну. Его глаза загорелись.
– Да, государь! Конечно! Разве может истинно верующий христианин быть столь жадным? Столь гордым? Столь… независимым от власти помазанника Божьего? Их богатство – доказательство их сговора с дьяволом! Их обряды – покрыты мраком. Ходят слухи… темные слухи.
– Слухи? – снова повторил Филипп, и на его губах появилось нечто, отдаленно напоминающее улыбку.
– Больше, чем слухи, государь! – Ногаре наклонился над столом, его голос стал шепотом, полным интимного, ядовитого ужаса. – Я вел… расследование. Нашел людей. Бывших братьев, изгнанных из Ордена. Они готовы свидетельствовать. Под присягой.
Мариньи с отвращением поднял на него глаза.
– Каких людей, Ногаре? Пьяниц? Сводников? Сломленных пытками? Твои «свидетели» будут разоблачены в первый же день!
– Мои свидетели будут говорить то, что от них потребуется, – холодно парировал Ногаре. – И их показаний будет достаточно для начала процесса. А уж дальше… – Он многозначительно умолк.