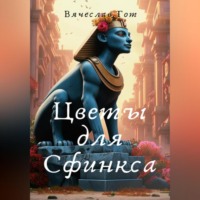Полная версия
Век Проклятых

Вячеслав Гот
Век Проклятых
Тень Молота
(«Молот» – прозвище короля Филиппа IV Красивого (Филипп le Bel), но звучит угрожающе и по-французски: Le Marteau).
Пролог
Ноябрь 1307 года. Тампль, Париж.
Смертельный холод предрассветного часа впивался в камни могучей крепости, стоявшей особняком в северо-восточной части Парижа. Тампль – не просто замок, а символ. Символ силы, недосягаемой для королей и князей церкви. За его стенами, толщиной в пятнадцать футов, хранились несметные сокровища половины христианского мира, а в его неприступных башнях вершилась судьба целых королевств. Здесь, в сердце своего могущества, Великий Магистр Ордена бедных рыцарей Христа и Храма Соломона Жак де Моле чувствовал себя в полной безопасности. Как и все его братья.
Этой ночью сон не шел к Магистру. Он стоял у узкого бойничного окна в своих покоях, всматриваясь в спящий, окутанный туманом город. Прошло всего несколько недель с того дня, когда по всему королевству были опутаны железной королевской волей его братья. Аресты, проведенные с устрашающей синхронностью, потрясли устои Европы. Но здесь, в Тампле, они все еще были под защитой Папы. Здесь они были неприкосновенны. Филипп, этот красивый, холодный король, не посмеет поднять руку на саму Церковь Христову. Так думал де Моле. Так думали они все.
Он провел рукой по лицу, ощущая грубую кожу и морщины, прорезанные годами в Святой Земле, пылью пустынь и заботами управления великим Орденом. Семьдесят лет! Он отдал Ордену всю свою жизнь, видел его славу и его постепенное угасание после потери Акры. Но никогда – никогда! – он не чувствовал такой гнетущей тревоги. Это была не страх физической угрозы, а нечто большее – предчувствие конца. Конца великой эпохи.
Внезапно снаружи, со стороны главных ворот, донесся шум. Сначала приглушенный, словно отдаленный гул, он быстро нарастал, превращаясь в оглушительный грохот. Лязг железа о дубовые створки, приглушенные крики, топот десятков ног. Де Моле нахмурился, подойдя к окну ближе. Такого наглого нарушения покоя Тампля он не припомнил.
Дверь в его покои с грохотом распахнулась. В проеме, запыхавшись, с лицом, побелевшим от ужаса, стоял молодой сержант ордена. Его плащ был наброшен наспех, а в широко раскрытых глазах читалось неподдельное, животное смятение.
– Магистр! – выдохнул он, едва переводя дух. – Ворота… Они ломают ворота!
– Кто? – голос де Моле прозвучал спокойно, но ледяная струя пробежала по его спине. – Кто смеет?
– Королевские стражники! Их сотни! Возглавляет сам Ногаре!
Жак де Моле замер. Гийом де Ногаре. Правая рука короля, его верный пес, юрист-выкрест, чья ядовитая злоба и ум были направлены на уничтожение всех врагов короны. Его появление здесь, у ворот Тампля, означало только одно – король отбросил все условности. Папская булла, неприкосновенность, закон Божий и человеческий – ничто не имело больше значения.
Магистр двинулся к выходу, его движения были резки, но полны достоинства. Он не побежал. Он пошел навстречу своей судьбе, как и подобает Великому Магистру Храма. По каменным, холодным ступеням он спустился во внутренний двор, где уже царил хаос.
Картина, открывшаяся его глазам, была surреалистична и ужасна. Ворота, которые считались одними из самых надежных в Европе, были выломаны. Через пролом хлынула темная река. Но это была не река вражеских солдат – это был поток стали и алых плащей. Стражники короля Франции.
Они действовали с чудовищной, отлаженной эффективностью. Не было яростных криков, не было осадных орудий против своих. Был тихий, методичный ужас. Отряды стражников расходились по заранее известным маршрутам, захватывая ключевые точки – арсенал, казначейство, конюшни, башни. Другие грубо хватали появляющихся на шум рыцарей и сержантов, многие из которых выбегали полуодетыми, с заспанными лицами, не понимая, что происходит.
Их уверенность была столь полной, что смятение было вдвойне горше. Эти люди, привыкшие диктовать условия императорам, не могли поверить, что их просто арестовывают, как последних преступников. Они пытались возмущаться, ссылаться на свой статус, на папскую буллу, но в ответ получали лишь тупой удар рукояткой меча в спину или грубый окрик. Цепи. Они сковывали запястья тех, чья доблесть была легендой.
И в центре этого ада, словно его дьявольский полководец, стоял он – Гийом де Ногаре. Невысокий, тщедушный, в черном одеянии клирика поверх кольчуги, он казался хищной, ядовитой птицей. Его глаза, холодные и пронзительные, выискивали в толпе лишь одну цель. И он нашел ее.
Их взгляды встретились через весь двор. Взгляд рыцаря, прошедшего крестовые походы, и взгляд законника, знающего лишь силу пергамента и королевского указа. Взгляд обреченной власти и взгляд новой, рождающейся в предательстве и жестокости.
Ногаре сделал несколько шагов вперед, его тонкие губы тронула едва заметная улыбка торжества. Он не кричал. Он говорил четко, ясно, и его голос, металлический и безжалостный, резал предрассветную тишину, как нож.
– Жак де Моле, Великий Магистр ордена Храма! – произнес он, и каждое слово падало, как отдельный приговор. – Именем его величества Филиппа, короля Франции, милостью Божьей, и по долгу моей службы, я обвиняю вас и весь ваш орден в страшных преступлениях против веры и короны! В отречении от Христа, в идолопоклонстве, в содомии и в ереси! Сложите оружие и подчинитесь правосудию короля!
Наступила мертвая тишина. Даже королевские стражники замерли. Все смотрели на старого Магистра. Казалось, сейчас он изречет слово, и стены Тампля рухнут на головы этих нечестивцев.
Де Моле выпрямился во весь свой немалый рост. Его седая борода, его властное лицо, испещренное морщинами, – в нем все еще было величие.
– Это безумие, Ногаре! – прогремел его голос, собравший в себе всю ярость и боль. – Вы совершаете величайшее кощунство! Орден Храма подвластен лишь Святому Отцу в Риме! Никакой светский правитель не имеет над нами власти! Вы и ваш король навлекаете на себя гнев Господень!
– Власть короля простирается на всех его подданных, – парировал Ногаре с ледяным спокойствием. – Даже на тех, кто забыл о своем долге и предал Бога. Цепи.
Это было последнее слово, которое он произнес в ту ночь. Четверо стражников в алых плащах двинулись к де Моле. Он не сопротивлялся. Он позволил им набросить на свои руки тяжелые, холодные, грубо сработанные железные цепи. Сквозь просмоленную кожу и мышечную память воина он ощутил ледяное прикосновение металла. Это был не просто арест. Это было низвержение. Падение всего мира, который он знал.
Его повели через двор, мимо его братьев, таких же униженных и окровавленных. Он видел их глаза – в них читался не страх, а полная, абсолютная потерянность. Как? Как самый могущественный орден христианского мира, опора тронов и алтарей, мог в одну ночь оказаться поверженным, опозоренным, закованным в цепи по воле одного человека? По воле того, кого они называли своим королем?
Его затолкали в повозку, и деревянный щит захлопнулся, погрузив его в полную тьму. Снаружи доносились крики, плач, лязг оружия и торжествующие голоса стражников. Повозка тронулась с места, увозя его из его дома, его крепости, его мира.
Жак де Моле, Великий Магистр Ордена Храма, сидел в смрадной темноте, ощущая леденящий холод железа на своих запястьях. И в этот миг, сквозь гнев и humiliation, к нему пришло не чувство, а знание. Ясное и неоспоримое, как удар меча.
Это было только начало. Начало конца. Не только для него, не только для Ордена. Но и для того, кто сегодня праздновал победу. Для короля. Для его рода. Для всей Франции.
И тогда, в кромешной тьме, старый воин впервые за долгие годы прошептал молитву. Но это была не молитва о спасении. Это было обещание. Обещание мести, которое должно было пережить его самого, железо королевских темниц и даже саму смерть.
А снаружи по мокрым от ночной влаги улицам Парижа медленно полз рассвет. Кроваво-красный.
Глава 1: Король из мрамора
Октябрь 1285 года. Реймсский собор.
Воздух в соборе был густым, как церковное вино, и таким же дурманящим. Он вобрал в себя запах горящего воска от сотен свечей, сладковатый дым ладана, терпкий дух пота от теснящейся знати и влажное дыхание толпы, что гудела за резными дубовыми дверями. Под сводами, уходящими ввысь, к самому небу, плыла торжественная месса, но все взгляды, все помыслы были прикованы к одному человеку.
Филипп.
Он стоял на коленях перед алтарем, прямой и недвижимый, как колонна. На нем была парчовая мантия, шитая золотыми лилиями, столь тяжелая, что, казалось, она должна была согнуть любого смертного. Но не его. Длинные, почти белые волосы, ниспадающие на плечи, обрамляли лицо неземной, ледяной красоты. Высокий лоб, прямой нос, тонкие, плотно сжатые губы и глаза. Глаза – синие, как зимнее небо, и столь же холодные, лишенные всякого тепла или волнения. В них не читалось ни трепета перед таинством, ни гордости, ни торжества. Лишь сосредоточенная, отстраненная внимательность.
Архиепископ возложил на его голову тяжелую корону Карла Великого. Золотой обруч коснулся его кожи, и казалось, что это не символ власти лег на чело короля, а, наоборот, – сама голова Филиппа была выточена из мрамора, чтобы навеки увенчать холодное, незыблемое величие короны.
–Vivat rex in aeternum! – грянуло под сводами. «Да здравствует король во веки веков!»
Голоса сотрясали воздух, но сам Филипп, поднимаясь с колен, чтобы принять скипетр и руку правосудия, казалось, был глух к этим восторгам. Его взгляд скользнул по собравшимся вельможам – герцогам, графам, баронам, каждый из которых считал свои земли своей вотчиной, а короля – лишь первым среди равных. В его холодных глазах мелькнуло нечто, что можно было принять за презрение или… расчет.
Он обернулся к толпе, подняв руку для благословения. Лучи октябрьского солнца, пробивающиеся сквозь витражные окна, упали на него, и на мгновение он и впрямь показался изваянием – прекрасным, величественным и абсолютно бесчувственным. Король из мрамора. Филипп IV Красивый. Новый повелитель Франции.
Через несколько дней смолк колокольный звон, разъехались знатные гости, и в Лувре воцарилась напряженная, деловая тишина. Пахло свежей штукатуркой, воском для полов и влажным камнем. В личных покоях короля, в кабинете, куда допускались лишь избранные, было прохладно. На столе, заваленном свитками и учетными книгами, стоял нераспакованный кубок с вином.
Филипп сидел в резном кресле, откинувшись на спинку. С него сняли тяжелую коронационную мантию, и теперь он был одет в простой, но богатый темно-синий дублет. Его белые руки с длинными пальцами лежали на подлокотниках. Перед ним, почтительно склонив головы, стояли двое людей, столь непохожих друг на друга, что, казалось, сама судьба свела их здесь для некоей дьявольской цели.
Первый – Гийом де Ногаре. Худощавый, с живыми, пронзительными глазами южанина и острым, хищным профилем. Одетый в темное платье клирика, он источал энергию и интеллект. Юрист, выходец из Лангедока, человек без знатного рода и состояния, но с острым, как бритва, умом и амбициями, способными сжечь душу. Он был воплощением новой власти – власти закона, написанного под диктовку короля.
Второй – Ангерран де Мариньи. Молодой, широкоплечий, с умным и открытым, пока еще не ожесточенным властью лицом. Его взгляд, устремленный на короля, светился преданностью и рвением. Выходец из мелкого нормандского дворянства, он был плотью от плоти старой системы, но его таланты к управлению и финансам уже были замечены. Он был мостом между старым и новым.
– Ваше величество, – начал Ногаре, и его голос, тихий и четкий, резал тишину, как сталь. – Поздравления приняты, клятвы верности принесены. Теперь – дело. Ваш отец оставил вам корону, отягощенную долгами. Война с Арагоном истощила казну. Бароны, присягая вам на верность, уже подсчитывают, какую цену смогут выторговать за свою лояльность.
Филипп медленно перевел на него свой ледяной взгляд.
– Я не намерен торговаться с теми, кто и так должен служить короне, – произнес он. Его голос был ровным, без эмоций, как чтение указа.
– Именно так, государь, – тут же подхватил Ногаре. – Сила короля – в его праве. В праве вершить суд, чеканить монету, объявлять войну и собирать налоги. Это право… размыто. Его оспаривают папа в Риме, герцоги и графы в своих владениях. Его игнорируют.
– Игнорируют? – переспросил Филипп, и в его голосе впервые прозвучала тонкая, как лезвие, нотка.
– Да, государь. Есть сила во Франции, что считает себя выше ваших указов. Сила, что живет по своим законам, чеканит свою монету, содержит свою армию и подчиняется лишь своему гроссмейстеру и папе, да и то лишь тогда, когда это ей выгодно.
Мариньи, до этого молчавший, нахмурился.
– Вы говорите о Тампле? – спросил он, и в его голосе слышалось неподдельное удивление.
– Я говорю о государстве внутри государства, – поправил его Ногаре, не сводя глаз с короля. – Орден Храма. Их богатства не поддаются исчислению. Они – банкиры всей Европы. Они ссужают деньги императорам и… – он сделал многозначительную паузу, – …и королям Франции. Ваш отец был у них в долгу. Вы теперь – тоже.
Филипп не шелохнулся, но атмосфера в комнате стала еще более морозной.
– Они подвластны лишь папе, – произнес король, и это прозвучало не как констатация факта, а как вызов.
– Они подвластны Богу и королю, – без тени сомнения парировал Ногаре. – Или должны быть подвластны. Их arrogance не знает границ. Они забыли, что их привилегии дарованы им светскими правителями и могут быть… отозваны.
Мариньи попытался быть голосом рассудка:
– Государь, Орден – опора христианского мира. Их крепости, их финансовые сети…
– …принадлежат им, а не Франции, – закончил за него Филипп. Он медленно поднялся из-за стола и подошел к окну, выходящему в сад. Его высокая, прямая фигура заслонила свет. – Франция должна быть едина. Единая власть. Единый закон. Единая казна. Никаких иных властителей, кроме короля. Никаких иных судов. Никаких иных армий.
Он обернулся. Его мраморное лицо было спокойно, но в синих глазах горел холодный, непримиримый огонь.
– Я принял корону не для того, чтобы быть данником какого-то ордена монахов-воинов или игрушкой в руках папы. Моя власть – от Бога. И она будет абсолютной.
Ногаре склонил голову в знак согласия, и в его глазах вспыхнул огонек торжества. Мариньи смотрел на короля с чувством восхищения и тревоги.
– Ваша воля, государь, – сказал Ногаре. – Мы найдем способ… напомнить Тамплю об их месте. В рамках закона.
– Закон – это то, что я повелю, – абсолютно спокойно заявил Филипп. – Вы оба будете моими руками и моим разумом. Ногаре – ты найдешь эти рамки. Мариньи – ты подсчитаешь, во что нам обходится их гордыня. И что мы приобретем, когда эта гордыня будет… сломлена.
Он не сказал «если». Он сказал «когда».
В этот миг в дверь постучали. Вошел камергер и почтительно доложил:
– Ваше величество, к вам прибыли послы от Великого Магистра Ордена Храма. Они желают поздравить вас с восшествием на престол и… обсудить вопрос о продлении королевского долга.
В воздухе повисла тягостная пауза. Филипп обменялся с Ногаре долгим, многозначительным взглядом. Уголок его тонкого рта дрогнул на миллиметр – самое близкое к улыбке, на что было способно его мраморное лицо.
– Введите их, – приказал король и вернулся к своему креслу, чтобы принять их – не как сюзерен вассалов, и не как должник кредиторов, а как сила, готовящаяся встретиться с другой силой. Исход этой встречи был предрешен еще до того, как двери распахнулись, впуская в кабинет людей в белых плащах с алыми крестами – людей, которые еще не знали, что их могущество уже приговорено к уничтожению холодным, мраморным королем.
Глава 2: Тень над Фландрии
Июль 1302 – Август 1304 гг.
Ветер, дующий с Северного моря, не приносил облегчения. Он гнал над плоскими, изрезанными каналами полями Фландрии не запах соли и свободы, а тяжелую, сладковатую вонь смерти. Здесь, на самой окраине его королевства, Филипп Красивый впервые воочию столкнулся не с надменностью баронов или коварством папской курии, а с грубой, животной силой мятежа. И ответить на него предстояло такой же грубой силой.
Известие о «Брюггской заутрене» достигло Парижа подобно удару боевого молота. Граф Фландрский, его вассал, был изгнан, а французский гарнизон вырезан горожанами – ремесленниками, суконщиками, мясниками, поднявшими окровавленные руки против своего сюзерена. Для Филиппа, чья власть зиждилась на порядке и иерархии, это было немыслимым кощунством. Мятеж нужно было утопить в крови. Железной рукой.
Но железо требовало золота.
– Они сражаются косилами и цепами, ваше величество, – докладывал один из командиров, только что вернувшийся с позором из-под Куртре. Его лицо было бледным, голос дрожал от унижения. – Но… но это ад. Они перекрыли каналы, заманили нашу конницу на топкие поля. Рыцари тонули в грязи под ударами этих… этих мужиков. Золотые шпоры… они срывали их с убитых и вешали в своей церкви как трофеи!
Филипп слушал, не двигаясь. Он сидел за своим дубовым столом в Лувре, и перед ним лежали не карты сражений, а финансовые отчеты. Свитки, испещренные колонками цифр, которые складывались в одну ужасающую сумму: стоимость войны.
– Золотые шпоры можно отбить, – холодно произнес король, отодвигая от себя документ. – Позор – смыть только кровью. Где теперь эта армия «мужиков»?
– Укрепилась у Лилля, государь. Ими командует Ги Намюрский. Они ждут нас.
– Значит, мы не заставим их ждать долго, – сказал Филипп. Его решение было принято. Не было гнева, не было ярости. Была лишь холодная, неумолимая необходимость. – Соберите новое ополчение. Прикажите герцогам Бургундии и Бретани привести свои контингенты. Графу Артуа… – он едва заметно замолчал, – …прикажите возглавить авангард.
Советники переглянулись. Собрать новую армию после такого разгрома? Это требовало колоссальных средств. Ангерран де Мариньи, стоявший поодаль с озабоченным видом, тихо кашлянул.
– Государь, казна… Выплаты наемникам, закупка продовольствия, оружия, доспехов… Мы исчерпали резервы. Придется вводить новый налог. «Военную десятину».
– Тогда введите его, – отрезал Филипп, даже не взглянув на финансиста. Его взгляд был устремлен в пространство, туда, где на карте его воображения уже двигались армии. – С духовенства и городов. Скажите, что это воля короля.
– Святейший Престол может усмотреть в этом ущемление своих прав, – осторожно заметил кто-то из придворных.
– Со Святейшим Престолом я разберусь позже, – последовал безразличный ответ. – Сейчас есть Фландрия.
Год спустя, под стенами Лилля, железная воля короля начала воплощаться в дело. Новая армия, собранная на последние деньги и на страх вассалам, была огромна. Но фламандцы, окрыленные победой, не сдавались. Война затягивалась, превращаясь в череду осад, стычек и изнурительных маршей по враждебной земле. Каждый день стоил короне новых сумм, которые Мариньи с отчаянием вычеркивал из свитков.
И тогда Филипп сделал то, что делал всегда, когда сталкивался с препятствием: он ударил по нему с максимальной, безжалостной силой. Он лично возглавил армию. Его появление в лагере под Лиллем произвело эффект разорвавшейся бомбы. Король! Прекрасный и невозмутимый, в сияющих латах, он объезжал позиции, и его ледяное спокойствие передавалось солдатам. Не было пламенных речей, не было обещаний славы. Был лишь взгляд его холодных глаз, говоривший: победа – это необходимость. Иного не дано.
Осада Лилля была жестокой. Когда город пал, Филипп показал, что значит его месть. По его приказу были казнены зачинщики мятежа. Цехи были распущены, стены срыты, на город наложена неподъемная контрибуция. Это был calculated terror – урок для всей Фландрии и для всей Франции.
Но урок не был усвоен до конца. Остатки фламандского ополчения отошли к побережью. Сердцем сопротивления стал портовый город Зеррикзее. И именно туда, на зыбкую почву прибрежных болот, двинулась королевская армия.
11 августа 1304 года. Битва при Зеррикзее.
Это была не битва, а бойня в грязи, повторение Куртре, но на этот раз с иным финалом. Французский флот, накарябанный по всей Нормандии, атаковал фламандские корабли на рейде. На суше рыцарская конница, наученная горьким опытом, действовала осторожнее, но топилась все в той же липкой грязи.
Филипп наблюдал за сражением с небольшого холма. Он видел, как гибнут его лучшие рыцари, как тонут знамена с золотыми лилиями. Его лицо было бесстрастно. Рядом с ним Мариньи, впервые видевший такое побоище, был бледен.
– Государь, – прошептал он, – мы несем чудовищные потери. Может быть, отступить, перегруппироваться…
– Нет, – тихо, но четко произнес Филипп. – Они несут такие же потери. Но у них кончатся люди раньше, чем у нас. Продолжайте натиск.
Это была арифметика. Холодный расчет. Он не видел людей – он видел ресурсы. И был готов потратить больше ресурсов, чем противник.
Его воля передалась командирам. Атака продолжалась с неослабевающей яростью. И фламандцы, в конце концов, не выдержали. Их ополчение, храброе, но плохо организованное, дрогнуло. Началось отступление, которое быстро превратилось в бегство.
Победа была за Филиппом. Горькая, кровавая, разорительная, но победа.
Вечером того дня король в своем шатре принимал доклады. Раненые стонали в лагере, потери исчислялись тысячами. К нему вошел Мариньи. Лицо финансиста было мрачным.
– Мы победили, государь. Фландрия сломлена. Ги Намюрский в плену.
Филипп кивнул, изучая карту. Он уже думал о будущем: об условиях мира, о смене графа, о гарантиях.
– И? – спросил он, заметив, что Мариньи не уходит.
– Казна опустошена, ваше величество, – тихо сказал Мариньи. – Мы влезли в долги к ломбардским банкирам, чтобы оплатить эту кампанию. Новый налог вызвал ропот в городах. Духовенство в Лионе отказывается платить «десятину». А фламандская контрибуция… ее будет едва ли достаточно, чтобы покрыть треть расходов.
Филипп медленно поднял глаза. В его холодном взгляде не было ни тени сомнения или раскаяния.
– Тогда найдем другие источники, – произнес он с ледяным спокойствием. – Если города ропщут – увеличьте подати с тех, кто молчит. Если духовенство забыло о своем долге перед короной – напомните им. Если ломбардцы требуют свои деньги назад… – он сделал едва заметную паузу, и его взгляд стал отстраненным, – …найдите тех, у кого денег больше, чем у них. Намного больше.
Он отвернулся и снова уставился на карту, но видел уже не Фландрию. Его взгляд скользил по землям Франции, останавливаясь на тех местах, где стояли неприступные крепости, не подвластные его налогам и его суду. На тех местах, где копились несметные богатства, которые могли бы спасти его королевство от банкротства и укрепить его власть на века.
Тень над Фландрией медленно рассеивалась, уступая место другой, гораздо более грозной и масштабной тени. Тени, что ложилась от белых плащей с алыми крестами. Тени Тампля. Победа при Зеррикзее показала Филиппу цену силы. И теперь он был готов заплатить любую цену, чтобы получить силу еще большую. Любую.
Глава 3: Папская игра
1301 – 1303 гг.
Ветер, гулявший по залам Лувра, приносил не только запах осенней листвы, но и едкий дым сожженной папской буллы. Он витал в воздухе неделями, как призрак надвигающейся бури. Булла «Ausculta Fili» – «Внемли, сын» – лежала в пепле каминного очага, но ее высокомерные, отеческие наставления продолжали звучать в ушах Филиппа Красивого. Папа Бонифаций VIII, этот вздорный старик в тиаре, осмелился указывать королю Франции? Поучать его о правах церкви и ограничениях светской власти? Это был не теологический спор. Это была декларация войны.
Филипп стоял у камина, неподвижный, как и всегда. Его пальцы сжимали резной дубовый выступ каминной полки. В камине догорали последние клочья пергамента с печатью Святого Петра.