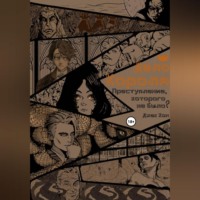Полная версия
Она села. Спина прямо, руки сложены на коленях, дыхание ровное. Каждый жест был выверен и точен. В нём не было гордости, только холодная, непоколебимая власть, которая сковывала внимание каждого. Присяжные невольно выпрямлялись на своих местах.
Мистер Клэй, адвокат защиты, подошёл почти почтительно. Его голос был мягким, почти отеческим:
– Миссис Торн, благодарю вас, что нашли время прибыть сюда, несмотря на вашу чрезвычайную занятость. Прежде всего, прошу вас описать пансион "Норт-Ист" для присяжных и зрителей, так сказать, из первых уст. Какова его главная цель?
Агата посмотрела на него, как педагог на ученика, который пытается прочесть между строк.
– "Норт-Ист" – это не просто школа, мистер Клэй. Это дом. Мы готовим девочек к миру, который не терпит слабости. Мы даем им образование, но прежде всего – характер. Порядок, дисциплина, смирение. Эти стены защитят их лучше, чем родительская любовь.
Клэй кивнул, будто подтверждая себе, что именно это он хотел услышать.
– И мистер Торн, ваш супруг, разделяет эту философию?
– Он – её самый преданный служитель. Он требует безупречности, потому что мир требует безупречности. Он исправляет не из жестокости, а из заботы. Позволить девочке ошибаться – значит предать её будущее. А для него это страшнее всего.
– Свидетельница Энн Николь упоминала так называемые "пятиминутки тишины". Не соблаговолите ли объяснить суду, что это такое?
Агата слегка повернулась к присяжным. Голос её стал ровным и лекционным, почти мягко назидательным:
– Минуты абсолютной тишины перед уроком. Чтобы утихли детские эмоции, чтобы ум настроился на восприятие знания, а не на шалости. Каждая должна понять: она – часть целого, и её личный шум разрушает хрупкую гармонию. Это не наказание. Это медитация. Очищение.
Присяжные слушали, затаив дыхание. Некоторые слегка напряглись в креслах, осознавая, что перед ними не просто свидетель, а человек, который живёт своими строгими законами.
– И во время этих минут… – осторожно спросил Клэй, – что делает мистер Торн?
– Он исполняет свой долг. Он – дирижер тишины. Проходит между рядами, поправляет осанку, проверяет, готовы ли умы к труду. Иногда – поправляет тетрадь или руку, поставленную неверно. Это не "прикосновение". Это корректировка. Инструмент мастера.
В зале послышался тихий, сдержанный вздох. Некоторые присяжные обменялись взглядами, понимая, что дисциплина здесь – это не метафора.
– Миссис Торн, как вы можете охарактеризовать репутацию мисс Энн Николь в стенах вашего заведения?
– Девочка с живым воображением, склонная к мечтательности и обидам. Она неоднократно нарушала распорядок: чтение после отбоя, чтение нехороших книг, разговоры в тишине. Наказания воспринимала не как урок, а как личную обиду. Её слова следует фильтровать через эту призму.
Клэй слегка улыбнулся про себя, удовлетворенно кивнув, возвращается на место. Его работа сделана.
Прокурор Притчард подошёл медленно, ощущая исходящую от Агаты угрозу. Его пальцы сжимали бумаги, в глазах мелькала напряжённая попытка удержать контроль.
– Миссис Торн, вы сказали, что "пятиминутка тишины" – это не наказание. Какие наказания применяются в пансионе "Норт-Ист" к девочкам, например, за чтение после отбоя?
– Все наказания перечислены в правилах, мистер Притчард. Лишение прогулки. Лишение сладкого. Дополнительные обязанности. Уборка, помещений. Помощь на кухне. Мы не варвары.
– А "крест"? Что означает отметка в журнале пропусков?
Агата замерла на мгновение. Она оценила его, как учитель оценивает ученика, который пытается её перехитрить.
– Внутренняя пометка. Означает, что девочка опоздала и ждала разрешения войти в здание. Чтобы не нарушать урок.
– В любую погоду? Ждала снаружи? Не в помещений? – настаивал Притчард.
– Дисциплина не зависит от погоды.
– За многие годы множество воспитанниц покинули пансион до окончания обучения. По записям – "по состоянию здоровья" или "по семейным обстоятельствам". Вы не находите это тревожным?
Агата наклонила голову. Лёд и ирония сверкали в глазах.
– Мистер Притчард, – начала она, и её голос был ровным, как поверхность льда, – вы ищете злой умысел там, где есть лишь непреложный порядок вещей. Вы ошибочно принимаете естественный ход событий за чью-то злую волю.
Одни семьи разоряются и забирают дочерей по бедности. Другие находят для них иное применение – замужество, работу. Третьи… – здесь её взгляд стал особенно твёрдым, – признают, что их ребёнок не соответствует высоким стандартам "Норт-Иста". Мы – не благотворительное общество для неудачников. Мы – кузница характера и знаний. Мы поддерживаем уровень, и те, кто ему не соответствует, должны освободить место для тех, кто соответствует. Это не жестокость. Это – закон природы, который я лишь прилежно соблюдаю. Он – единственная гарантия качества для тех, кто остаётся и кто платит за этот качество немалые деньги.
Она слегка наклонилась вперёд, и её слова приобрели вес холодного, отполированного камня.
– Вы упрекаете меня в жестокости садовника? Но природа не терпит сантиментов. Садовник, выпалывающий сорняк, – это не палач. Это – слуга жизни. Он расчищает пространство для сильных и здоровых, чтобы те могли расти, не отравляемые чуждыми соками. Я – такой слуга. Я создаю условия, в которых сила укрепляется, а слабость неизбежно проявляет себя и устраняется. Те, кто ушли, ушли не по моей указке. Они ушли, потому что не имели внутреннего стержня, чтобы выдержать давление, необходимое для кристаллизации алмаза. Я не приказывала им быть слабыми. Я лишь констатировала этот печальный факт и действовала в интересах целого. Ибо целое всегда важнее части.
После её речи несколько присяжных-мужчин, солидных торговцев, переглянулись и кивнули. Не потому что они одобряли, а потому что её аргументы о "качестве", "результате" и "естественном отборе" били в самую сердцевину их деловой, прагматичной натуры. Они сами выживали в мире жёсткой конкуренции. В её словах была чудовищная, но узнаваемая логика. Одна из дам на галёрке, вся в кружевах, прошептала соседке: "Ну, знаете, в этом есть свой резон… Детей же надо готовить к суровой жизни…"
– А в городе есть конкурирующие пансионы? – спросил Притчард, стараясь звучать спокойно.
– Есть.
– И если подтвердится непристойное поведение преподавателя в "Норт-Исте", это станет ударом по репутации?
Агата не моргнула:
– Репутация – гарантия результата. Скандал разрушил бы будущее других девочек. Вы предлагаете пожертвовать ими ради одной? Это ваша справедливость?
– Где вы были 14 октября, во время "пятиминутки тишины"?
– В кабинете, составляла отчёт для попечителей и писала письма родителям. Я нанимаю профессионалов, чтобы они делали свою работу. Моя вера в методы мужа и остальных основана на результатах: девочки вышли из этих стен собранными, сильными и благодарными. Ваши вопросы – пыль, затмевающая эти результаты.
– Вы считаете долг жены – защищать мужа, или хозяйки – защищать пансион?
Агата позволила себе лёгкий, едва слышный вздох.
– Вы пытаетесь разделить неразделимое. Моя верность супругу и заведению – одно и то же. Если рухнет он – рухнет дисциплина, если рухнет дисциплина – пансион. Я спасаю корабль.
– А что с теми, кого порядок сломал?
Долгая пауза. Её взгляд прошёл по присяжным.
– Их судьба – ответственность их семей. Моя задача – дать шанс. Я не делаю их слабыми. Я лишь показываю правду. Я – наставник, и урок завершён, когда ясно, что он усвоен, или когда невозможно его усвоить.
– Но позвольте спросить.– Почему вы не посетили мужа в камере? Ни письма?
Зал затаил дыхание.
– Моя вера – в порядок. Он требует, чтобы я оставалась во главе "Норт-Ист". Личные чувства – роскошь. Я делаю то, что должна. Как всегда.
Перед тем как замолчать, Агата продолжала, обращаясь уже не к Притчарду, а ко всему залу, как к сборищу неразумных детей:
– Вы судите одного человека. Но вы не понимаете, что пытаетесь осуждать сам принцип мироздания. Иерархию. Порядок. Требовательность. Без этого нет ни великих империй, ни великих людей. Есть только болото, в котором тонут все без разбора. И ваш суд – это шаг в это болото.
Притчард понимает, что пробить эту броню невозможно. Он пытается нанести последний удар.
– И последний вопрос. Который лично меня очень сильно заинтересовал, как потом и заинтересует многих. – Миссис Торн, вы утверждаете, что пансион "Норт-Ист" поддерживает высочайшие стандарты и отбирает только "достойных". Но позвольте спросить: откуда у Энн Николь, сироты без семьи и состояния, взялись средства на обучение в вашем заведении? Кто оплачивал её содержание? И не являлось ли это оплатой со стороны некоего третьего лица, заинтересованного в доступе к девочкам?
Агата не моргнув глазом отвечает с холодной, почти механической точностью, раскрывая свою идеологию:
– Мистер Притчард, вы мыслите категориями рынка, а не благородства. "Норт-Ист" – не лавка, где место покупают за монеты. Да, Энн Николь – сирота. Но её присутствие здесь финансировалось через Фонд поддержки одарённых девочек, учреждённый анонимным благотворителями. Этот фонд покрывает расходы тех, кто демонстрирует потенциал, но лишён ресурсов. Мы даём им шанс стать частью общества, которое иначе было бы для них закрыто. Это не милосердие – это инвестиция в будущее. Слабые не выдерживают и уходят. Сильные – остаются и служат примером.
– Но разве это не делало их зависимыми от воли фонда? – настаивает Притчард.
– Зависимость – естественное состояние любого, кто получает шанс, – парирует Агата. – Они обязаны быть благодарными. А благодарность выражается в послушании и стремлении оправдать оказанное доверие.
Ледяной след её присутствия висел в зале, но это была не просто пустота. Это было заражение. Среди присяжных несколько человек – солидный лавочник и отставной офицер – не выглядели шокированными. Они смотрели перед собой вдумчиво, их лица выражали не ужас, а задумчивое согласие. Слова о "естественном отборе" и "сорняках" упали на благодатную почву их собственного, прагматичного мировоззрения.
Её руки снова сложились на коленях. Она не оправдывалась. Она не просила. Её объяснения были страшнее любой исповеди.
Карсуэлл видел это. Он видел, как яд её логики проникает в умы, как он находит отклик. Он стукнул молотком, но на этот раз звук был глухим, бессильным
– Допрос… завершён. Вопросов нет, прошу остаться в зале суда ненадолго.
Агата встала, лёгкий кивок, бесшумно прошла на свое место, где её ждали, не оглядываясь. Ледяной след её присутствия висел над залом, как знак, что она осталась непобедимой.
Глава 8.
– Подсудимый Джон Торн, – произнёс Карсуэлл с явной отдышкой, и его голос прозвучал, как скрип замка в тихой комнате. – Суд предлагает вам дать объяснения. Без присяги. Но помните – каждое слово будет взвешено.
Торн поднялся, и его движение было тяжёлым, будто под водой. Он опёрся о перекладину не для опоры – чтобы ощутить под пальцами жёсткую, чёткую геометрию, островок порядка в бушующем море хаоса. Блеск на его затылке был не от пота, а словно лёгкая морозная плёнка, покрывающая неживой труп.
– Вы признаёте прикосновения к мисс Энн Николь? – голос Притчарда был сух, как щепка.
Торн сглотнул, и звук этот был громким в тишине.
– Я… наставлял. – он начал, как всегда, с поправки. С утверждения своего статуса. – Это был ритуал тишины. Чтобы дрожь в голосе утихла. Чтобы воля подчинилась разуму. Когда девочка заикается от страха… тишина лечит куда лучше розги. Я никогда не поднимал руку на девочек, милорд. Никогда. Я их… выравнивал.
Карсуэлл молча указал пером на Притчарда, давая тому продолжить. Жест был равнодушным, но в воздухе повисло напряжение.
– Вы признаёте факт прикосновений? – настаивал прокурор, заостряя вопрос, как иглу.
Торн отвёл взгляд, его глаза упёрлись в спинку скамьи перед ним, видя там не дерево, а стройные ряды парт.
– Не признаю… непристойности. – он выдохнул слово с лёгким презрением, как будто это было что-то грязное, не имеющее к нему отношения. – Я… направлял локоть у кафедры – дабы девочка не поскользнулась. Каменный пол, воск… они малы и неустойчивы. Я подкладывал клин под шаткий стул – чтобы не раскачивался, не отвлекал. Я завязывал тесёмки – у печи холодный сквозняк, шея должна быть в тепле. Я просил кухню подкладывать каши слабым ученицам – дабы не падали в обморок от голода во время Закона Божьего. Я покупал за свои скудные гроши бумагу для черновиков – для тех, чьи пальцы дрожали и рвали лист от усердия. Это – попечение. Это – порядок. Без этого – хаос.
Писарь выводил: "попечение", "порядок", "хаос". Слова ложились на бумагу неровно, будто сопротивляясь.
Клэй поднялся, его движение было плавным, как у кошки, готовой поймать мысль. Голова слегка в головокружение.
– Милорд, прошу зафиксировать: подсудимый не отрицает заботу, но отрицает порочный умысел. Он описывает не преступление, а педагогический метод. Суровый – да. Но разве суровость – это злодейство?
Притчард вспыхнул, но не от гнева, а от ледяной ярости. В голове клубился туман, дышать становилось всё труднее.
– Метод? Ребёнок боится до дрожи. Разве страх – это педагогический метод, мистер Клэй?
– Страх перед беспорядком – основа дисциплины, – парировал Клэй, обращаясь к присяжным. – Вы ведь и сами воспитываете дочь в строгости. Неужели вы станете утверждать, что строгость – это насилие?
– Строгость – не значит положить руку на бедро ребёнка! – голос Притчарда сорвался, и он тут же осекся, сжав губы. Он попал в ловушку Клэя, скатившись к физиологии, тогда как защита говорила о возвышенных категориях.
Карсуэлл постучал костяшками пальцев по столу, вернув тишину.
– Вопрос по существу. И, если возможно, побыстрее с вопросами. В часовне – вы держали девочку за талию?
– Поддерживал, – мгновенно поправил Торн. – Во время коленопреклонений пол скользкий. Я, когда холодно, ставил слабых ближе к печке, согревал их.. Я укрывал спины шарфом – общим, казённым, он висел на гвозде для всех. Я писал письма опекунам часто болеющих. Я старик, милорд… я строг по-старинному. Я не… – он запнулся, впервые подбирая слово, которое не было частью его педагогического лексикона. – Не то, что вы думаете.
– На уроке чтения. Во время "пятиминутки". Вы брали руку ребёнка? – Притчард бил в самую суть, не давая уйти в общие рассуждения.
Торн закрыл глаза на секунду, будто вызывая в памяти образ.
– Поправлял пальцы на строке. – его голос стал тише, почти мечтательным. – Чтобы не сбивалась. Когда голос дрожит от неуверенности… я возлагал ладонь на плечо. Сверху. Тяжесть руки выравнивает дыхание. Успокаивает. Они должны учиться, а не краснеть от стыда за каждую ошибку. Я… лишь учил.
Самая страшная правда – что он верил в каждое сказанное слово.
– Против её воли или нет? – Притчард вогнал в тишину последний гвоздь.
Пауза повисла тяжёлым, густым полотном. В тишине послышался тонкий, сухой треск – то ли древесина скамьи, то ли лопнула лакированная плёнка на портрете какого-нибудь короля, висевшем на стене.
– Она… – Торн вдохнул так, будто воздух стал вязким. – Она допускала это. – Он сказал это шёпотом, но слово прозвучало на весь душный зал, громче любого крика. – Она ждала тишины. И в тишине этой… была готова к принятию. Воли. Знания. Порядка.
В зале ахнули. Дама уронила веер. Пристав Уикс вздрогнул, как от удара током. Отец Бреннан перекрестился, большим пальцем прижав крест к губам. Клэй лишь провёл ладонью по воздуху, сметая невидимую пыль – жест, отвергающий чужую иррациональность. Агата Торн не двигалась.
Карсуэлл ударил молотком. Звук был глухим, утробным.
– Порядок!
Пламя в газовых рожках дёрнулось, вытянулось в синеватые язычки и снова съёжилось, будто испугавшись собственной аномалии.
– Подсудимый, – голос Карсуэлла стал ледяным, – вы утверждаете, что ребёнок допускал? Что она была готова?
– Я не желал зла! – Торн заговорил быстро, сбивчиво, его маска педагога треснула, и из-под неё проглянул испуганный, загнанный в угол человек. – Я не такой! Я держал – как в церкви держат младенцев при крещении; поправлял тетради – чтобы не было помарок; сажал поближе к теплу тех, кто зяб; просил для отстающих оставить ужин… Она смотрела на меня… прямо… и ждала, когда наступит тишина и можно будет начать… Я стар, милорд… я никого не…
Писарь, побледнев от удушья зала, выводил: "допускала", "готова", "ждала тишины".
Клэй поднялся с видом человека, которому противна необходимость вмешательства.
– Милорд, защита настаивает: мы слышим не факты, а их интерпретацию. Прошу оставить присяжным образ: не сластолюбец, а суровый наставник. Человек долга. Заблудший, быть может. Но не развратник.
Притчард покачал головой, и в его взгляде была уже не ярость, а отвращение.
– Портреты пишут художники. Здесь же судят поступки. Ребёнок живёт в страхе. Это – факт. Объясните, мистер Клэй, как ваша "забота" совмещается с этим фактом?
– Порядок, – отрезал Карсуэлл, и в его голосе прозвучала стальная усталость. – Довольно. Писарь: зафиксировать. Подсудимый отрицает непристойность, апеллируя к порядку и попечению, и заявляет, что потерпевшая "допускала" и "ждала".
Он постучал ещё раз. Свод зала молчал, поглощая звук. Зал выдохнул – не с облегчением, а с чувством глубочайшей неразрешенный тоски.
Карсуэлл окинул взглядом зал: бледные лица, сжатые рты, дрожащие веера. Газовые рожки горели ровно, как ни в чём не бывало. Но что-то изменилось. Была произнесена не просто ложь. Была произнесена формула оправдания всего зла, творящегося под маской порядка.
– Слушание откладывается, – произнёс Карсуэлл. Он не кричал. Он расставлял слова, как каменщик кладёт кирпичи – плотно, неотвратимо, возводя стену между безумием и реальностью. Он устал. Голова раскалывалась от боли. Воздух в душном зале казался тяжелым. Каждый отстаивал свою правду.
Он поднял руку, и его костлявые пальцы один за другим сомкнулись в счете, обращённом не к залу, а к самому механизму правосудия, который начал давать сбой.
– Во-первых. – Палец, указательный, жёсткий. – Суд назначает специалиста. Доктора Грейвза, присутствующего в зале в качестве зрителя. Ему вменяется оценить душевное состояние и внушаемость свидетельницы Энн Николь: способна ли она отличать пережитое от заученного. Так же на следы… насильственной деятельности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.