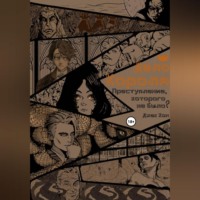Полная версия

Джек Хан
Дело Короля: Преступление, которого не было?
Глава 1.
Холод висел в коридоре едкой плёнкой, как потухшая коптилка. Энн Николь помнила её запах. Тот самый, что стоял в комнате после того, как унесли Лиззи. "Не рыдай, – шептала тогда Агата Торн, – слёзы – это неподобающая роскошь. Ты ещё узнаешь, какая честь тебя ждёт". Честь. Энн сжала крошечный клочок бумаги, впившийся ей в ладонь. Всего одно слово. Оно жгло кожу куда сильнее, чем утренний холод.
Высокие окна с молочными стёклами пропускали свет скупо, а туман за ними лизал стекло, превращая мир в мутное серое варево. Камень под ногами был старым, холодным и – казалось – слегка дышал. Половиц не было. Камень отвечал шагам глухо, будто прислушивался.
Тишина здесь не была просто отсутствием звука. Она была густой, вязкой, с собственной массой. В ней слышалось, как обшивка двери впитывает влагу, как где-то в глубине здания скрипит забытый клин. Тишина стояла такая, что могла бы заглушить собственный крик, родись он у кого-то в глотке.
Потом – металлический щелчок старинных часов: раз. Пауза. Два. Пауза. Три. И уже без пауз – семь. Ровно 7:00.
Дверь класса распахнулась без стука, будто разрезала плёнку тумана. В проёме встала Агата Торн: строгая, собранная, лицо – как застёгнутый на все пуговицы френч. В руке – связка ключей, и один не простой: головка, отлитая в форме короны, черным металлом, глухим к свету.
– Пятиминутка тишины.
Её голос не требовал подчинения; он констатировал закон. Воздух сгустился.
В классе сидели семь девочек в одинаковых темных платьях. Они напоминали срезанные цветы в вазе – красивые, но уже увядшие. По росту, по парте, по невидимой линии, как штыки, будто их выровняли по невидимому уровню. Они замерли ещё до команды – команды здесь никогда и не требовалось повторять дважды. В первом ряду – Энн Николь: хрупкие плечи, большие глаза, слишком глубокие для её возраста. Руки на фартуке. Только сухожилия на тыльной стороне ладони дрогнули – и застыли. Статуи дышат почти незаметно. Они словно куклы, готовые к действию по команде.
Под ножкой стола у кафедры торчал клин – незаметный, выравнивающий мебель на кривом полу. Здесь ровность была не удобством, а обетом.
На столе Агаты лежала печать: та же корона, что на ключе, только массивная, холодная. Рядом – журнал с пустой графой для подписи. Бумага молчала, зная своё место. Песочные часы на кафедре были нелепо огромными: две стеклянные колбы на чугунной раме. Песок в верхней – полный, но не тёк. Будто чья-то воля держала его взаперти.
Агата опустила ключ на стол. Металл звякнул о металл – громче, чем следовало. Эхо прокатилось по камням и вдруг глухо споткнулось, будто наткнулось на невидимую стену.
Песок в часах – заключённое в стекло время – содрогнулся. Не потек – судорожно вздохнул комком, будко пытаясь сбросить невидимые оковы. Одна песчинка-одиночка сорвалась и застряла в горлышке, будто не решаясь упасть в бездну непоправимого события. Девочки не подняли глаз, но у одной веки дрогнули – мелькнул трепет пойманной птицы за стеклом. Энн не шевельнулась, высеченная из мрамора тишины. Только пальцы впились в фартук на миг – бессловесный крик – и отпустили.
Агата взяла перо. Чернильная капля упала рядом с пустой графой, как предчувствие. Подпись вывела чётко, без росчерков – будто вырезала ножом. Печать опустила сверху.
Тук.
Звук осел в костях.
– Приступай.
В этот миг дверь снова приоткрылась. Вошёл мужчина крупного телосложения. Его шаги были редкими и тяжёлыми, как удары молота по камню. Девочки не обернулись – здесь никто никогда не оборачивался. Но каждая знала его.
Король.
Энн сжала в ладони крошечный клочок бумаги. Одно слово. Бумага липла к пальцам, как если бы знала, что сегодня будет поздно.
Король двинулся вдоль рядов. В классе всё ещё держалась "пятиминутка тишины", и каждый его шаг звучал сильнее, чем дыхание. Он останавливался у парт, склонялся ближе, разглядывал лица. На губах блуждала улыбка. Язык скользнул губам медленно, предвкушающе.
Возле третьей парты девочка едва заметно вздрогнула. Он выпрямился и сказал низко, без тени сомнения:
– Эта.
Агата не ответила. Только повернула песочные часы. Пятиминутка тишины закончилась. Энн зажала бумажку крепче. Впервые ей показалось: слово "Притчард" .
Ритуал закончился. Урок начался.
Глава 2
Туман за окном был плотным, как грязная вата, забившая улицу. Колокол Святого Михаила не звонил – глухо бился о вату и расползался. Шесть утра.
Карсуэлл сидел за кухонным столом, босые ступни на ледяных плитках. Пахло слабым чаем, подгоревшими тостами и свежей типографской краской – газету только что сунули в дверь.
Жена у плиты. Масло шипит в чугунной сковороде, ложка постукивает о край – её литургия тридцати лет.
На краю тарелки – щепотка соли. Не в солонке: отдельной кучкой. Карсуэлл взял кристаллы двумя пальцами, растёр и провёл белую черту по краю газеты.
Граница, – подумал он. И усмехнулся без радости. От чего? От кого?
Жена, не оборачиваясь, на миг повернула голову. Глаза скользнули по столу, по его руке с солью, встретились с его взглядом – коротко, без слов. Ни осуждения, ни любопытства. Только знак: вижу, знаю, молчу.
– Яйца? – спросила она. Голос ровный.
– Нет, – сказал он, ещё хрипло.
Он сгреб остатки соли с тарелки и сунул в карман халата. Кристаллы заскрипели, как песок на дне старого мешка. Жена опустила взгляд на сковороду, ложка пошла дальше.
Газета "Глостершир Кроникл" блестела свежей краской. На первой полосе:
УЧИТЕЛЬ ПАНСИОНА "НОРТ-ИСТ" ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ.
Под заголовком – грубая гравюра: здание с остроконечной крышей, окна – тёмные прямоугольники. Карсуэлл ткнул ногтем в одно из них. Щёлк. Бумага вмялась.
Он поднялся, оставив недопитый чай. Подошёл к двери, вытряхнул соль из кармана на порог и провёл ровную линию – тонкую, уверенную.
– Позавтракаешь?
– После.
Туман у порога едва шевельнулся и отступил – или показалось. Карсуэлл взял палку, газету сложил пополам, спрятал в карман плаща. В шесть пятнадцать он вышел. В кармане похрустела не только соль – рядом шуршал тугой конверт. Он всегда клал его рядом, чтобы случайно не перепутать с газетой.
В семь он будет в Ассизном суде. Дела всегда начинались одинаково: тяжёлый взгляд жены и белая черта на пороге.
Он ощутил, что эта черта – не граница, а петля: где бы он ни шагнул, всё возвращало его в дом, к жене, к её молчанию. И он стиснул зубы, потому что понял – всё, что ждёт его впереди, уже решено, и выбора не будет.
Карсуэлл уверен, что сделал черту солью на пороге. Но: белая линия исчезла, как будто её смыло дыханием. Его защита не работает.
Глава 3.
В дверь просунулась голова пристава.
– Милорд? Присяжные в сборе. Писарь – на месте. Прокурор просил минуту, но уже ждёт.
– Идём, – сказал Карсуэлл. Он погасил спичку, отложил сигарету – не затягиваясь – и взял папку.
В коридоре пахло воском и мокрыми плащами. Пол отзывался глухо; стены держали чужие разговоры, словно это и был их хлеб. Писарь – молодой, с чернильными пальцами и недосыпом – кивнул:
– Для протокола всё готово, милорд. Формулировки… как накануне.
– Тем лучше, – ответил Карсуэлл. – Значит, будет что уточнить.
– Встать! – отчётливо, без надрыва.
Зал – длинный, тёмный, тёплый от тел. На галёрке шуршали платья и цилиндры. Молоток на кафедре лежал, как лишний. Маленькие песочные часы на его столе шли исправно – ровный, успокаивающий шорох. Хороший звук для начала.
Карсуэлл коснулся часов, задержав пальцы на мгновение. Начать – значит подчинить день правилам. Не начать – признать, что правила дают течь. Он перевернул часы.
Вдоль длинного коридора, где под ногами скрипели тёмные доски, раздался сухой оклик судебного пристава:
– Суд идёт! Все встать! Его Милость, Барон Карсуэлл!
Зал поднялся единой волной. Скрип лавок, гул шагов, приглушённое покашливание. Карсуэлл вошёл, неся в себе привычку военного – спина прямая, шаг негромкий, но твёрдый. Он поднялся на возвышение и опустился в массивное кресло, под ним жалобно хрустнуло дерево.
Пристав продолжил:
– Сегодня слушается дело против Джона Торна, преподавателя пансиона “Норт-Ист”.
Секретарь у стола поклонился и начал быстро, деловито перекладывать бумаги. Скрип пера, шелест протоколов.
Карсуэлл пробежал глазами заголовок: "Дело Короля". Ни строчки лишней. Ни слова лишнего. Только буквы, набранные чётко и беспощадно.
Дверь сбоку отворилась. Под охраной вывели подсудимого.
Торн шёл неуверенно, будто его вес давил на каждую плиту. Лицо бледное, крупные черты казались расплывающимися, подбородок дрожал. Он сел в огороженное место для подсудимых и уронил взгляд в пол.
И тогда звякнуло.
Карсуэлл сразу уловил этот звук – глухой, металлический. Ключи. Подсудимый поправил карман сюртука, связка снова тихо качнулась и замерла.
Барон приподнял бровь. "Ключи? Но у него не может быть ключей. Даже носовые платки изымают при аресте. Откуда у него связка? Почему приставы молчат, или так надо?"
Один из стражников откашлялся, переглянулся с товарищем, но оба остались неподвижны, как будто не слышали вовсе.
Карсуэлл сжал губы и сделал пометку в уме.
– Объявите стороны, – произнёс он сухо.
Секретарь быстро поднялся:
– Сторона обвинения представлена королевским прокурором мистером Притчардом. Защиту подсудимого ведёт мистер Клэй.
Клэй, в очках, худой и насмешливый, поклонился слегка, с ухмылкой в уголках губ. Прокурор Притчард – наоборот, тяжёлый, неулыбчивый, держал голову, как солдат на плацу.
Карсуэлл кивнул.
– Приступайте.
В зале пошевелились. Лавки скрипнули, и снова – тишина.
– Вызывается Энн Николь, воспитанница пансиона "Норт-Ист", – буднично объявил пристав.
Девочка вошла сама. Короткие шаги, подбородок прямо, руки прижаты к платью. На свидетельской скамье ей подставили низкую табуретку – ступни не доставали пола и раскачивались сами собой, как маятник. Она остановила их усилием.
На галёрке женщины приглушённо защёлкнули сумочки, поправили шали; у одной дрогнули пальцы на узле платка. С запахом воска смешался лёгкий лавровый и мыльный – прачечные привычки, воскресные привычки. Две пожилые дамы переглянулись и отвернулись вбок, как от слишком яркого окна. Журналисты словно по команде начали что то писать.
Секретарь поднялся:
– Возраст?
– Тринадцать.
– Родители?
– Нет.
– Под чьим попечением?
– Под пансионом.
Карсуэлл кивнул:
– Предупреждена об ответственности за ложные показания. Если вопрос непонятен – скажи. Говори ясно.
Сбоку, в ограждении, Торн шевельнулся; ключи в кармане звякнули – чисто, как ложка о край сковороды. Латунь мелькнула. Никто из стражников не повёл бровью. Несколько женщин на галёрке одновременно вскинули взгляды – коротко, остро – и так же разом опустили их.
Прокурор Притчард поднялся. Фигура крупная, плечи чуть наклонены вперёд – не давящая поза, а скорее домашняя. Голос мягкий, будто для младших классов:
– Мисс Николь, прежде воды… – он кивнул приставу; тот поставил перед Энн стакан. – Если устанешь – скажи. Мы тебя слышим.
Короткая пауза. Он глянул на Карсуэлла: – Ваша честь, прошу оставить свидетельницу сидя.
Кивок.
– Скажи, пожалуйста, – продолжил Притчард, – совершал ли подсудимый в отношении тебя, скажем так, неприличные прикосновения?
Энн вздрогнула. В горле – вкус мела. Она сидела ровно, ладони на коленях. В правой – сложенный вчетверо клочок. На нём одно слово: Джон. Чернила отпечатались в кожу.
– Да, – сказала она. – Когда объявляли тишину, пятиминутку тишины. И когда я оставалась одна.
Шевеление на галёрке – женский вздох, тонкий, сплющенный в платке. Карсуэлл поднял руку – тишина легла, как крышка. Слышен скрип пера по бумаге.
– Ты уверена? – всё тем же тоном спросил Притчард. – Не могла принять случайное касание за другое? Если слово трудно – скажи проще.
Энн подняла глаза. Они были глубже её возраста, но голос – ровный:
– Уверена. Это было не случайно.
Защитник Клэй встал, поклонился легко; в голосе – железо:
– Возражаю. Просим свидетеля пояснить без оценок. Что именно она называет "Не приличным и непристойными" действиями: место, время, обстановка.
– Удовлетворено частично, – сказал Карсуэлл. – В пределах приличного, без образов.
Энн кивнула. Пальцы перестали мять бумажку; она положила ладони плоско.
– На чтении… мы стояли читали, – медленно. – Он ходил. Взял мою руку… как берут мел… и положил… – она искала слово, – …в карман. Долго держал. Сказал не дёргать.
– Под платьем… – на галёрке три женщины одновременно сильнее сжали сумочки; у одной хрустнули перчаточные швы, – …касался выше колена. Там, где взрослые руки не держат у девочек.
– В часовне – держал меня за талию слишком низко. Шептал, чтобы молчала. Что это "между нами". И что " шум – лишение". Я молчала.
Ключи опять тихо провели по латунному кольцу – цок-цок. У Торна на губах дрогнула улыбка; он тут же опустил взгляд. С галёрки это увидели – разом дёрнулись веки, кто-то едва слышно шепнул "Господи".
Клэй наклонил голову:
– Свидетель использует оценочные формулы – "слишком низко", "не держат" и тому подобное. Но кто учил тебя этим словам?
– Нам говорили… – снова подбирая слова, – …что "неприлично" – это когда становится стыдно и страшно, и хочется встать, но нельзя. Слово "неприлично" сказали. Остальные слова – мои.
В этот момент Притчард едва заметно повернул к ней ладонь – жест "говори дальше, как умеешь". Женщина в переднем ряду вынула чистый платок и, не глядя, протянула приставу; тот переложил его на край скамьи свидетеля. Энн не взяла.
– Сколько раз это происходило? – сухо уточнил Клэй. – Точный счёт.
– Я считала, – сказала Энн. – По гвоздикам на плинтусе. Три у стены, ещё два у кафедры, потом… – она вдохнула, – …пять раз. В разные дни. Когда песок ещё стоял в часах и нельзя было двигаться.
Мурлыканье женских голосов прокатилось галёркой, как тихая волна; кто-то шепнул: "Ребёнок же…"…
– Почему не обратилась к взрослым? – Клэй шагнул ближе к барьеру.
Притчард поднял ладонь:
– Ваша честь, прошу защитника не ускорять темп допроса. Свидетельница – малолетняя.
Кивок.
– Обращалась, – сказала Энн. – Тихо. В пятиминутку тишины нельзя говорить. После… – она искала простое,слово – …не верят. А ещё… – она коснулась ногтём бумаги в ладони, не разворачивая, – …если говоришь… – Если говоришь не то наказывают…больно.
Писарь на миг оторвал перо, провёл взглядом по своей странице, будто что-то потерял, и снова наклонился.
– Что ты имеешь в виду – "исчезают имена"? – мягко уточнил Притчард, просматривая документы дела.. – Скажи, как это выглядит.
– Было семь. Стало шесть. И никто не сказал "где". Только парта стала чистой, как будто её никогда не было. – Она посмотрела поверх зала, туда, где галёрка. – Я помню.
– Возражаю, – поднял ладонь Клэй. – Свидетель даёт метафоры о "исчезающих именах". Просим суд пресечь поэтические образы.
– Пресекать не буду, – сказал Карсуэлл. – Зафиксируйте буквально. Суд сам оценит.
Притчард чуть наклонился вперёд – не переходя черту – и мягко:
– Энн, если трудно назвать предмет, покажи ладонью, где "слишком низко". Не обязательно слово, – и тут же, уже в зал: – Ваша честь, прошу зафиксировать, что прокурор просит не детализацию, а границы, доступные ребёнку.
Кивок.
Энн, не глядя на Торна, провела ладонью в воздухе – на уровне, где пояс заканчивается и начинается стыд. На галёрке несколько женщин одновременно отвели глаза вниз; одна перекрестилась так украдкой, будто поправляла шарф.
– И всё же, – Клэй, возвращаясь к "железке", – слова "выше колена", "слишком низко", "неприлично" – это взрослые слова, мисс Николь?
– Да, – сказала она. – Но стыд – мой. И страх – мой. Они не взрослые. – Она смотрела прямо. – И рука – его.
В зале кто-то всхлипнул. Карсуэлл стукнул молотком – один раз, негромко. Песок в маленьких часах шёл ровно. Притчард медленно выровнял листы на столе – жест "ты справляешься" – и кивнул Энн почти незаметно: продолжай, мы тебя слышим.
Клэй подошёл ближе, пальцы легко коснулись барьера – и тут же он будто стряхнул невидимую пыль платком, аккуратно, с лёгким оттенком брезгливости.
– Свидетельница, – деликатно, почти ласково, – ты сказала: "когда объявляли тишину". Кто объявлял?
– Мисс Торн.
– Всегда?
– Всегда.
Клэй повёл плечом к суду, голос ровный, "служебный":
– Отмечаем: распорядок обязателен и публичен. – Снова к девочке, мягко: – Какие ощущения ты помнишь от касания?
– Холод.
Клэй – мгновенно, без паузы:
– Возражаю. Ненаучно. "Холод" – понятие относительное: сквозняк, болезнь, впечатлительность. Просим конкретизировать.
Карсуэлл кивнул, не меняясь лицом:
– Свидетель, поясни. Если можешь – в рамках приличного.
Энн впервые перевела взгляд на судью. Сказала тихо, но слышали все:
– Кожа была как камень. Холод шёл изнутри. Оставался на коже, когда он убирал руку.
На галёрке коротко ахнули; у двух женщин дрогнули перчатки на коленях. Несколько секунд слышно было тиканье настенных часов.
Торн дёрнулся и хрипло выкрикнул, не вставая:
– Ложь! Она… позволила!
Пристав шагнул, но Клэй опередил – наклонился к подсудимому, шепнул, одновременно убирая его пальцы со связки ключей. Звякнуло ещё раз – коротко, как точка.
– Подсудимого – к порядку, – сухо сказал Карсуэлл. – Ещё одно нарушение – удалю. – И, к Энн: – Девочка, ответь прямо: это происходило против твоей воли?
– Против, – без колебаний. – Я знала, что это неправильно. Я молчала, потому что боялась.
Притчард повернул к ней ладонь – "говори, как умеешь":
– Кого ты боялась?
– Всех.
Клэй поднялся снова; в голосе – тонкий металлический звон:
– Уточню. Рядом со свидетельницей нет врача, наставника; никто не проверил её состояние. Просим учесть впечатлительность возраста.
– Ходатайство о враче не заявлялось, – коротко отрезал Карсуэлл. – Суд слышит свидетельство. По существу.
Клэй кивнул – послушно – и тут же перешёл в наступление, аккуратно расставляя "проверочные" шпильки:
– Ты говорила: "он ходил". Подтверди: у кафедры?
– Да.
– В момент "пятиминутки тишины"? Когда класс стоит, глаза опущены?
– Да.
– А мисс Торн – где?
– У стола. С печатью и журналом.
Клэй на секунду разрешил себе тонкую улыбку – почти незримую:
– Значит, в классе присутствовал взрослый. И всё это – "в присутствии класса"?
– Да.
– При этом, – он слегка наклонился, – твоя рука якобы была в кармане у подсудимого. Ты правша?
– Да.
– На какой руке у тебя были манжеты? – он кивнул на её платье.
– На обеих.
– Платье короткое или с фартуком?
– С фартуком.
– Пояс фартука – на талии?
– Да.
– Тогда покажи, где ещё раз "слишком низко". – Он чуть повернул ладонь к залу. – В рамках приличия, Ваша честь.
– Разрешаю обозначить уровень, – кивнул Карсуэлл.
Энн, не глядя на Торна, провела ладонью в воздухе – там.
– Благодарю, – мягко сказал Клэй. – Далее. Ты утверждала: "держал долго – пока шёл песок в маленьких часах у доски". Сколько времени ты держала руку. Часы? Минуту? Две? Пять?
– Около двух, – после паузы.
Клэй поднял бровь чуть заметнее – того, что прилично:
– Тогда это касание должно было быть заметно всем, правда? И мисс Торн – которая, по твоим словам, была у стола – не могла не видеть?
Шевеление на галёрке; тонкий женский шепот: "Видела…”.
Притчард спокойно, но твёрдо:
– Настаиваю: вопрос оценочный. Свидетельница фиксирует свои ощущения и факты, а не реакцию всех присутствующих.
– Снято, – кивнул Карсуэлл. – По фактам, мистер Клэй. Не ускоряйте процесс. Агата Торн также присутствует среди свидетелей.
Клэй вынул чистый носовой платок, коснулся им пальцев – будто возвращая их к "чистоте" – и снова мягко:
– Свидетельница, ты говорила также: " исчезают имена; на журнале остаётся пусто". Я прошу пояснить: ты собственными глазами видела "пусто" в журнале?
Энн сжала клочок бумаги ладонью:
– Да. Там, где было имя, – осталась пустая графа. Или ставился крест, как на могиле.
На галёрке – острое "ах" и так же быстрая тишина.
Клэй сделал вид, что не заметил шума, и продолжил:
– Кто дал тебе на это время и доступ? Журнал – у стола, верно?
– Я помню, – просто сказала Энн.
– Это не ответ, – Клэй чуть нажал, но голос всё ещё заботливо-педагогический. – Кто и когда дал тебе журнал?
Притчард поднял ладонь:
– Ваша честь, свидетельница – малолетняя; давление неуместно. Если защита хочет допросить писаря пансиона по режиму ведения журналов, пусть заявляет ходатайство. В деле не указано.
Карсуэлл кивнул:
– Так и будет. Мистер Клэй?
– Заявлю, что хочу позже допросить Святого отца Бреннан, он же писарь пансиона. На предмет ведения журнал.
– Принято.
И тут же – новый заход: – Последний блок, Ваша честь.
Он повернулся к девочке, улыбнулся по-учительски:
– Энн, ты сказала: "я считала". По гвоздикам у стены, верно? Скажи суду: считать – это твоя привычка? Ты часто считаешь? Ступени, окна, доски пола? – Он говорил мягко, но в голосе сквозил холодный рациональный интерес, как у врача к симптомам.
– Часто, – сказала она. – Когда нельзя говорить, и двигаться. Тогда считаешь.
– Понимаю, – он кивнул, как будто разделял, – привычка снимает страх, верно? – и, уже к суду: – Просим учесть особенность восприятия: склонность к навязчивому счёту, повышенная внушаемость. Мы обязательно вызовем директрису пансиона для пояснений по распорядку "пятиминутки тишины" и расположению кафедры.
Слова прозвучали у него почти как стерильные инструменты. На галёрке женщина в сером сжала сумочку так, что выступили косточки пальцев.
Притчард не поднял голоса – только поменял интонацию на домашнюю:
– Энн, – мягко, – ты молодец. Ещё одно. Когда ты говоришь "стыдно и страшно, и хочется встать, но нельзя" – это тебе так сказали или ты так почувствовала?
– Я. – Я так почувствовала.
Клэй сделал шаг назад, складывая заметки ровно, как бинты. На секунду его ноздри едва заметно сморщились – будто от чужого запаха – и тут же лицо стало прежним: безупречным, заботливым, корректным.
В зале опять стало очень тихо. Писарь водил пером, не поднимая глаз. Притчард сменил позицию:
– Когда ты впервые рассказала кому-то о случившемся?
– Через два дня. Сначала – однокласснице. Потом – смотрительнице. Позднее меня допросили.
Клэй едва заметно усмехнулся, но промолчал. Торн опустил голову; ключи у него в кармане еле слышно перестали звенеть.
Карсуэлл сделал отметку в протоколе:
– Свидетель предупреждена, показания зафиксированы. – И поднял взгляд на присяжных: – Слова “против её воли” прошу запомнить как формулу.
Он это произнёс слишком спокойно. Но спина у него под мантией взмокла, а в воздухе стоял неясный, жёсткий холод – как от камня.
В зале снова позвали тишину. Адвокат Клэй медленно поднялся, изящно поправил манжету и склонил голову в сторону судьи.
– Милорд, прошу разрешения задать уточняющий вопрос, – его голос звучал, как скрипучее перо по стеклу: сухо и с оттенком насмешки.
Карсуэлл кивнул:
– Допускается.
Клэй обернулся к девочке.
– Мисс Николь, позволь спросить… ты сказала, что это было "непристойно". Скажи нам, дитя, что это значит? Для тебя.
Энн чуть заметно моргнула. Губы дрогнули. Она сидела прямо, но пальцы, всё ещё вцепленные в подол платья, дернулись, будто кто-то дёрнул за ниточку.
– Это… – начала она, и голос её был как всегда ровен, но в нём проскользнула странная задержка. – Это то, чего учитель не должен делать. Это… неправильно.
– Неправильно, – мягко повторил Клэй. – А кто тебе сказал, что это именно неправильно?
На секунду её взгляд ушёл в сторону – туда, где в зале сидели женщины пансиона, сжатые в строгий ряд. Лицо её снова стало маской.
– Я знаю сама, – отрезала она.
Карсуэлл заметил: у девочки не дрогнул голос. Но пауза – эта пауза была долгой и слишком взрослой. Не детской.
Клэй шагнул ближе, его тень упала на скамью:
– Энн, тебе тринадцать. Ты знаешь, что значит непристойно и не правильно ? Или ты повторяешь слова, которые слышала?