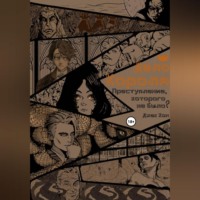Полная версия
Зал затаил дыхание. Взрослые женщины на галёрке переглянулись.
Девочка медленно подняла глаза. В них блеснуло что-то странное – не страх, не смущение, а нечто вроде вызова.
– Мне сказали, – произнесла она неожиданно тихо. – Что если мужчина трогает так – это неприлично.
– Кто сказал? – Клэй резко подался вперёд.
Она отвернулась.
– Я не помню.
Гул прошёл по рядам, как слабое землетрясение. Кое-кто шепнул соседу. Судебный пристав кашлянул, требуя тишины.
Карсуэлл наклонился вперёд, взглядом сверля девочку. И в этот миг его охватило странное чувство: не она отвечает, не она говорит. Словно за её плечом стоит кто-то ещё – взрослый, умный, расчётливый – и кладёт ей в рот нужные слова.
Чьи слова? – мелькнуло у него, и эта мысль прилипла, как липкая паутина в подвале.
Адвокат Клэй, уловив дрожь момента, сделал шаг назад, улыбаясь краешком губ.
– Благодарю, милорд. У защиты не осталось вопросов.
Энн сидела неподвижно. Но её пальцы снова вцепились в ткань так сильно, что ногти оставили белые борозды.
Карсуэлл перевёл взгляд на песочные часы. Песок шёл ровно, лёгкий шорох успокаивал.
– Свидетельница может быть свободна, оставайся в зале, позже суда охрана тебя сопроводит в отель "Корону". – сказал он. – Благодарю, ты молодец.
В зале на секунду гаснет один газовый рожок. В полумраке кажется, что на лице Торна улыбка – не его улыбка, а чья-то чужая. Свет возвращается, но ощущение остаётся.
Глава 4.
Воздух в зале суда сгустился от запаха пота и воска, когда пристав Уикс выкрикнул её имя. Дверь открылась, и в проёме показалась миссис Поттл. Она вошла не как свидетель, а как провинившаяся служанка, вызванная на ковёр к строгой госпоже. Её крепкое, некогда полное силы тело съёжилось, сгорбилось под грубым передником. Тяжёлая связка ключей на поясе – символ её двадцатилетней власти над спальнями и чуланами – теперь казалась нелепым и жалким грузом, бессильно поблёскивавшим при каждом её неуверенном шаге. Она шла, опустив голову, и весь её вид говорил о единственном желании – провалиться сквозь эти натёртые до блеска половицы.
Карсуэлл, сняв очки, наблюдал за ней. Он видел не свидетеля, а явление – измождённую жизнью женщину, чьё лицо было испещрено морщинами, как старый пергамент, на котором можно было прочесть всю историю её нелёгкой службы: вечную усталость, страх перед начальством, покорную преданность порядку, который она сама же и поддерживала. Её пальцы, красные и огрубевшие от работы, беспрестанно теребили краешек сбившегося чепца – жалкий, трогательный жест, выдававший смятение.
– Миссис Поттл, – начал прокурор Притчард, и в его голосе прозвучала не столько мягкость, сколько искренняя, почти болезненная забота. – Не соблаговолите ли вы сообщить суду… жаловалась ли вам мисс Николь на поведение мистера Торна? Подумайте хорошо: девочка доверилась именно вам.
Пауза повисла тяжёлым, влажным полотном. Было слышно, как на галерее перешёптываются дамы и как за окном каркает ворона. Миссис Поттл молчала, уставившись на свои стоптанные башмаки. Казалось, она собирается с духом, чтобы произнести не слово, а поднять непосильную ношу.
– Ну… было дело-с… – наконец выдохнула она, и голос её был тих, слаб и прерывист, точно она говорила сквозь сон. – Подходила как-то вечерком… перед самым сном. Глаза у ней… большие такие, словно не свои. И говорит… шёпотом, знаете ли…
Она замолкла, сглотнув комок в горле. Её пальцы снова потянулись к чепцу.
– И что же она сказала? – терпеливо, но с нарастающей горячностью повторил Притчард. – Какими именно словами? Это очень важно, миссис Поттл. Очень важно для ребёнка.
Женщина заморгала, растерянно оглядывая зал, будто ища поддержки у безмолвных портретов на стенах.
– Сказала… что он… что мистер… – она запиналась, подбирая слова, которые казались ей слишком уж неподъёмными, слишком книжными для этой ситуации. – Что он вёл себя… "неприлично". Да-с. Так и молвила: "неприлично".
В зале пронёсся одобрительный гул. Притчард с торжеством кивнул, будто только что получил подтверждение собственной веры. Но его триумф длился недолго.
Клэй поднялся неторопливо, мягко, будто боялся потревожить воздух. Трость его легко оперлась о пол. На лице – почти приветливая улыбка, в голосе – тёплая вежливость.
– Милорд, с вашего позволения… одно уточнение для присяжных. Это слово – "неприлично"… оно ведь не свойственно речи тринадцатилетнего ребёнка. Согласитесь, оно скорее из взрослого лексикона. Быть может, миссис Поттл, именно вы его произнесли? Чтобы объяснить то, что девочка чувствовала, но не могла назвать.
Миссис Поттл замерла. Её глаза наполнились тем животным страхом, с которым бедные всю жизнь живут под взглядом господ. Она сжала свои натруженные руки в кулаки.
– Я… не припомню-с, – прошептала она. – Может… может, и я это слово вставила… Чтобы яснее было. Она же, девочка, всё больше молчала… А глазами… глазами всё говорила.
Клэй медленно кивнул, обратившись теперь уже к присяжным, и его голос остался всё таким же ровным, почти дружеским.
– Вот, господа, глаза – вот искренность. А слова? Слова – это то, что можно внушить, вложить, обронить. Три вещи: услышать, повторить, поверить. Особенно когда речь идёт о ребёнке.
Притчард вспыхнул, его голос дрогнул:
– Милорд, прошу заметить: ребёнок понимает разницу между приличным и неприличным! Это вопрос морали, а не риторики!
Карсуэлл не ответил сразу. Он снял очки, протёр их, задержал взгляд на миссис Поттл: тяжёлые плечи, смятый чепец, красные руки. Он чувствовал: она не лгала. Она и не умела лгать. Она лишь пыталась, как могла, придать форму смутному детскому испугу – и сама же стала пешкой в чужой игре.
И эта маленькая, серая правда – её правда – казалась Карсуэллу страшнее и безысходнее любой самой искусной лжи.
Он вспомнил: прежде чем их показания прозвучали в открытом заседании, Энн Николь и миссис Поттл были заслушаны присяжными обвинителями в закрытом режиме. Именно эти свидетельства позволили составить обвинительный акт против Торна. И именно под горячим напором Притчарда они решили открыть официальный суд.
Сейчас же их слова – в зале, на виду у всех. Каждое движение, каждый вздох девочки, каждая неуверенная пауза экономки превращались в факты, которые могли изменить судьбу мужчины.
Карсуэлл подня глаза на дождливое окно. Там больше не было вороны. Только мелкий, липкий дождь, похожий на пот на лбу уставшего человека.
– Вы можете быть свободны, оставайтесь в зале суда.
Глава 5.
Карсуэлл опустил руку на молоток. Зал был тих, воздух вязкий и тяжёлый, словно сам камень прислушивался к шагам.
На столе перед ним лежала небольшая свернутая записка. Он не вздрогнул. Не в первый раз кто-то оставлял подобное напоминание – осторожное, холодное, невысказанное. Он знал: это не просьба, не угроза, а ожидаемая услуга, заранее оплаченная и принятая. Взятка, аккуратно поданная через систему, которую он давно уже знал.
Он расправил листок. Несколько угловатых слов:
"В верхах надеются на скорое и благоразумное разрешение этого дела".
Карсуэлл сдержанно кивнул себе. Никакого волнения – только привычка, многолетний опыт, расчет. Он уже делал такие "добрые намёки" частью работы. Подсознание отмечало: ход событий оценивается не только глазами закона, но и теми, кто стоит выше.
Молоток оставался в его руке, как всегда – инструмент порядка и символ власти.
– По технической причине, а также ввиду неявки свидетеля духовного звания, суд объявляет перерыв. Пристав, проветрить зал. Секретарь – разыскать отца Бреннана: курьер отправлен?
– Отправлен, милорд. Сообщили, что задержался у тюремной капеллы, – ответил секретарь.
Карсуэлл не успел сесть, как за спиной у присяжных глухо ударило железом о железо. Затем – шипение, резкое, как змеиное.
– Чёрт побери, Том, придержи шибер, а то вся конструкция к дьяволу! – донёсся грубый полушёпот.
Головы повернулись разом. Из-за дубовой панели, в нише светильного рожка, торчали две пары ног в замасленных сапогах. По натёртым половицам потянулись грязноватые разводы от мокрой уличной глины.
– Милорд, – склонился к Карсуэллу секретарь, – газовщики. Вчера к вечеру рожок потрескивал. Фитиль подсасывает, напор скачет. Вызвали к вечеру сегодня а они почему то сейчас пришли. Оставляем?
Карсуэлл кивнул.
Первым вывалился из ниши рослый детина с обветренным лицом – Сэм Гоббс. За ним, держась за стеклянный колпак, покрытый изнутри копотью, – его тощий напарник, Том Пайк.
– Да будь оно неладно, – проворчал Сэм, протягивая разводной ключ. – Штуцер отошёл. Прокладка села, шибер люфтит. Век отслужил, а с вас света требуют как в ратуше.
Том, морщась, приподнял закопчённый колпак на ладони.
– Видите, господа? Нагар не снаружи – изнутри. Газ бедный, смесь гуляет: то шипит, то глохнет. Пламя пляшет, как баба на ярмарке. Понюхайте: сладковатый душок. Не догорает – травит. Его не видно, а он тут есть.
Дамы на галёрке ахнули, принялись обмахиваться. Пристав Уикс шагнул к нише:
– Эй вы, поосторожнее! Здесь заседание суда, держите язык в узде!
– Держим, держим, – буркнул Сэм, даже не оборачиваясь. – Только если не перекрыть – рванёт, и будет не заседание, а поминки.
Он крутанул кран, потянул за рычаг. Шипение усилилось, прошлось по залу неприятной волной и стихло. Том наклонился к форсунке, тонко прислушался, потом кивнул:
– Тише стало. Рожок снять да промыть, фитиль новый поставить – и зажигать на пробу.
– Действуйте, – коротко бросил Карсуэлл. – Пристав, окна – настежь, на минуту. Господа, сохраняем порядок.
Окна скрипнули; в зал ворвался мокрый февральский воздух. Газовщики работали быстро: стекло – в сторону, фитиль – в бочонок с маслом, шибер – на пол-деления. Сэм чиркнул спичкой прямо о подошву, занёс пламя к рожку. На миг загорелось синеватым язычком, будто чужим огнём, потом выровнялось тёплым ровным светом.
– Готово, – сказал Сэм, глухо удовлетворённо. – Напор стабилен, шибер подтянули, тянуть не должно. Но окна пока закройте, чтобы пламя не сдуло сквозняком – дух газовый, он липкий. И щелкать краном без надобности не советую: чувствительный.
Том, вытирая стекло паклей, пробормотал:
– Если что – зовите. Мы рядом, у лестницы. Но, по чести сказать, нынче всё исправно. Гореть будет ровно.
Они собрали железо, гулко погремев ключами, и скрылись за панелью. Запах металла и угольного газа ещё держался, но свет теперь стоял ненарушно, без дрожи.
Карсуэлл перевёл взгляд на зал. Присяжные шептались, публика приходила в себя, секретарь записывал отметку о перерыве. Он поймал себя на странной мысли: "не догорает – травит" – прозвучало так, будто речь шла не только о лампе. Слова липли к делу.
– Секретарь, – тихо, без раздражения, – уточните. Как прибудет отец Бреннан – сразу в зал. И распорядитесь, чтобы окна закрыли.
– Слушаюсь, милорд.
Карсуэлл посмотрел на рожки: пламя стояло ровно, как строй солдат на утреннем смотру. Всё исправлено, всё работает. И всё же – воздух сохранял лёгкий сладковатый привкус, будто кто-то оставил в комнате след своего дыхания.
Он подумал: "Жизнь и суд похожи. Снаружи – свет ровный, порядок соблюдён. А внутри всегда что-то коптит, травит, не догорает. Ты этого не видишь, но оно здесь. И моя работа – сделать вид, что всё горит чисто".
Он достал из внутреннего кармана тонкую папиросу. Щёлкнул спичкой, затянулся коротко, не для удовольствия, а чтобы поставить границу – между собой и этой липкой, тянущей тьмой. Дым пошёл горький, вязкий, и он выдохнул его сквозь зубы, глядя на ровное пламя рожков, как будто проверял: дым ли это или всё ещё тот сладковатый дух газа.
Записал на полях: "Перерыв – освещение, ожидание свидетеля. Свет стабилен". Почерк его был резкий, ломкий, но каждое слово стояло, как подпорка в стене. Это был его способ удержать порядок: запись, метка, штрих. Соль на пороге перед важным делом.
Он хотел докурить, но услышал шаги в коридоре, сдержанный голос секретаря, и затушил папиросу в пустой чернильнице. Вторая за утро – недокуренная. Первая лежала в блюдце, с неровным пеплом, будто усохшая кость.
"Так всегда, – подумал он. – Куришь не ради конца, а ради середины. Чтобы в паузе, между хаосом и его отражением, успеть вдохнуть свой порядок".
Газовщики ушли, но на месте, где стоял их фонарь, остаётся лёгкий круг копоти на стене. Похожий на нарисованную корону. Как визитка.
Глава 6
Зал наполнился снова гулом – публика вернулась с шёпотом и шелестом, как деревья после ветра. Воздух пах свечным воском, мокрыми плащами и чем-то ещё – тем сладковатым следом газа, который никак не выветривался.
Карсуэлл сел, тяжело опустив руку на молоток.
– Заседание продолжается, – произнёс он сухо, как будто это был не голос, а камень, катящийся по плитам.
Притчард поднялся, нервный, с синей папкой в руках. Голос его дрогнул, но в дрожи была искренность:
– Милорд, прошу не забывать: мы имеем чистое, ясное свидетельство ребёнка. Имеем слово женщины, которая подтвердила её жалобу. Разве этого недостаточно, чтобы видеть суть? Речь идёт не о букве, а о справедливости. Девочка ведь не выдумала свой страх!
Он сжал папку так, что та хрустнула.
– Когда взрослый пользуется властью против ребёнка, это уже преступление, даже если у нас нет целого шкафа улик. Разве для правды всегда нужны печати и подписи?
Гул одобрения прокатился по галёрке.
Клэй встал, медленно, будто ленился. Трость с серебряным набалдашником скользнула по полу – сухо, негромко; звук обиднее любого сарказма.
– Милорд, – голос мягкий, почти медовый, – мы ведь говорим о суде, а не о театре. У справедливости могут быть глаза и сердце, у закона – только весы.
Он повернулся к присяжным, улыбнулся так, что спорить расхотелось.
– Что у нас есть? Слова ребёнка, которая не вполне владеет понятийным аппаратом "прилично/неприлично". Слова усталой экономки, которая, возможно, сама подложила девочке слова, чтобы назвать чувство. Это не факты, господа. Это эхо.
С верхних рядов слово "факты" вернулось чужим, детским шёпотом:
– …страх…
На галёрке женщины разом втянули воздух. Пристав Уикс поднял ладонь: тише.
Клэй не улыбнулся – только слегка наклонил голову, будто подтверждая чужую реплику:
– Вот. Страх. Он честен, но он не доказательство. Ребёнок может обижаться. Ребёнок может пакостить. Ребёнок может перепутать. Мы все были детьми – и знаем.
Он повернул лист, проверяя пометки.
– 14-го числа, – голос остался тёплым, – в "Книге наказаний" пансиона (№ III-27) зафиксировано: "лишение субботней прогулки" у мисс Николь – за чтение непристойной книги после отбоя. 18-го – "лишение сладкого" за разговоры в "пятиминутку тишины". Это факты распорядка, не эмоции. Могла ли девочка затаить обиду на наставника, применившего наказание? Могла. Могла ли перепутать строгость с неприличием? Могла.
Шевеление, сухие кашли мужчин, со стороны женщин – глухое "ну…".
Поттл вздрогнула и инстинктивно потерла ладони о передник. Несколько женщин переглянулись: одна кивнула, другая покачала головой.
– О "часах", – Клэй мягко поставил акцент. – "Долго – пока шёл песок в часах у доски". Мы замерили ровно такие же – пять минут семнадцать секунд. Это я к чему? А к тому, что под стрессом минута кажется вечностью. Это известно любому врачу и учителю.
Он снова улыбнулся – вежливо, как у домашнего учителя.
– И наконец, – голос ещё тише, почти доверительно, – у подсудимого есть характеристика: "строг, но справедлив; взыскателен, но добр к слабым". За двацать лет – ни одной жалобы, ни одного взыскания по части чести. Это не эмоции – это записи. Мы попросим вызвать свидетелей по характеру.
С женской галёрки – тонкое "а если…", но тут же – "ш-ш-ш".
Клэй поднял ладонь, как бы ограждая присяжных от шёпота:
– Я не прошу вас не верить ребёнку. Я прошу вас не путать чувство со событием, слово – с фактом. Взвесьте. Где дата, где время, где свидетель, где предмет? Где взрослый, который видел, а не додумал? Мы обязаны не обидеть ни девочку, ни человека, на которого она обижена. И особенно – не осудить доброго и справедливого учителя одним слогом, внушённым вечером у прачечной.
Он повернулся к скамье подсудимого, коснулся перчаткой лацкана Торна – жест почти поддерживающий, слишком аккуратный – и снова к судье:
– У защиты – ходатайство о приобщении "Книги наказаний", списка поощрений подсудимого и опросе бывших выпускниц. Факты, милорд. Только факты.
В зале – разнотон. Женщины с передних рядов сжали сумочки, у одной выступили косточки пальцев; с мужских мест послышалось довольное "хм". Притчард, не глядя на Клэя, придвинул к себе стакан, будто опасаясь, что и воду тот назовёт "эмоцией", и сказал спокойно, по-домашнему:
– Ваша честь, ребёнок дал дату. Ребёнок дал место. Ребёнок показал границу. Это и есть факты пережитого. Обида – слово взрослых. У девочки – страх и стыд. А это уже язык тела, а не риторики.
Карсуэлл снял очки, задержал взгляд на Поттл, потом на присяжных:
– Суд приобщает "Книгу наказаний" и характеристики. И напоминает: показания ребёнка – допустимая улика. Её надлежит взвесить, а не смести.
Он коснулся маленьких часов, перевернул их. В зале стало слышно, как течёт песок.
– Переходим к журналу пансиона и к писарю, – сказал Карсуэлл. – Там и посмотрим, где факты, а где – страх.
С галёрки снова донёсся голос.
Тишина.
Кто-то кашлянул. Кто-то обернулся к соседу. Но никто ничего не сказал.
Карсуэлл ударил молотком.
– Порядок в зале!
Но молоток глухо отозвался – словно дерево проглотило звук.
На галёрке послышался нервный смешок – молодой клерк прикрыл рот рукой, но было поздно, все уже услышали. Дамы зашуршали веерами, перекрестились. Старик в тёмном сюртуке пробормотал "Господи, сохрани…" и вжал голову в плечи.
Притчард побледнел, как мел, и стал лихорадочно листать свои записи, будто в них мог найти объяснение. Он услышал что другие не могли?
– Милорд… – начал он, но голос его дрогнул. – Я… я полагаю, это… сквозняк… или… случайность…
Клэй, напротив, усмехнулся тонкой линией губ.
– Сквозняк умеет разговаривать? Любопытно.
Карсуэлл ударил молотком. Громко. Так громко, что у него самого дрогнула кисть.
– Порядок в зале! – крикнул он, и голос его сорвался. – Суд ждёт отца Бреннана. Заседание будет продолжено лишь после его прибытия
Прогремел не тук. Прогремел УДАР. Глухой, раскатистый – будто выстрел, будто ломается кость. Древесина пульта, не знавшая такого насилия, жалобно хрустнула. По изящной рукояти молотка побежала тонкая, почти невидимая трещина.
Зал ахнул не столько от звука, сколько от кощунства: нарушен ритуал. Дамы схватились за грудь; присяжные дёрнулись, как по команде; даже невозмутимый Клэй чуть откинулся, будто от холодного порыва.
Молоток судьи Карсуэлла был не инструментом, а знак. Резной морёный дуб, отполированный руками поколений до бархатной гладкости. За десять лет на судейском кресле он поднимал его считанные разы – всегда с церемонной сдержанностью: лёгкий, отточенный тук, чтобы осадить слишком ретивого адвоката; ещё один – объявить перерыв. Звук у молотка был камерный, сухой, предназначенный не для подавления хаоса, а для его мирного укрощения. Это была не кувалда – печать, ставящая точку в споре умов.
Он лежал справа, на мягкой подушечке из тёмной кожи, – как музейный артефакт. Предмет для созерцания, а не для силы.
.– По-рядок… – повторил он, фальцет прозвучал жалко и неверно после грома собственного удара. – Суд ждёт отца Бреннана… Заседание – после его прибытия.
Он отнял руку. Молоток остался на пульте перекошенно, уже не символ – просто надщербленный кусок дерева. И все понимали: треснул не только морёный дуб. Треснул сам ритуал. Порядок не был восстановлен – он был надломлен этим единым, отчаянным ударом.
Приставы поднялись. Шум стих. Но все знали: порядок здесь – не более чем слово. И это слово уже не слушалось.
Карсуэлл откинулся в кресле, пальцы его сжали ручку молотка, как будто тот был последним якорем. В голове крутилась мысль: "Эта девочка говорит не правду? "
Высокая, худая фигура в чёрном возникла в дверях. Сюртук истёрт до пергамента на локтях; чётки – тёмные, натёртые, как камни у входа в часовню. Отец Бреннан перекрестился большим пальцем у груди. Четко и точно.
– Miserere… – выдох, не громче шороха.
– Предупреждёны об ответственности за ложь? – хрипло спросил Карсуэлл.
– Даю слово говорить правду, насколько позволено моим обетам. Что под печатью – не ваше. Всё остальное – ваше, – ответил священник. Ладонью, как будто сглаживая воздух перед собой, он сделал полшага вперёд.
Начал Притчард сначала спросил про Торна. – И, пожалуйста, святой отец Бреннан, без латыни и молитв. Первое мало кто знает, второе не поможет делу.
Святой отец Бреннан кивнул, отвечал ровно.
– В камере – молчал, молиться отказывался, один раз прошептал "она позволила", просил не гасить ночной свет.
Секретарь записывал.
– Он каялся? – спросил Притчард,
– Не видел раскаяния, – тихо сказал Бреннан. – Видел страх. Не перед приговором – перед ночью. Когда я говорил "не бойся", он отворачивался. Timor noctis – страх ночи.
Клэй поднялся медленно, с мягкой улыбкой:
– Милорд, мы ведь различаем впечатление и факт? Отец говорит о душах, а суд – о делах.
– Дела растут из душ, – не споря, ответил Бреннан. – Как плесень – из сырости.
Он перевёл взгляд к присяжным и, не повышая голоса, сказал уже как проповедь:
– Что такое зло? Для нас – согласие на пользование другим. Молчание, которое не защищает, а прикрывает. Порядок, который служит страху, а не миру. Грех любит порядок – там теплее.
Он перебрал чётки большим пальцем. – Древние ставили соль на пороги. Не для колдовства – для границы. Соль останавливает гниение; кругом отмечают: "дальше не входи". Когда дети боятся говорить, круг из соли – не магия, а знак для людей и для тьмы: "этот малый – под защитой". Fiat pax.
Газовые рожки на стенах на миг дрогнули синеватым пламенем, тени выросли и расползлись по панелям; ни одна не совпала с фигурой внизу. В галёрке перекрестились. Клэй вежливо вздохнул, ладонью как веером отстраняя "излишнюю драматичность":
– Всё это уместно в приходе, отец. Здесь – суд.
– Суд – не театр, – резко сказал Притчард. – И не лавка скептиков. Когда взрослый пользуется властью против ребёнка, мораль – не лишняя.
– Порядок, – сухо произнёс Карсуэлл. – Коротко: по девочке.
– Энн говорит формулами: "неправильно", "против воли", "молчала". Просишь описать страх – говорит о холоде, но без слёз. В её возрасте твёрдость берут у взрослых.
– И ещё, – добавил святой отец Бреннан, – Без границ всё, что внутри, выходит наружу.
– Вопросов больше нет, – сказал Карсуэлл, посмотрев на адвокатов. Голос его прозвучал сухо. – Тогда свидетель свободен. Секретарь, отметьте в протоколе.
Он сделал шаг от кафедры – и поскользнулся. У края помоста темнела тонкая лужица от проветривания, смешанная с копотью. Чётки звякнули о дерево; лист протокола соскользнул, кромка бумаги легла в мокрое. На поле слова "намерение" и "против воли" разъехались в стороны. Священник удержался, выпрямился сам. Люди отвели глаза. Кому-то стало неловко. Кому-то – страшно. Но никто не торопился помочь.
– Простите, – сказал Бреннан совсем тихо. – Старость.
Он посмотрел в зал долго и прямо – тем взглядом, от которого молчат.
– Сначала вслух, потом молчанием, – произнёс он напоследок, как ставят свечу. И отступил.
Глава 7.
Защита вызывает миссис Агату Торн в качестве свидетеля.
Судья Барон Карсуэлл кивает. Пристав Уикс выкрикивает:
– Миссис Агата Торн, хозяйка пансиона "Норт-Ист"!
Зал суда погрузился в тусклый, тяжёлый свет, который скользил по строгим деревя́нным панелям и отражался на лаковом столе судьи. Пристав Уикс выкрикнул её имя, и двери медленно распахнулись. Вошла Агата Торн.
Она шла неспешно, почти бесшумно. Тёмное платье с высоким воротником, накидка из чёрного шелка, спина прямо, взгляд прямой и бесстрастный. С каждым шагом казалось, что пространство вокруг сжимается, подчиняясь её присутствию. Муж в клетке, прокурор, присяжные – всё это было фоном, лишённым веса, пока она двигалась к скамье свидетеля.
– Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и ничего кроме правды, да поможет вам Бог? – прозвучал вопрос, и зал словно замер.
– Клянусь, – голос её был ровный, низкий, стальной, без малейшей дрожи.