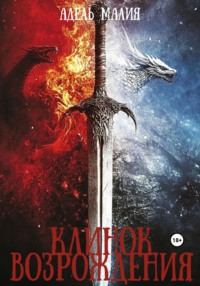Полная версия
Падение в твою Пустоту
…Благодаря Фестеру. Артуру Фестеру Эвансу. Само имя вспыхнуло в сознании, как факел, поджигая остатки самообладания. В горле встал ком. Когда-то Фестер был больше чем правая рука. Он был стратегом, мозгом, человеком, чей финансовый гений почти равнялся его амбициям. И его жадности. Пока Уилсон Тейлор, этот жирный паук, плетущий свои сети из долгов и шантажа, не сунул ему под нос более жирный кусок. Фестер не просто ушёл – он совершил акт преднамеренного предательства. Передал ключевые данные, схемы вывода активов, конфиденциальные расчёты по сделке века – той самой, над которой мы бились месяцами, вкладывая все ресурсы, – прямо в руки конкурентов Тейлора. Компания рухнула. В одночасье. Как карточный домик под ураганом. Акции – в ноль. Люди – сотни человек – на улице. Крупные инвесторы, его союзники, озверели от ярости и убытков. А я остался должен Тейлору астрономическую сумму – гарантии по сорванным контрактам, которые он лично подписывал, уверенный в успехе. Уверенный в Фестере.
Тогда я раздавил Фестера. Холодно. Расчётливо. Без тени сожаления. Нашёл все лазейки, использовал каждую грязную связь, каждую взятку, чтобы заморозить его счета по всему миру, отсудить роскошные апартаменты в Монако, яхту, коллекцию. Вышвырнуть из профессии с таким клеймом, что ни одна уважающая себя контора не подпустила бы его и на пушечный выстрел. Может, и не по-человечески. Но Фестер начал первым. Предал не только меня, но и всех, кто работал на нас, кто верил. И теперь эта месть… Эта изощрённая, подлая месть… Использовать её. Еву. Наивную, испуганную, загнанную в угол девчонку из Архива, с её огромными глазами и хрупкими пальцами реставратора. Внушить ей, что я – чудовище? Что я виновен в смерти дочери Фестера? Что Псалтырь был украден у самого Фестера? Какая гениальная, какая дьявольская ложь! И она… она поверила? Или просто увидела в этом шанс? Шанс сбежать от меня, от моего мира, прикрывшись благородным предлогом «спасения»?
Как я попал в её сети? Когда они опутали меня? Поверил в искренность её редкой, стеснительной улыбки, в свет, который, казалось, исходил от неё посреди вечного мрака. Поверил, что она другая. Не как все эти стервятники, кружащие вокруг моего состояния. А теперь? Не мог выбросить её образ из головы, хоть режь себя на части! Каждый изгиб губ, каждый лучик в глазах, каждый жест – всё было выжжено в памяти. И я ненавидел себя за эту слабость, за эту неистребимую потребность. Предчувствие бесконечных, бессонных ночей, наполненных только яростью, болью и её призраком, уже терзало меня, как предвестник неизлечимой болезни.
Её крик о любви был не мольбой. Он был последним, самым жестоким, самым изощрённым актом предательства. Она разрушила не просто планы или бизнес. Она разрушила последние остатки моей способности доверять. Себе. Своим инстинктам. Своему суждению. В её глазах, полных слёз и этой проклятой, оглушающей «любви», я видел теперь только тень Фестера, его ядовитую ухмылку. Видел торжество Тейлора, получившего долгожданный повод для расправы. Видел отчаяние людей, потерявших из-за его сегодняшнего падения работу, средства к существованию. Видел холодный блеск тюремных решёток и абсолютную пустоту полного краха.
Закружилась голова… от бессилия, от невыносимого давления, от осознания, что я сам вырыл эту яму. Я впустил её. Дал ключ.
Сладкий, призрачный запах её губ… – эти обрывки мыслей мелькнули, когда моя рука, действуя сама по себе, схватила хрустальный бокал, оставшийся с вечера на столе. Я не думал. Просто швырнул его что есть силы о каменную облицовку камина.
Звон разбитого хрусталя оглушил. Резкий, пронзительный, как крик самой души. Осколки, как осколки моих чувств, веры и будущего, разлетелись по полу, сверкая в тусклом свете настольной лампы. Я стоял, тяжело дыша, сжав кулаки, чувствуя, как по щеке скатывается что-то горячее и мокрое. Слеза? Пот? Слюна бешенства? Неважно. Я дал слабину. Дал ей слабину. Дважды. Впустил в свою жизнь. Впустил в свою душу. И позволил ей разнести всё вдребезги. Эта мысль жгла сильнее всего.
«Ну, зачем? Зачем тебе нужна была эта ложь?» – билось в такт бешеному сердцу, наполняясь горькой, беспросветной безнадёжностью.
Страх? Да, я видел страх в её глазах всегда. Но страх перед кем? Перед Тейлором? Передо мной? Или перед последствиями её собственного выбора? Манипуляции Фестера? Безусловно. Но разве она не могла… прийти ко мне? Сказать: «Джеймс, этот человек говорит… Мне страшно…»? Хотя бы намекнуть? Или… Или это была её собственная, запоздалая месть? Месть за то, что я втянул её в свой ад, оторвал от привычной жизни Архива, сделал мишенью, заложницей моей войн? Месть за мою властность, за безумную, всепоглощающую страсть, которая, возможно, душила её?
Я медленно опустился в кожаное кресло за столом, уткнув лицо в ладони. Запах её духов, едва уловимый, всё ещё цеплялся за кожу рук. Я содрогнулся. Тишина давила теперь с невероятной силой. Особняк, всегда бывший неприступной крепостью, местом силы, теперь казался огромной, пустой, зловещей гробницей. Без неё. Без её осторожных шагов по паркету ранним утром, когда она шла в мастерскую. Без тихого шороха страниц, когда она работала. Без этого неповторимого запаха – смеси старинной бумаги, клея и чего-то неуловимого, только её. Без её присутствия за завтраком, даже молчаливого.
Я не знаю, что будет завтра. С Тейлором, который уже рыскал, ища мое слабое место, и теперь получил в руки ядерную кнопку. Со счетами, которые, вероятно, уже замораживали регуляторы, натравленные скандальной статьёй. Со СМИ, которые учуят кровь и будут готовы разорвать мою репутацию на клочки. С Псалтырем, который из козыря превратился в нелегальный, опасный груз, доказательство связей с криминальным миром чёрного рынка. Мир, который я строил, рухнул в одночасье. Крах был неминуем. Банкротство. Судебные тяжбы. Возможно, тюрьма. Всё это было. Было реально. Было страшно.
Но сквозь ледяную волну гнева, сквозь острую боль разочарования, сквозь сковывающий страх перед будущим пробивалось одно осознание. Ясное. Невыносимо ясное. Оно было сильнее страха перед тюрьмой, сильнее ярости к Фестеру, сильнее даже инстинкта самосохранения.
Потерять Еву я не мог.
Это было не просто хуже краха или тюрьмы. Это было как потерять часть себя. Живую, дышащую, самую уязвимую и самую дорогую часть. Это была не пустота. И я стоял сейчас посреди руин своего мира, истекая кровью от этой невидимой раны, не имея ни малейшего понятия, как остановить это кровотечение. Как жить с этой дырой на месте сердца. Мысль о том, что её больше нет здесь, что я сам оттолкнул её в неизвестность, была невыносима. Я ненавидел её за предательство. Проклинал. Но мысль о жизни без неё… была адом, в который я только что сам себя втолкнул. И ключ выбросил. Что теперь? Я не знал. Только боль и невозможность дышать полной грудью.
Глава 31: Осколки Души
Мир за окном автомобиля Маркуса не просто размылся – он растворился, как мираж в пустыне. Цвета сползли в серую, безжизненную муть, звуки заглушил гул собственной крови в висках. Я не видела дорогу, не ощущала движения, не воспринимала дыхание города. Я была заточена внутри себя, в самом сердце урагана, который не просто разрывал на части, а методично, жестоко перемалывал в пыль, в мельчайшие, безжизненные частицы, лишенные воли, надежды, будущего. Слова Джеймса, его взгляд – не гневный, а опустошенный, его ледяная ярость, сменившаяся разочарованием – всё это было выжжено на моей сетчатке, отзываясь фантомной болью в груди. Боль была такой острой, сжимающей, что каждый вдох давался с хрипом, словно ребра вот-вот разойдутся, обнажая израненное, истекающее предательством сердце.
Маркус молчал. Его профиль в зеркале был непроницаем, как гранитная маска. Но тишина в салоне была громче любого крика. Я чувствовала его присутствие – тяжелое, давящее. Чувствовала его молчаливое осуждение, проникающее сквозь кожу, в самую сердцевину стыда. Или, может, это была жалость? Отвратительная, унизительная жалость? Мне было все равно. Я была мертва. Изнутри. Полностью, бесповоротно, окончательно. Тень, изгнанная из единственного места, где она обрела подобие жизни.
Дорога тянулась вечностью, мучительной, изощренной агонией. Каждый поворот, каждая остановка на светофоре лишь затягивали пытку, напоминая, что возврата нет. Я смотрела на свои руки, лежавшие на коленях, как чужие. На запястье руки – там, где вчера еще были нацарапаны цифры Фестера, символ моего падения, моего предательства. Теперь кожа была чиста, стерта до красноты еще в машине, но ощущение клейма осталось. Оно въелось глубже эпидермиса – в саму плоть души, оставив там незаживающую рану. Я сжала кулаки, ногти впились в ладони, пытаясь физической болью заглушить ад внутри. Бесполезно.
Наконец, скрежет шин о бортовик, рывок – машина остановилась. Я не сразу осознала, где мы. Сознание, затуманенное болью и слезами, работало через густую, вязкую пелену отчаяния, как сквозь вату. Дверь со стороны пассажира открылась. Маркус стоял снаружи, его фигура в темном костюме казалась монолитом в размытом мире.
– Ваша квартира, мисс Гарсия, – произнес он ровно, без интонации.
Моя квартира. Словосочетание прозвучало чуждо, насмешливо. Мое бывшее убежище, скорлупа, в которой я пряталась от мира, теперь превратилось в самую страшную камеру – тюрьму без решеток, где единственным и самым беспощадным надзирателем была моя собственная, неумолимая совесть. Я выкатилась из машины, не оглядываясь, не бросая взгляда на удаляющиеся огни автомобиля. Дверь захлопнулась за моей спиной с глухим, окончательным щелчком. И я осталась совершенно одна. Посреди бескрайней, оглушающей пустоты, которая звенела в ушах, давила на виски, высасывала воздух из легких. Тишина после бури – страшнее самой бури.
Ключ дрожал в моей руке так, что его металлический звон казался погребальным колокольчиком, отсчитывающим последние секунды моей прежней жизни. Несколько раз я промахнулась, царапая металлом пластик вокруг замочной скважины. Наконец, с трудом, с каким-то внутренним надрывом, замок щелкнул. Дверь открылась с тихим, затяжным скрипом, словно старый дом вздохнул, принимая обратно потерянную, но сломанную вещь.
Я вошла. Запах. Запах пыли, старой бумаги, немного затхлости – запах моей прошлой жизни, той, что я так пыталась забыть в последние недели, от которой бежала в золотую клетку особняка. Теперь он накрыл меня, как саван. Каждый знакомый предмет – потертый половичок, вешалка с единственным пальто, зеркало в прихожей – все это кричало о той Еве, которая еще верила, что может начать заново. Которая еще не знала глубины своего падения.
Я не выключила яркий, безжалостный свет в прихожей. Он резал глаза, обнажая каждую пылинку, парящую в воздухе, каждую трещинку на обоях, каждый след былой неидеальности, которая теперь казалась райской простотой. Я прошла в гостиную. Здесь время словно замерло. Книги – аккуратные ряды на полках, мой верный друг и побег. Мольберт с незаконченной акварелью – пейзаж, начатый в редкий момент покоя. Старое, потрепанное, но такое родное кресло-мешок, в котором я зарывалась с книгой, пытаясь заглушить старые кошмары. Теперь все это выглядело жалкой пародией, чужим, бессмысленным хламом. Эти вещи были немыми свидетелями моей прежней, маленькой жизни – той, которую я сама, своими руками, с таким идиотским усердием, разрушила, пытаясь схватить призрак чего-то большего, лучшего. И проиграла всё.
Ноги, будто помня дорогу лучше сознания, понесли меня на кухню. К аптечке. Успокоительные. Те самые, которые когда-то, в один из кошмарных тогда вечеров в особняке, дал мне Джеймс. Тогда я ещё не осознавала, что он был моим спасителем, моим якорем в бушующем море страха. Моей рукой, вытягивающей из бездны. Теперь… теперь он был моим палачом. И я сама вручила ему нож. Сама легла на плаху. По собственной воле.
Яростно дёрнула дверцу навесного шкафчика-аптечки. Пластик заскрипел, заупрямился. Словно само мироздание смеялось, запирая последнюю лазейку от боли. Я ударила по дверце кулаком. Раз. Боль в костяшках была острой, чистой, отвлекающей. Второй удар – сильнее. Третий. Деревяшка шкафчика треснула. С четвертым ударом дверца распахнулась с грохотом, и содержимое – коробки с пластырями, пузырьки с йодом и зеленкой, смятые упаковки таблеток от головы, старый термометр – вывалилось на линолеум с грохотом и звоном. Я упала на колени, лихорадочно роясь в этом хаосе, раскидывая коробки, опрокидывая пузырьки. Пальцы скользили по липким лужицам разлитого йода, по острым осколкам разбитого флакона.
– Где?! – крик прорвался, дикий, надрывный, полный животной безысходности и нарастающего безумия. – Где же они?!
Ничего. Ни одной знакомой упаковки. Ничего, что могло бы налить хоть глоток забвения в эту пылающую пустыню внутри.
Я вскочила. Глаза наткнулись на вазу. Ту самую, нежно-голубую, с тонким рисунком – подарок отца на мой последний, по-настоящему счастливый день рождения. Последний перед самоубийством отца. Символ утраченного рая. Я схватила ее. Холодный фарфор под пальцами. И швырнула изо всех сил в стену напротив.
Звон! Оглушительный, пронзительный, как вопль. Хрустальные осколки разлетелись веером, сверкая под безжалостным светом кухонной лампы тысячами крошечных радуг. Как разбитые надежды. Как осколки моей собственной, некогда цельной души. Красиво. И окончательно.
– Ненавижу! – завыла я, не узнавая собственный голос, хриплый, искаженный ненавистью, направленной внутрь. Я била кулаками по столу, опрокидывая стул. Смахнула со стола кружки, тарелки. – Ненавижу себя! ТВАРЬ! ПРЕДАТЕЛЬНИЦА!
Каждое слово сопровождалось ударом, опрокидыванием, разрушением. Книги полетели на пол, страницы раскрылись, как мертвые птицы. Статуэтка, подаренная Адамом из поездки, разбилась о батарею. Мой маленький, уютный мир превратился в зону боевых действий, в точное, жуткое отражение того ада, что бушевал у меня внутри. Я металась по комнате, задыхаясь, сбивая мебель, не видя ничего, кроме красной пелены ярости и бессилия. Загнанный зверь в клетке собственного изготовления.
И сквозь этот разрушительный вихрь пробивалось самое страшное – осознание потери. Я потеряла не просто мужчину. Я потеряла самого дорогого человека. Того, кто стал моей опорой, моим светом в кромешной тьме собственных страхов, моим… всем. Это было не расставание. Это было землетрясение, сровнявшее с землей целый континент моей души, который только начал формироваться рядом с ним. Кисточка за кисточкой, осторожно, преодолевая недоверие и старые раны, я начинала строить этот хрупкий мир доверия, принятия. Мир, где его сильные руки были не клеткой, а защитой. Где его сложный, колючий характер принимался мной как часть целого. Где я чувствовала себя не просто защищенной, а понятой. Принятой.
Раньше главной болью, моим вечным проклятием, была вина за родителей. Я хотела стать великим реставратором, как отец, чтобы искупить эту вину, доказать себе и призракам прошлого, что я чего-то стою. Что я не пустое место. Теперь эта боль показалась детской царапиной. Бледной тенью. Родители были в прошлом. Их смерть – страшная, несправедливая – была фактом. А Джеймс… Джеймс был здесь. Он был жив. Его тепло, его дыхание, его взгляд – все это существовало где-то рядом, за стенами этой разрушенной квартиры. Он был рядом. Помогал. Спасал. Пусть по-своему – властно, иногда жестоко, но искренне. Он… любил меня. Я знала это. Видела в тех редких мгновениях, когда броня спадала, и в его глазах читалась невыносимая уязвимость, потребность, та самая боль, что жила и во мне. И я… Что я сделала? Кто я после этого? Чудовище. Иуда. Тварь, растоптавшая единственный росток настоящего чувства на своей выжженной земле.
Все из-за этого вечного, въевшегося в кости страха. Страха ненужности. Брошенности. Использованности. Корни его уходили в детство, в ощущение себя лишней в собственной семье, потом – в отношения с Адамом, который методично добивал мою и так хрупкую самооценку. И Фестер… Фестер попал в самую точку. Его яд – ложь о Джеймсе, его угрозы Тейлора – упал на благодатную, удобренную годами неуверенности почву моих комплексов. И пророс чудовищным цветком предательства.
Я должна была поступить наоборот! Должна была верить ему! Его словам, его взгляду, его прикосновениям, которые говорили громче любых клятв! Ведь он был единственным, кто видел меня. Насквозь. Видел мои «тараканов», мои ночные кошмары, мою израненную, искалеченную душу – и не отвернулся. Не испугался. Не попытался «починить». Он принял. Да, он был болен. Травмирован. Опасен. Но его боль, его искаженное восприятие мира были зеркалом моей собственной боли. Мы были двумя осколками одного разбитого зеркала – острыми, несовершенными, но способными, казалось, сложиться в единую, пусть и треснувшую, картину. Два изгоя, нашедших друг друга в кромешной тьме.
А я? Я пыталась быть «нормальной». «Правильной». «Хорошей девочкой», которой я никогда не была и не могла быть. Пыталась втиснуться в ложе чужих ожиданий – общества, призраков прошлого, своих же иллюзий. Но Джеймс показал мне, что мне это не нужно. Что моя ценность – в моей инаковости, в моих демонах, в моей хрупкости и силе одновременно. Он не ломал. Он просто был рядом. Своим присутствием, своей сложной, часто невыносимой, но настоящей сущностью, он давал мне разрешение быть собой. И я… я взяла этот дар и разбила его о камень собственной трусости. Разрушила до основания. Превратила в прах.
Мой взгляд, блуждающий в хаосе комнаты, наткнулся на бутылку. Пыльную, полупустую. Дешевый виски, купленный в одну из особенно темных ночей до особняка. Я не притрагивалась к нему с тех пор, как его присутствие, его властная забота, его сложная, токсичная нежность стали моим наркотиком, моим спасением. Но сейчас… Сейчас это было единственное спасение. Единственный шанс хоть на минуту заглушить невыносимое, жгучее чувство вины, стыда и потери, которое пожирало меня изнутри, как кислота.
Я шагнула через осколки вазы, через разлитый йод, через смятые книги. Схватила бутылку. Горлышко было холодным и скользким. Открутила крышку. Резкий, терпкий запах спирта ударил в ноздри, обжигая слизистую, но этот запах был слаще запаха собственной погибели. Я приставила горлышко к губам. Сделала первый глоток. Огонь хлынул по горлу, разливаясь по пищеводу, но я почти не чувствовала его. Второй глоток – больше. Третий. Жидкое пламя заполняло желудок, поднималось к голове. Мир начал плыть, края предметов расплывались, звуки приглушались. Боль не ушла, но отступила, стала далекой, туманной, словно я наблюдала за ней со дна мутного колодца. Как за чужой трагедией.
Бутылка выскользнула из ослабевших пальцев, упала на пол между осколками фарфора с глухим, бессмысленным стуком. Остатки виски, как грязные слезы, растеклись по линолеуму. Я не обратила внимания. Сделав несколько шагов, я рухнула на диван, заваленный сброшенными подушками. Тело стало ватным, тяжелым, чужим. Слезы текли беззвучно, непрерывно, оставляя соленые дорожки на щеках, смешиваясь с пылью разрушения. Веки налились свинцом. Сознание, наконец, начало отключаться, уступая напору химического забвения. Образы всплывали и таяли в темноте: глаза Джеймса – то нежные, то ледяные; искаженное яростью лицо Тейлора в телефонной трубке; хищная ухмылка Фестера; осколки голубого фарфора… Все смешалось в один бесконечный, бессвязный, мучительный кошмар. Кошмар, из которого не было пробуждения.
Я уснула. В руинах своей квартиры. В руинах своей жизни. С разбитым на миллионы осколков сердцем и душой, растоптанной собственным предательством. Наедине с невыносимой болью и гулкой, окончательной пустотой. Покинутая даже надеждой на забвение.
Глава 32: Рассвет Осколков
Утро ворвалось не рассветной нежностью, а резким, пронзительным звонком, разорвавшим липкую паутину забытья. Телефон лежал где-то внизу, в хаосе осколков голубого фарфора, смятых страниц книг и невидимых обломков моей собственной, растерзанной души.
Голова раскалывалась, пульсируя в такт звонившему адскому прибору, каждый удар сердца отдавался молотом в висках. Тело ломило, будто его переехал грузовик – мускулы ныли от вчерашних судорог ярости, суставы скрипели, кожа горела под грубой тканью джинсов, в которых я рухнула на диван. Во рту стоял вкус пепла и медной монеты – смесь дешёвого виски, слёз и горечи осознания содеянного. Каждый нерв был оголён, натянут до предела, готовый лопнуть от малейшего прикосновения.
Звонок не умолкал. Настойчивый. Беспощадный. Как сверло, вгрызающееся в костяную броню черепа, добираясь до мягкого, беззащитного мозга. Я застонала, слабо махнув рукой в пустоту, пытаясь отогнать назойливый звук. Кто? Джеймс? Нет, он вычеркнул меня из своей вселенной железной рукой.
Наконец, сползши с дивана, я нащупала холодный пластик среди осколков. Экран светился слепяще белым в полумраке разрушенной комнаты. Незнакомый номер. Но… смутно знакомый. Где-то в глубинах памяти зашевелилось тревожное воспоминание. Дрожащим пальцем я смахнула ответ.
– Алло?
Тишина на другом конце длилась вечность. Потом – голос. Знакомый. До мурашек, до тошноты знакомый. От него похмелье сжалось в тугой, болезненный узел под ложечкой.
– Ева? Это Адам.
Адам. Имя прозвучало как выстрел в тишине пустой квартиры. Эхо отдалось в висках. Адам? После всего? После молчания? После того, как я исчезла в золотой клетке Диаса, оставив его с его язвительным «я же предупреждал»?
– Адам? – переспросила я, сжимая телефон, пытаясь понять, реальность это или особенно изощрённая часть продолжающегося кошмара.
– Это правда? – его голос был необычным. Ни насмешки, ни привычного сарказма. В нём звучала какая-то… напряжённость. Смесь недоверия и странной, чуждой ему тревоги. – То, что пишут? Ты видела?
– Что… что правда? – я села на корточки среди осколков, подтянув колени к груди. Мир закружился. Пол под ногами казался зыбким. – О чём ты?
– Ты видела утреннюю газету? – в его тоне прозвучало нетерпение, почти раздражение. – Или новости? Весь город говорит, чёрт возьми!
Газета. Новости. Слова упали, как камни, в болото моего сознания, поднимая муть ужаса. Началось.Последствия. Цунами, вызванное моим предательством, наконец накрыло берег. Сердце бешено заколотилось, сжимаясь в ледяном кулаке паники.
– Я… я перезвоню, – выдохнула я, сбрасывая вызов прежде, чем он успел что-то добавить. Телефон выпал из ослабевших пальцев, глухо стукнув о линолеум.
Я поднялась. Шатко. Мир плыл. Ноги были ватными, подкашивались, но какая-то слепая, животная сила, сильнее страха, сильнее похмелья, погнала меня вперёд. Газета. Новости. Что там? Что янатворила? Телевизор включать? Нет. Слишком громко. Слишком… окончательно. Мне нужно было увидеть это своими глазами. Почувствовать масштаб катастрофы на ощупь, на запах типографской краски.
Я натянула толстовку, пропахшую особняком Диаса и слезами. Не глядя на разруху, я выскочила из квартиры, даже не прикрыв дверь. Я летела вниз по лестничной клетке, спотыкаясь на ступенях, хватаясь за липкие перила, едва не падая головой вперёд. Сердце колотилось, а кровь гудела в ушах.
Улица встретила меня пощёчиной. Холодный, пронизывающий ветер ворвался под одежду, заставив сжаться. Серое, низкое небо давило. Воздух был наполнен гулким гулом утра – грохотом мусоровозов, сигналами машин, чужими голосами, сливавшимися в бессмысленный шум. Редкие прохожие бросали на меня косые взгляды: растрёпанная, с опухшим от слёз лицом, бегущая как одержимая. Мне было всё равно. До киоска – двести метров. Они показались бескрайней пустыней. Я бежала, задыхаясь, спотыкаясь о неровности тротуара, не видя ничего, кроме цели.
Вот он. Знакомый синий киоск. Я врезалась в его холодный металлический борт, хватая ртом ледяной воздух. Глаза, залитые слезами, лихорадочно метались по разложенным веером газетам. И… нашли. Первые полосы. Все. Как стая ворон, слетевшихся на падаль, заголовки клевали мой последний остаток надежды, крича на весь мир о крахе, который я устроила.
«ТЕЙЛОР В ШОКЕ! СЕНСАЦИОННАЯ УТЕЧКА: МИЛЛИАРДЫ НА ТЕНЕВЫХ СЧЕТАХ РАСКРЫТЫ!» – жирный шрифт бил в глаза.
«ФИНАНСОВАЯ ИМПЕРИЯ ДРОЖИТ: ТЕЙЛОРУ ГРОЗИТ АРЕСТ И ПОЛНЫЙ КРАХ!» – фотография Тейлора, его обычно надменное лицо искажено гримасой чистой, животной ярости и паники.
«ДИАС В ОГНЕ? СВЯЗИ С ТЕЙЛОРОМ ПОД ПРИЦЕЛОМ СЛЕДСТВИЯ. «СООБЩНИК ИЛИ ПЕШКА?»
И рядом – его лицо. Джеймс. Фотография была старой, но под ней, чёрным по белому: «Жертва схем или ключевое звено? Расследование в отношении Джеймса Диаса – вопрос времени?»
Жертва. Слово вонзилось в грудь, как нож. Моя жертва. Я не просто слила информацию. Я запустила маховик, который сокрушал не только Тейлора, но и его. Человека, который, вопреки всей своей тьме, жестокости, сложности, стал моей… чем? Опорой? Светом? Изнанкой моей собственной души? Он был ранен ещё до меня. Сломлен жизнью, врагами, собственной историей. И я, та, кого он впустил за свою броню, доверил свою уязвимость в редкие минуты, – я добила его. Вонзила нож в спину и провернула.