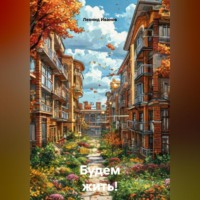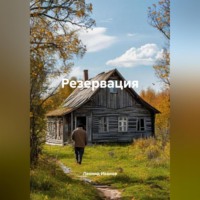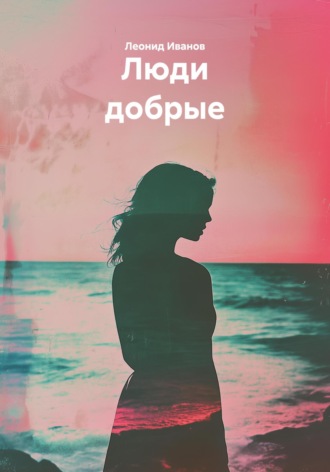
Полная версия
Люди добрые
– Если быть точным, не уехал, а увезён. И не по своей воле. Вы, должно быть, слышали про философский пароход?
– Да кто же об этом не знает?
– Не скажите, не скажите, Вадим Альбертович. Так ведь Вас, кажется, величают? Уверен, что здесь про этот пароход никто ни сном, ни духом. Сейчас я самоварчик поставлю, и мы с Вами продолжим беседу, а Вы пока располагайтесь. Полушубок можно вот сюда повесить.
Вадим повесил выданный ему Василием Дмитриевичем полушубок и начал осматриваться. Все стены деревенского дома, не отличающегося снаружи от других, были увешаны пейзажами. В основном на картинах был изображён летний полдень, и лишь на некоторых – ранняя весна, когда на деревьях только-только начинают расправляться листочки.
– Вы все эти акварели из Петрограда привезли?
– Наивный Вы человек, Вадим Альбертович! Уж простите за прямоту! Вы что думаете, я из Петрограда вот так прямо сюда и приехал по собственной воле, потому что мне деревенской тишины захотелось? Это я здесь сам написал.
– Простите, а в Доме культуры в райцентре, в библиотеке тоже Ваши работы?
– Не только мои. В районе ещё один самодеятельный художник проживает. Талант у человека от бога, вот только ему бы образованности побольше, но не получилось. Виделись мы с ним как-то, признался, что из-за пагубного пристрастия к алкоголю его из Репинского училища исключили. Тут, знаете ли, удивительно много талантливых людей! А я, прежде, чем здесь оказаться, ещё ведь много где побывал. Помотала судьба по России-матушке! Я Вам про философский пароход начал. В 22-м году Ленин распорядился выслать из страны более двухсот представителей русской интеллигенции, в основном гуманитарной профессии. Как писал Лейба Давидович Бронштейн, он же Лев Троцкий, мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Все эти люди без восторга приняли Октябрьскую революцию, это были учёные, литераторы, врачи, профессора, инженеры, юристы. Удивительно, что в этом списке не оказалось Вашего деда! Впрочем, очевидно, не успел высказаться против большевиков. Вот эти две сотни и выслали на пароходе, который потом назвали философским. Хотя, философов там и было всего ничего. Два рейса они из Петрограда в Штеттин сделали, а ещё многих сослали в отдалённые районы. Моего брата в Иркутскую губернию сослали, а меня – на Свирь. План ГОЭЛРО надо было выполнять, а я же инженер, там как раз две станции этим планом строить затеяли.
– Вы против большевиков выступали?
– Молодой человек! – запальчиво сказал граф. – Я простой инженер, ни против кого не выступал. Да и брат мой тоже ни в какие реакционные организации не входил. Мне тогда казалось, что просто новая власть, хоть и была она очень образованной по своему составу, людей образованных боялась. С одной стороны борьба с безграмотностью велась, а с другой образованных не очень жаловали. Вот брата вместе с другими такими же выслали, а меня убрали подальше, чтобы использовать, как это можно выразиться, с большей для молодой республики пользой. Думаю, роковое значение имела просто фамилия.
– Извините за любопытство! У меня всё в памяти вертится Ваше имя – Платон Николаевич Зубов. Ваш тёзка Платон Зубов ведь был последним фаворитом Екатерины Второй. Один из активных участников заговора Павла, вроде бы даже его убийцей. Они с младшим братом Николаем этот переворот осуществляли. Или я что-то путаю?
– Всё верно, Вадим Альбертович! Мои далёкие предки как раз и были теми самыми фаворитами. Платон же был одним из богатейших людей России в начале девятнадцатого века. Императрица своих фаворитов богато одаривала. И чем старше становилась, тем дороже любовь оплачивала. А Платон Александрович в последний период её жизни власть имел огромную. Все перед ним заискивали, боялись, может потому взошедший на престол Александр его и отстранил, хотя, по сути, Зубовы ему власть в руки дали, совершив гнусное убийство Павла прямо в его опочивальне. Верно, побоялся, что и его так же могут однажды. Отстранил от двора, но имущество сохранил, не тронул. Как гласит семейное предание, к пятидесяти годам Платон Александрович выглядел глубоким стариком, тем не менее женился на девятнадцатилетней красавице. Хотя злые языки утверждали, что он её купил за миллион рублей. Но прожил с молодой женой всего два года. Вскоре после смерти Платона родилась его дочь. Мои же предки были по линии одного из его внебрачных детей, они носили его фамилию и жили не бедствуя, ибо каждому из своих рождённых на стороне отпрысков любвеобильный папаша отписывал по миллиону. Но деньги деньгами, а титул в этих случаях не передавался, так что напрасно Вы, Вадим Альбертович, меня сиятельством да благородием величаете. Не по чину! Да и по жизни обращались ко мне всё больше гражданин Зубов. До товарищей я ведь так и не дослужился. Можно сказать, всю жизнь вне закона.
– Платон Николаевич, Вы сказали, что Вас отправили на строительство электростанций. Но ведь здесь, в районе, вроде бы нет станций?
– Здесь нет, сюда меня уже много позднее определили. Сначала был Свирьстрой. Я на Путиловском заводе работал, знаете такой?
– Обижаете, Платон Николаевич! Теперь это Кировский завод, до убийства Кирова был «Красным путиловцем». Я после первого курса как раз там в многотиражке первую практику проходил.
– Вот на Путиловском заводе я и работал. При должности был. В те времена ведь инженеров по пальцам сосчитать можно было. А когда брата из Петрограда выслали, за мной тоже пригляд особый был определён. И не только из-за брата, а из-за происхождения. Коли кто-то из предков в графах ходил, значит и потомки по определению должны быть врагами пролетарского государства.
– Как за врагом народа пригляд?
– Ну, тогда ещё врагами народа не называли. Этот термин много позднее придумали. На Путиловском хоть и начали тогда трактора делать, но ведь этот завод издавна имел военное назначение, артиллерийские орудия изготавливал, броневики, бронепоезда оснащал. А допустимо ли иметь на оборонном заводе неблагонадёжных элементов? Пусть и под присмотром. Вот меня и определили на Свирь станцию строить. Их там две было запланировано. Собственно, те проекты ещё до революции разрабатывались, да всё время что-то мешало: то империалистическая, то революции. А проект был придуман замечательный – построить плотины на реке с её быстрым течением, где полно порогов, и таким образом решить сразу две задачи: наладить нормальное судоходство и получать электроэнергию для Петрограда. Вот меня к этому проекту, про который многие знали, и пристроили. Дело было очень серьёзное, проект контролировал Совнарком. Сам Киров осматривал место будущей стройки.
Эх, скажу я Вам, такого энтузиазма я нигде больше не видел. Там очень сложные условия были. Приехал американский консультант, который больше полусотни гидростанций построил, и засомневался. Мол, может быть вам тут и удастся что-то построить, только вы сами все к тому времени седыми стариками станете. Назвал проект технической авантюрой, равносильной технической катастрофе. А ведь построили, по сути, вручную плотину возвели. Там до 15 тысяч человек работали, в том числе из Финляндии. Были и заключённые. Вот, наверное, тогда и пришла в головы руководства страны идея использовать на крупнейших объектах бесплатный труд заключённых.
В их числе оказался и я, якобы за какое-то умышленное вредительство. А со Свири попал я на Беломорканал. Собственно, ни в Свирьстрое, ни на Беломорканале лопатой я не работал, грамотные инженеры были нужнее землекопов. Я был подключён к проекту, который, опять же должен заметить, ещё Петром Первым затевался. Потом в разные годы четыре варианта предлагалось, даже граф Бенкендорф свой план предлагал в 1800 году, но все они царским правительством отвергались из-за дороговизны. А при Советах, когда на строительстве станций на Свири одному из руководителей ОГПУ по фамилии Френкель пришла идея использовать бесплатный труд заключённых, затраты могли быть сведены к минимуму. Вот тогда проект и подняли. И ведь сделали то, что двести лет своего срока ждало.
Мне там на всю жизнь один плакат запомнился. На нём красным цветом силуэты двух работающих. Один из них – сварщик в брезентовом фартуке с кусками арматуры в руках, второй лопатой роет землю. И текст: «Каналоармеец! От жаркой работы растает твой срок». Этот плакат напоминал, что два дня ударной работы засчитываются за три дня отсидки. Таким образом, стимулировали не отлынивать.
– Не обманули?
– Нет, обмана не было. Действительно, в июне по каналу прошёл пароход «Чекист», вскоре по всему маршруту лично проехал сам Сталин, в августе около двенадцати тысяч заключённых получили амнистию, а ещё шестидесяти тысячам сократили сроки.
– Вы так хорошо всё помните…
– Эх, молодой человек! Так ведь я же это не из газет узнал, это через мою жизнь прошло.
– По «голосу Америки» слышал отрывки из романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Там, правда, десятки тысяч заключённых умирали от голода и холода?
– Я голоса не слушаю, поэтому не могу знать, что там зачитывают. Люди, конечно, погибали. Где-то по два процента в год, но ведь и на воле естественная убыль примерно такая же. И дети мрут, и особенно старики. Одни от болезней, другие от старости, только почему-то говорят всё про смертность в лагерях. А там действительно в последний год строительства смертность выросла сильно, из-за авральных работ, из-за повсеместного голода в стране, ибо на канале по той же причине паёк был урезан. Вот тогда смертность подскочила до десяти процентов. Но, смею Вам заметить, за смертность в лагере начальство строго наказывали, ведь план надо было выполнять. Правда, по окончании работ и жаловали. Канал построили меньше, чем за два года, так что высших руководителей даже орденами наградили. Из наших, из инженеров, что срок отбывали, тоже многих амнистировали и даже, Вы не поверите, двоих орденом Ленина наградили. Вержбицкого и Жука. Это было невообразимо, чтобы заключённых и вдруг – орденом. Невообразимо, но факт.
– Вы их лично знали?
– А как же? В одной команде работали.
. – А Вы что?
– А что я? Мне срок хоть и сократили, но не амнистировали. Меня отправили на строительство байкало-амурской магистрали, где тоже была нехватка опытных инженеров-строителей.
– Платон Николаевич, извините, но БАМ только в прошлом году стал Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
– Это комсомольской он стал в прошлом году, а сначала тоже был зековской. Это название ещё на Беломорканале появилось, означало заключённый каналостроитель. Сокращённо во всех отчётах писали ЗК. Так и пошло – зэка да зэка. Так вот эти самые зэка и начали БАМ строить ещё задолго до войны. А проекты тоже ещё с прошлого века существовали. Причём, не только БАМа, но железной дороги вдоль Северного ледовитого океана. И проекты были, и даже акционерное общество создавалось. Но опять же специалисты пришли к выводу, что хоть БАМ и нужен, денег на такое сложное сооружение в непроходимой тайге нет, как нет техники и людей. А вот северную дорогу строить хотели. Но первая мировая помешала, потом – революции. А сами проекты хранились опять же до поры до времени. По завершении Беломорканала был создан Бамлаг, и повезли туда заключённых. А наша группа ещё до того была передана особому управлению ОГПУ для координации проекта с учётом проводимой аэрофотосъёмки в районах, где обычным способом сделать изыскания было практически невозможно.
– Интересные Вы вещи рассказываете.
– А Вы, Вадим Альбертович, запоминайте, в жизни, может быть, и пригодится. Не уверен, что архивы откроют, а если и случится, то не скоро. А я, уж коли разговорился с Вами, откроюсь. Впрочем, самовар у меня давно уж и погас. Давайте-ка я его заново растоплю, да и продолжим беседу. Мне ведь все эти годы и рассказать это было некому. Здешним не интересно, а приезжал как-то журналист из Вологды, так он всё расспрашивал, каково графу в деревне жилось. Всё пытался меня на одну параллель с Толстым вывести, мол, тот граф в народ пошёл, и я, выходит, по его стопам решил. А невдомёк писаке, что Толстой может с жиру бесился, наскучил ему высший свет, решил с простыми мужиками пообщаться. Меня же за ворот из привычной среды вырвали да в лагеря бросили. А там всяко бывало. И после Бамлага я ещё уже вольнонаёмным согласился остаться. Всё одно, думаю, куда мне податься?
– Но в Ленинграде же наверняка жена ждала, дети?
– Да не сподобил господь семьёй обзавестись. Молодой был, всё откладывал, а потом – лагеря. Какая там женитьба? Я ведь почему в Петребург не вернулся? Слышал, что в нашем доме конторы разные разместились, а в доходном доме, или, как теперь говорят, в общежитии, мне бы не выжить было. Насмотрелся я на таких, кто в этих общежитиях жил, а потом к нам попадал. Пьянь сплошная. Ведь социальная среда личность формирует. Среди обшарпанных стен да колченогих табуреток, среди бытовой неустроенности деградация человека быстро идёт. К тому же в Петербурге каждый дом про былое напоминать стал бы, сердце рвать. А в лагере уже всё привычно, да и при моей должности жизнь у меня была не такая, как у простых зэка. Я потом уже начальником проектного отдела был, и жильё отдельное, хоть и на зоне, и кормёжка другая. Вообще, надо признать, заключённые в бытовом плане жили лучше вольнонаёмных. Тем самим всё надо было организовывать, а заключённого накормят, напоят, в баню сводят, одёжу справят. И за качеством кормёжки контроль строгий был – ибо с начальника лагеря за план строго спрашивали. Поэтому ему нужны были здоровые и накормленные работники.
– Вы так говорите, будто там не зона была, а санаторий.
– Эк Вы, молодой человек, хватили. Конечно, зона есть зона. Но у вольноопределяющихся жизнь была, я Вам честно скажу, куда хуже. Это я потом на своей шкуре испытал в полной мере. Знаете ли, привык, что от тебя работу требуют, а всё остальное тебя не касается, все бытовые проблемы за тебя кто-то решает. Лучше ли хуже ли, но решает. А тут всё самому приходится. От продуктов до одежды и крыши над головой.
– Да, но вольнонаёмному, имея хотя бы комнату в общежитии, можно жениться, всё равно вдвоём жить легче и проще.
– Жениться, говорите? А на ком, простите?
– А там в посёлках, в городах, разве гражданского населения не было?
– На БАМе ведь и посёлков по сути не было. По глухой тайге дорогу вели. Из кого там невесту выбирать? Так бобылём жизнь и прожил.
– А как же Вы здесь оказались?
– А поехал я всё же в Петербург. И пока ехал, война началась. Меня в Вологде при проверке документов с поезда сняли для уточнения личности. Документы у меня, сами понимаете, много вопросов вызывать могли. Срок отбывал по 58-й, значит, неблагонадёжный, не с диверсионными ли целями в Ленинград пробираюсь. Туда же немцы изо всех сил рвутся. Оставили в Вологде, на работу устроился – жить ведь как-то надо. Только заводы все на оборонные заказы переходят, политическому там быть не желательно, помыкался, помыкался, а когда ответ на запрос из Сибири пришёл, что документы в порядке, уже блокада началась. Обратно ехать никакой возможности – все пути забиты, заводы на восток эвакуируют. Вот и присоветовал мне майор от греха подальше ехать в деревню. У него родители из этих мест были, так я здесь и оказался.
– И что Вы тут с Вашим богатейшим инженерным опытом делали?
– А на что здесь мой инженерный опыт? То и делал, что все делают. Лес валил, летом его по реке сплавлял, на пилораме трудился. Были бы руки, а работа найдётся. Это я теперь уже ни на что не гож.
– Видел я, как Вы дрова колете! – с восхищением сказал Вадим. – Сила ещё та!
– Сила, конечно, ещё есть, но сердчишко уже подводит. Это я так, чтобы слабину организму не давать, бодрюсь. Но по многу уже работать не могу. Вот картинками больше забавляюсь. Эх, опять мы с Вами про самовар забыли! Так ведь не солоно хлебавши и уйдёте.
– Да спасибо, я за Вашими рассказами про еду даже не вспомнил. Вы же удивительный человек!
– Вот я Вам сейчас одного здешнего назову, вот действительно человек удивительный! А я что? Я вчерашний день, я своё отжил.
– Не скажите! – запротестовал Вадим. – И уважают Вас здесь. Иначе, как графом и не называют.
– Это ведь графом можно и в насмешку.
– Нет, именно с уважением называют. Наш граф, говорят.
– Полно Вам, Вадим Альбертович, славословить! Мне это уже ни к чему. Давайте лучше пообедаем. Не обессудьте, но повар из меня так и не получился. Просто складываю продукты в чугунок, ставлю в печь, вот и вся кулинария.
Жаркое из русской печи оказалось удивительно вкусным. Вадим несколько раз похвалил кулинарные способности хозяина, но тот в ответ лишь благодарно кивал головой. Ели молча. Потом так же молча пили чай. В заварник хозяин добавил смородинного листа и мяты. Получилось очень ароматно.
– Когда домой намерены? – спросил граф, убирая со стола посуду.
– Ещё две недели практики осталось, потом и поеду.
– Изменился, наверное, Петербург.
– Изменился, конечно. Особенно окраины. А Вы когда в последний раз там были?
– А я, дорогой мой Вадим Альбертович, с молодости и не бывал больше. Боюсь воспоминаний! Это ведь, наверное, как с первой любовью через полвека встретиться. Помнишь её молодой, красивой, а видишь перед собой сгорбленную старушку.
– Нет, Ленинград на сгорбленную старушку не похож. Там многое в войну было разрушено, но восстановлено. Даже дворцы в пригородах и то восстанавливаются. Правда, очень медленно. Приезжайте летом. У нас остановитесь, я Вам экскурсии устраивать буду. Хотя, я думаю, Вы и так всё хорошо помните.
– А ведь и вправду помню. Ну-ка подождите, я Вам сейчас что-то покажу.
Хозяин вышел в другую комнату, и через несколько минут вернулся с кипой листов бумаги в руках.
– Вот, гляньте, узнаете ли хоть что-либо.
Он начал выкладывать на стол акварели с видами Ленинграда, Пушкино, Павловска, Стрельни, Екатерининского дворца.
– А вот это узнаёте? Или уже нет собора? Порушили вместе с другими?
– Так это же Андреевский собор! Конечно, узнаю. Стоит красавец, стоит, отреставрирован, сверкает шпилями.
– Правильно, собор святого апостола Андрея Первозванного. В нём меня крестили, а жили мы на соседней, восьмой линии, в доходном доме Долгополова.
– Шесть этажей. Старинный лифт, какие ещё сохранились во многих домах Васильевского острова. Вы не поверите, но я даже бывал в этом доме. В нём у своего брата два года гостил Осип Мандельштам. И именно в этом доме он написал: « Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
до прожилок, до детских припухших желёз.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! Я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных».
– Очень трогательное стихотворение! – сказал граф, и, отвернувшись к окну, вытер набежавшие слёзы. – А знаете, я, пожалуй, и вправду летом приеду. Разбередили Вы мне воспоминания. Всенепременно приеду и обязательно воспользуюсь Вашим гостеприимством. Я не стану Вам докучать, так, на пару дней, пройтись по Васильевскому, по Невскому, навестить на Волковском кладбище могилы маменьки и папеньки.
Это маменьки и папеньки из уст пожилого человека прозвучало очень трогательно. И Вадим поспешил подтвердить:
– Вы обязательно приезжайте, вот наш адрес. – Вадим достал блокнот и записал ленинградский адрес. – Папа будет очень рад познакомиться с человеком, который слушал лекции нашего деда. Обязательно приезжайте.
– А позвольте, молодой человек, я Вам на память эту акварель подарю.
Платон Николаевич взял со стола и протянул Вадиму рисунок Андреевского собора.
– Нет, нет, что Вы! Запротестовал Вадим. – Я не могу взять такую дорогую для Вас работу! Это же такая для Вас память, поскольку Вас именно в этом соборе крестили. Нет и ещё раз нет!
– Тогда возьмите вот этот пейзаж.
Платон Николаевич снял со стены вставленную в рамку за стеклом акварель с видом цветущей яблони на краю лесного озера и протянул гостю.
– Спасибо огромное, Платон Николаевич! Это очень дорогой для меня подарок. Честное слово! А скажите, почему Вы рисуете только весну и лето?
– Знаете ли, я не люблю зиму. Именно зиму пережить в лагерях было труднее всего. Отсюда и нелюбовь моя к этому времен года. А осень? Осень, знаете ли, пора увядания… А так ещё не хочется, чтобы всё кончалось. Душа хочет возврата молодости, сопротивляется времени, потому и рисую весну, и люблю весну. Берите на память. Я буду рад, что доставил Вам удовольствие. Заметил, что именно на эту работу Вы то и дело засматривались.
* * *
Через три дня Вадим узнал, что Платон Николаевич никогда не сможет приехать в Ленинград. Его сердце остановилось через несколько часов после их встречи.
ПОТЕНЦИАЛ
Вадим толкнулся в кабинет директора, дверь оказалась на замке. Ильича тоже на месте не оказалось. Женщина в бухгалтерии объяснила:
– Ильич в столовую пошёл по поводу ужина распорядиться и на нижнем складе проконтролировать, чтобы всё было нормально, если вдруг начальство туда захочет съездить. Так что его Вам точно не разыскать. А Иван Васильевич, кажется, домой отправился. Сказал, что сегодня здесь больше не появится. Вам лучше прямо к нему домой сходить. Это совсем рядом. Вот сейчас по улице налево, третий двухквартирный дом. Крыльцо с этой стороны. Там дверь такая ярко синяя, не перепутаете.
Поблагодарив женщину, Вадим без труда нашёл нужный дом, постучался в окрашенную яркой синей краской дощатую дверь. Никто не откликнулся, Вадим потянул ручку на себя, дверь оказалась не запертой, и он вошёл в тесный коридорчик, из которого влево уходил узенький коридорчик. Вадим снова постучался теперь уже в обитую дерматином дверь. Стук получился глухим и вряд ли слышным внутри. Он постучался в ободверину, и услышал: «Входите! Не заперто».
В прихожей Вадима встретила высокая, с очень добрыми глазами дама, одетая в платье с кружевами на вороте и рукавах.
– Прямо, как учительница, – почему-то пришло на ум сравнение со своими школьными учителями, всегда одетыми в строгие костюмы или похожие на это платья.
– Здравствуйте! – поздоровался Вадим. Иван Васильевич здесь живёт? Мне в конторе сказали, что он вроде бы должен быть дома.
– Здесь, здесь, проходите, молодой человек, снимайте полушубок и проходите в комнату. Иван Васильевич сейчас освободится. И прошу меня извинить, я тут обедом занята. Иван Васильевич сказал, гости будут. Вы, наверняка, один из них. Простите, что ещё не готово! Да Вы проходите в комнату, не стесняйтесь. Будьте, как дома. Там пока журналы можете посмотреть, газеты свежие только что принесли.
Вадим прошёл в гостиную, сел на диван, взял с журнального столика свежий номер районки, которую ещё не видел, потому что утром не заходил в редакцию. Из-за одной из дверей доносилась негромкая музыка и скрип, похожий на тот, что раздаётся от раскачиваемой телами кровати. И вдруг Вадим услышал доносившийся оттуда же женский стон. Это явно был стон наслаждения. Причём, наслаждения, получаемого только в постели. На первом курсе у него одно время была подруга, которая во время занятий любовью стонала точно так же. Сладко и протяжно, и острыми ноготками впивалась ему в спину.
Минут через пять оттуда вышел Иван Васильевич, на ходу заправляя в брюки рубашку.
– А-а, ты уже тут? Анатолий Степанович ещё не приехал?
– Пока не было.
– Ну, как? Был на лесоповале, как ты говоришь?
– Да, спасибо! Денис Ильич свозил, всё показал, для репортажа много снимков сделал, с передовиками вашими пообщался.
– Передовиков у нас хватает. Распопова видел?
– Да, и фотографировал даже.
– Неужели от работы оторвался? Обычно его от пилы не оторвать. Иногда кажется, что он и в постель ложится не с женой, а со своей «Дружбой». Вот ты гляди, на вид сморчок сморчком, а жилистый. Он ведь меньше двух норм не делает. Мы с ног сбились, пока ему бригаду сформировали. Этот лодырь, тот лентяй, тот неваровый, у четвёртого руки не из того места растут. Зато теперь там все, как на подбор, оттого и результаты. Лучшая в области бригада.
В это время из комнаты, пытаясь не обращать на себя внимания, проскользнула в гостиную и сразу же направилась к выходу молодая миловидная женщина. Встретившись с взглядом гостя, улыбнулась ему и кокетливо бросила:
– Здрра-асссьте!
– Здравствуйте! – запоздало поздоровался Вадим.
Хозяин, не обращая внимания на проскользнувшую мимо женщину, продолжал с нескрываемой гордостью рассказывать про бригаду, которой явно гордился, как гордятся собственными одарёнными детьми. А из кухни-прихожей послышалось: