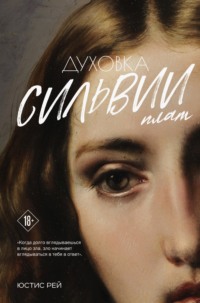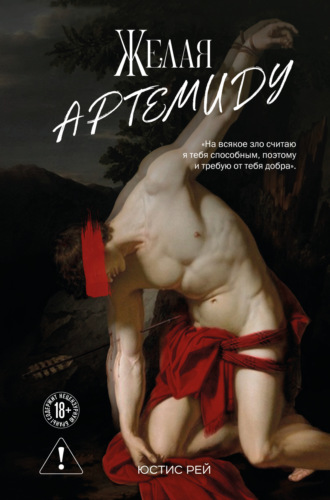
Полная версия
Желая Артемиду
– Идут.
Он отшатнулся, точно задетая шаром кегля. Перед глазами все залило сизым маревом, и через биение крови в ушах услышал стук каблуков. Опьяненный поцелуем, отвернулся, оперся руками на столешницу и закрыл глаза, запечатлевая в памяти таявший на губах привкус зимнего леса.
– Вот вы где, – сказала Агнес, даже по голосу чувствовалось, что она удивлена. – Детектив Стайн хочет осмотреть комнату Фредерика, но я нигде не могу найти ключ.
– Он у меня, – ответила Грейс. Майкл обернулся. Румянец на щеках, блеск в глазах, зацелованные губы, растрепанные волосы, растерянность, беспомощность – ничего. Выжженная пустыня. Ее манера держаться, как и прежде, ничем не выдавала ее мыслей и чувств. Майкл отвернулся.
– Пойдемте.
Мерный стук каблуков Агнес удалялся и вовсе затих в глубине дома, остался лишь испытующий взгляд Генри Стайна.
– Не знаю, что вы думаете, но все не так, как вы думаете, – прохрипел Майкл.
– Мужчину определяют поступки. Слыхал о таком?
Майкл промолчал.
– Даже если отец не научил тебя этому, рано или поздно жизнь заставит отвечать за свои.
– Вы меня арестовываете?
– Есть за что?
– Я не виноват.
– Конечно, тюрьмы переполнены невиновными. Мне понадобится твое сотрудничество, если не хочешь стать одним из них.
Грейс
Майкл помнил. Помнил, как увидел Грейс впервые, точнее, как впервые увидел в ней нечто большее, чем сестру Фреда.
Он ждал его на веранде во время перерыва. Близились летние каникулы – весна перетекала в лето. Синева неба резала глаза, облака горели изнутри, подсвеченные молочным сиянием. Воздух напоило теплой свежестью, ветерок шелково льнул к лицу – пейзаж с картины Моне: небрежные мазки, пастельные тона, захват света, импрессионистская манера создания впечатления от изображаемого объекта.
Майкл открыл альбом, чтобы сделать набросок. В неумолимо ярком свете весеннего дня казалось, что за спиной Грейс – она сидела в полном одиночестве посреди зеленого луга, раскинувшегося за Тронным залом Артура, – распускались крылья.
Облаченная в строгую школьную форму: белую рубашку, серую юбку и темно-бордовый пиджак, на котором красовалась эмблема Лидс-холла – огромный раскидистый дуб и девиз школы «Cotidie robustiores fiamus» [28], – Грейс выглядела как никогда спокойной. Тонкая и изящная, но резкая и сильная (Майкл почти ощущал эту силу, как некий шар, сферу, что навеки окружила ее). Гольфы натянуты до странного высоко, несмотря на прописанную в уставе длину: до колен. Однако выше не короче, так что никто ей ничего не скажет, да и в этом был свой шарм – все остальные девочки стремились открыть как можно больше кожи, хотя бы на дюйм, Грейс же, напротив, спрятаться от мира в раковину, как красивая и очень редкая жемчужина. У нее, подобно облакам, был молочный цвет с оттенком василькового.
Грейс сдувала пушинки с одуванчиков и завороженно наблюдала, как разлетаются семена. Она сама походила на одуванчик: ее длинные темно-каштановые волосы казались рыжими, трепетали на ветру, и даже он смотрелся на ней как украшение. Красота в умиротворении. Майкл так и застыл, оцепенел с карандашом в руке, повисшей над бумагой, – он не вернулся к рисунку. Вокруг все померкло, ушло под воду. Ничего, кроме Грейс Лидс. И оттого тот день, который, как и многие другие, грозил пройти незамеченным, растворившись во времени, навечно впечатался в память.
Фред появился из-за спины и сел рядом, неотразимый даже в дурацком канотье (солома, точно золотой песок, по периметру лента цвета венозной крови) – Майкл до сих пор на дух их не переносил, постоянно забывал и получал нагоняй за нарушение устава. Копошение, дергание, возня. Альбом захлопнулся – ветерок обдал пылающие щеки. Но внимательные глаза Фредерика успели уловить набросок и судорожную неловкость друга. Вместе они смотрели на Грейс, думая о своем. На миг Майкл почувствовал какое-то гадкое, беспокойное напряжение, тревогу, повисшую между ними острым копьем.
– Даже не думай об этом, Парсонс. Она моя сестра, и она сумасшедшая.
Майкл не раз слышал об этом, но в глубине души понимал: слово «сумасшедшая» не совсем ей подходило, ему больше нравилось «не от мира сего». Ее мягкость, изящность и тонкость вкупе с опасностью, непохожестью на других, чудаковатостью и даже дикостью вынуждали его желать ее еще сильнее, отчего он окончательно убедился, что он такой же, если не хуже: потерял голову, хотя любой другой уносил бы ноги сверкая пятками.
– Не понимаю, о чем ты. – Голос выдал волнение, и он мысленно отругал себя: не за то, что солгал, а за то, что сделал это так неумело.
– Я любил, был любим, мы любили вдвоем, / Только этим мы жить и могли. / И, любовью дыша, были оба детьми / В королевстве приморской земли.
Майкл заглянул в светлые глаза Фреда, проваливаясь в пучину которых порой забывал, где находится, – именно они позволяли Лидсу успешно играть в Игру – только так, с заглавной буквы, – у которой не было названия, но в которую Майкл соглашался играть. Игра – понятие очень размытое, про себя Майкл называл ее «Правда или действие»: нужно придумать вопрос и озвучить, если соперник не знает на него ответа, то выполняет любое желание выигравшего. Фреду в ней, впрочем, как и во всем остальном, не было равных – Майкл отчаялся придумывать вопросы. С помощью Игры Фред присваивал себе мечты и фантазии Майкла и, умело сплетая их с реальностью, создавал мир где-то на грани тьмы и света, в котором Майкл безоговорочно служил ему.
Сейчас вопрос заключался в том, кому принадлежали строки.
– Блейк?
Фред качнул головой. Майкл пораженчески вздохнул – он не знал ответа, но никогда не сдавался без провальной попытки.
– Эдгар Аллан По. Стихотворение называется «Аннабель Ли», он написал его в честь своей жены, скончавшейся от туберкулеза в двадцать четыре года.
– Он даже не британец! – возмутился Майкл, сказав это с самым что ни на есть британским акцентом. Порой он срывался на английское произношение, с каким говорили ученики Лидс-холла, но одергивал себя, снова возвращаясь к некогда родному, но по большей части получалась некая странная смесь. Ему нигде не было места: ни среди англичан, ни среди американцев. Застрял где-то посередине, дрейфовал в океане, не в силах прибиться ни к одному из берегов.
– Вот именно. Тебе стоит оценить мою поблажку.
Глаза Фреда переместились ниже, на альбом, и Майкл нехотя передал его другу. Фред тут же открыл его на нужной странице, словно положил туда закладку, взгляд прошелся по карандашному наброску, точно рука – медленно и основательно. После он перевернул еще несколько листов и изучил другие рисунки.
– Бессмертное пламя гениальности пылает в груди этого англичанина [29].
Американца, мысленно прошипел Майкл, впрочем, он так и не понял, шутил Фред или нет. Неловко-то как – он уже давно не показывал свои работы вне класса мистера Хайда – и поэтому отвел взгляд, вспомнив, как увидел Грейс впервые. Ее острый, воинственный, но при этом притягательный образ привел его в онемение, в животе все обмякло, ведь он не представлял, что лицо Фреда может с такими незначительными изменениями так гармонично превратиться в девичье. Ему понадобился не один месяц мимолетных взглядов украдкой, чтобы найти между ними различия, и ему это удалось: молочно-белая кожа как у брата, но щеки Фреда не были усеяны бледными веснушками, его скулы выступали сильнее, волосы отливали серебром, в то время как у Грейс – рыжиной. Но смерть матери, несметное богатство и чуть ли не телепатическая связь друг с другом придавали обоим близнецам в равной степени таинственной притягательности.
– Она задушила собаку, когда нам было девять, – сказал Фред, вернув альбом, словно вознаграждая его этим фактом.
Майкл слышал немало пугающих историй о Грейс, но его они не трогали. Ее вечное одиночество и молчаливость подсказывали ему, что она либо по природе очень замкнута, либо пережила какое-то страшное потрясение. Мысль о ее полном сумасшествии, в котором его упорно убеждали, никак не умещалась в голове и не вязалась с обликом Грейс.
– Почему? – Что бы Фред о ней ни рассказывал, Майкл никогда не просил подробностей, но в тот день изменил этой привычке.
– Что – почему?
– Почему она ее убила?
Фред поднял взгляд к небу – глаза вобрали в себя его цвет.
– Если хочешь, можешь спросить у нее. Только она вряд ли ответит. И я не обещаю, что она не свернет шею и тебе.
Майкл и не собирался спрашивать. Он никогда не говорил с Грейс. Они даже не были представлены. Интересно, Фред тоже играет с ней в Игру? – мысль возникла так внезапно, что Майкл стыдливо закусил губу.
– Ты знаешь, я люблю свою сестру. Мы – семья. Но ты тоже семья, поэтому я обязан предупредить.
Забота Фреда о Грейс всегда носила тревожный, практически животный характер. Майкл уважал это – делал бы то же самое по отношению к Кэти, если бы мог, но все же Фред не знакомил их, и это его задевало – разрасталось, пухло и ныло под кожей.
С того дня Майкл часто представлял разговор с Грейс, но фейерверк блистательных и искрометных фраз, заготовленных для первой встречи, с каждым днем выцветал и в итоге вовсе исчез. Проходили недели и месяцы, а официального знакомства так и не случилось. И пока Фредерик сидел во главе стола, наслаждаясь лучшими блюдами (вниманием Грейс, беседами с Грейс, тишиной с Грейс), Майкл довольствовался жалкими объедками, молчаливо сталкиваясь с ней глазами в коридорах, столовой и библиотеке. После этого по ночам ему обычно снился один и тот же сон, где расцветала часть души, что была неведома ему самому: он возвращался в тот весенний день. Умиротворенная Грейс сидела на траве посреди зеленого луга и сдувала семена одуванчиков. За ней распускались крылья. Молочное сияние. Майкл шагал к ней, но никогда не добирался.
Все страницы нового альбома заполнили изображения Грейс Лидс.
12
Дом Парсонсов стоял на ушах, и за его пределами все – вопросы Генри Стайна, исчезновение Мэри, ленивое расследование полиции – померкло в подрагивающей предпраздничной дымке хаоса. В этом году Джейсон и Кэтрин планировали пышное торжество, посвященное годовщине их брака – двадцать лет. Последняя неделя приготовлений выдалась особенно тяжелой, но, как обычно, Джейсон вернулся домой, не отметив даже скромным словом ничьих стараний. Майкл укрепил оборону – новые тайники, новые методы – не выдать себя.
После обеда на кровати его ожидал черный чехол. Майкл Парсонс, каллиграфически выведено на карточке. Порой он забывал, с каким апломбом звучит их фамилия, отец и вовсе произносил ее так, будто они были членами королевской семьи. Мама всегда заказывала ему новый костюм для важных событий, пыталась скрыть за внешним видом отсутствие выдающихся внутренних добродетелей, прекрасно осознавая, как начищенные туфли и удачный костюм вот уже десятилетия служили Джейсону в сокрытии его неприглядной, уродливой стороны.
Виляя хвостом, Премьер-министр забрался на кровать, обнюхал чехол, но, не отыскав ничего съедобного или хоть сколько-нибудь занимательного, устроился рядом, показывая всем своим видом, печальным и усталым, что ему тоже не по нраву бесцельная шумиха.
– И не говори, – сказал ему Майкл, натянув брюки и рубашку, выглаженную Дорис, с запонками возникли трудности: руки тряслись, и он никак не мог собрать себя в кучу. Он подошел к зеркалу. Кипенно-белый цвет выедал глаза. Костюм слегка висел на нем – сшит по старым меркам, – но удачный фасон и отменное качество ткани сглаживали потерю в весе.
– Неужели этот красавец мой сын? – спросила Кэтрин, войдя в комнату. Их взгляды встретились в отражении.
Он помнил, какой она могла быть: искренне заботливой, невероятно трогательной, по-женски доброй и по-человечески чуткой, – но отец вытравил из нее эти качества, выпотрошил, как дохлую рыбу, и поместил в нее то, что было нужно ему, и теперь эту маску вечного дружелюбия, притворной вежливости и маниакальной деятельности с нее не содрать. Разве что вместе с головой.
– Хочешь прочитать очередную лекцию хороших манер?
– Нет. Я просто хотела посмотреть на тебя в новом костюме. Тебе они всегда так шли. Ты выглядишь в них…
– …как придурок, – выплюнул он, очень зло, очень по‐детски – все не то, он-то собирался сохранять спокойствие, сквозить холодом, как глыба льда – неприступная и заиндевевшая.
– Я хотела сказать, что ты выглядишь в них так же изумительно, как и твой отец.
Лоб Майкла расчертило полосами: хуже, чем страдать от похмелья, было осознавать схожесть с собственным отцом, которого на дух не переносишь. Если бы он был уверен, что сможет рисовать вслепую, то выколол бы эти карие глаза, хотя давно осознал, что отец вечен – вот он: в его лице, в его руках, в его манере откидываться на спинку дивана от усталости и прятать светлые чувства (хотя в их наличии у отца Майкл сомневался) за плотной завесой гнева и жестокости.
– Помочь? – Кэтрин кивнула на запонки, и Майкл пораженчески протянул ей руку.
– Сколько лет ты уже это делаешь?
– Сколько себя помню.
Когда все было готово, Кэтрин провела руками по лацканам его пиджака. Он опустил глаза, чтобы не выдать себя – зрачки набухли до краев радужки. Ее юбка чуть задралась, и в отражении ему открылся вид на синяк. Желто-зеленый. Уже старый. Раньше они пугали его, теснили грудь, приводили в ярость, но теперь, после стольких лет, он лишь с безучастным малодушием подумал: редкий цвет.
– Не забудь про часы, – бросила она в деятельной манере хозяйки дома и покинула спальню.
Майкл замер, онемел, сердце у него буквально выпрыгивало из груди, его подташнивало – он и не помнил, когда кто-то касался его в последний раз. Он едва добежал до ванной, как его вырвало бесцветной жидкостью, и обмяк на полу в идеальном костюме, прикидывая, сколько за него можно выручить…
Его заставляли надевать фамильные часы на все важные события, но он ненавидел их. Отец называл их фамильными, пытаясь превратить род Парсонсов в уважаемый и старинный, только ничего фамильного, кроме гравировки с именем, в них не было. Майкл открыл нижний ящик комода, где хранил коробку с часами – пуста. Пошарил по ящику, заглянул еще в один, перевернул все остальные – ничего. Если бы только он сбыл их с рук… Сколько денег, сколько порочных возможностей, даже мысли о которых так радовали темную сторону его души, обступили бы его ликующей толпой. Но нет. Слишком опасно. Он бы помнил, если бы сделал это.
правда же
С ошалевшей от паники головой он судорожно перерыл всю комнату. Запрятав коробку среди носков и белья, сел за стол переговоров с собственной совестью: совещание прошло успешно – оба договорились молчать о пропаже. В компании белого яда, запоздавшего на встречу, Майкл и вовсе потерял стыд и страх, решив не мелочиться и продать запонки. Снявши голову, по волосам не плачут, как говаривала Дорис. И как удачно Эд уехал разбираться с отцовскими делами в Лондон – горизонт чист. Снова окинув взглядом свое отражение в зеркале, Майкл мазнул рукавом по воспаленному носу. Причесал волосы пятерней, поправив лацканы пиджака, закинул в рот леденец – закусил зубами, чтобы не скрипеть ими, – и спустился.
Дом предстал перед ним в коричневато-охровой гамме, разбавленной пятнами глубоких красноватых оттенков: бургунди, кармин, бордо, сангрия – цвета зарева с полотна «Данте и Вергилий в аду». Он словно оказался в чьих-то венах, где мелькали светлые пятна – лица гостей, некоторые он видел впервые, а вот другие вполне узнавал.
В главном зале и коридорах сновали официанты с подносами – точно пришельцы с обломками от летающей тарелки, такие деятельные, беспричинно улыбчивые или, напротив, чересчур серьезные. Основа всех композиций в фарфоровых вазах – белые лилии, мамины любимые цветы, символ верности, чистоты и невинности. Майкл запустил нос в один из букетов – тщетно, но это честная сделка, он пошел на нее добровольно.
Энергия бурлила в нем фонтаном, выплескивалась кругом, и он попытался забиться в угол, чтобы не привлекать всеобщего внимания – не вышло: его то и дело цепляли за рукава дамы постарше, те самые, из его детства: какой же красивый мальчик! Ты у нас что-то с чем-то, да? Боже, ну и глаза! А какие ресницы! Конечно, тети были другие, но мало чем отличались от тех, из его прошлого, что остались за океаном. Его деятельная копия – тот, другой Майкл – без разрешения вышла на свет, с радостью общалась с гостями, плыла в толпе, с успехом поддерживая светские разговоры о всякой, по его же мнению, тупой, бессмысленной, изматывающей херне, и даже очаровывала леди с дряблыми декольте, что, в свою очередь, очень нравилось Кэтрин. Но со временем концентрация ослабевала, мысли разлетались в кучу, эйфория рассеивалась. Стенки горла как наждачка, лицо пепельно-бледное. Сердце бухало за ушами. Во рту у него с самого утра не было ни крошки – он все смыл в унитаз и теперь буквально разваливался на части посреди сверкающей толпы.
Ядовитый прилив сил, а вместе с ним и энтузиазм, отступал, оставляя за собой шлейф духовного бессилия и физического истощения. Он не сомкнул глаз ночью, клевал носом, виски взмокли – ужасно устал и только тогда услышал вездесущие щелчки фотоаппарата.
фотографы где зачем
Он судорожно торопился вернуться в комнату, чтобы пригубить из бутылки, спрятанной в шкафу, порисовать еще, но снова и снова увязал в беседах, разжижавших мозг. Он терпеть не мог бессмысленную трепотню Шелли, но и та, что мозолила уши сейчас, была ненамного лучше – разговоры, не имеющие ничего общего с реальностью. Потерян навеки. Ему нет места ни на одном континенте, ни в одной социальной группе. Не англичанин и не американец, не богач и не бедняк – сгусток крови, повисший в воздухе.
Вдруг, как луна в ночной прогалине, появился лучик нежного сливочного цвета – Грейс Лидс. Короткие рукава, глубокий вырез – он впервые видел столько ее кожи и на миг перестал дышать. На бледной груди сверкало колье с синим сапфиром – подарок от Кэтрин на день рождения. Синий цвет особенным образом подчеркивал цвет ее глаз – те изучали толпу со снисходительным ленивым безразличием. Ее отец умер… Ее брат покончил с собой… Лидс-холл на грани краха… Она походила на место жестокого преступления, на которое неприлично смотреть в открытую, но очень хочется исподтишка; ядовитой дымкой за ней тянулись взволнованные и удивленные шепотки, пренебрежительные и заинтересованные взгляды, и она держала их на себе, пока любому, кто смотрел достаточно долго, не становилось дурно, и продолжала с невозмутимой статью плыть через зал, словно и не замечая, какой молчаливый фурор произвела. Ни с кем не перемолвившись и словом, она прилипла к окну – то, что происходило за ним, увлекало ее намного сильнее, чем обрывки бесполезных разговоров об отдыхе, лете, нарядах, детях, политике, новых домах на побережье, прошедших в этом сезоне свадьбах…
– Хочешь… потанцевать? – спросил Майкл, опершись о стену у окна, портьера натянулась под ним – на ногах он держался с трудом. Невольно закусил верхнюю губу. Вспотевшие руки юркнули в карманы брюк.
– Здесь никто не танцует.
Простор для бунта – кровь Майкла вскипела, и, не дождавшись ответа, он схватил ее за запястье и потянул на танцпол. На ощупь она походила на статую: жесткая и холодная, но ткань платья мягкая, а на шее билась жилка – все же живая.
– Не твой стиль. – Майкл задержал взгляд на колье.
– Агнес сказала, что миссис Парсонс будет приятно, если я его надену.
– Думал, ты не придешь.
– Я ведь получила приглашение.
Майкл кивнул – накренившаяся кипа конвертов цвета слоновой кости, что мать лично подписывала черными чернилами, – он убедился, что приглашение Лидсов было отправлено раньше остальных, а после с замершим сердцем ждал звонка, ответного письма, гостей. И теперь в компании Грейс ощущал себя как человек, прыгнувший на несколько веков назад: вечный мрак и недосказанность, полунамеки и смысл между строк – совершенно непонятно, как жить в этом мире готического романа.
– Ты ведь вознамерилась меня избегать.
– Да. И я бы с удовольствием сбежала отсюда и шла бы дни и недели, а потом плыла и снова шла, пока не достигла бы дикого леса.
– Почему? – Майкл услышал лишь «да». – Из-за поцелуя? – Внизу живота у него все свело.
– Это не было поцелуем.
Его брови сдвинулись к переносице.
– Чем же это, по-твоему, было?
– Приступом, это же очевидно. Так бывает с теми, кто любит порисовать.
Она говорила на их с Фредом языке, и Майкл затих, опал, потерялся, мысли окончательно перестали подчиняться ему – он сказал ей? сказал ей? – вся кровь волной отхлынула от головы, запульсировала в кончиках пальцев, а реальность вокруг продолжала блестеть, звенеть и смеяться. Колючий ком приземлился в желудке. Треск собственной гордости и самоуважения – и без того ненадежная конструкция пала, похоронив его под обломками.
– Ничего подобного, – просипел он тихо, такая очевидная это была ложь. Но в глубине души, где-то там, на дне, зашевелилась смутная нежная признательность к ней.
– Иначе ты не говорил бы «вознамерилась» и «ничего подобного» вместо «собиралась» и «нет» и не делал бы мне комплименты.
– Я часто делаю тебе комплименты. Просто не вслух.
– Ты зубами скрипишь.
– …так меня это все достало.
– У тебя зрачки размером с луну, знаешь?
– Говорят, они расширяются, когда смотришь на того, кто нравится.
– Как и от страха.
Это Майкл тоже стремился скрыть, но что отрицать – она была воплощением сладкого ужаса, и он столь же сильно боялся ее, как и хотел, до дрожи, до тошноты. Точнее, не ее, ведь переломил бы ее как щепку, если бы возникла такая необходимость, а того, что подспудно ощущал в ней.
Внезапно раздавшийся звон резанул по ушам, взмыл над всеобщим гамом, приятная туманная дымка, что окружила их, растворилась. Майкл поморщился, огляделся, сомневаясь, слышал ли звон кто-то еще, но он в самом деле звучал: отец стучал по начищенному бокалу, привлекая внимание гостей. Грейс отпрянула и не моргая уставилась на старшего Парсонса.
– Хочу поблагодарить всех за то, что пришли. Для нас это невероятно важно. – Он приобнял маму, и та безвольно ему покорилась, как делала всегда, точно хилое животное. – Я буду краток, так что совсем скоро вы сможете вернуться к празднованию. Хочу лишь обратиться к своей жене, – он посмотрел на нее с нежностью, – дорогая, ты знаешь, что я люблю тебя и буду любить, что бы ни случилось.
Челюсти Майкла сжались. Облаченный в идеально сидящий костюм, такт и неспешность, Джейсон лучился обаянием – актер из фильма, что вливает в себя бутылку виски из горла, как только съемочный день подходит к концу.
– Он что, бьет ее? – Вопрос Грейс ударил его под дых. Еще одно откровение, и она бы совершенно точно нокаутировала его словами. – Не спрашивай, как я догадалась.
– Тогда не спрашивай у меня, бьет ли он ее.
– Сегодня ровно двадцать лет с того момента, как мы поженились, – продолжал отец. – Мы многое прошли вместе. У нас замечательные дети, и я невероятно рад, что все так сложилось. Однако мы хотели не просто отметить годовщину, но и объявить важную новость, которая в ближайшее время изменит жизнь нашей семьи навсегда. – Он многозначительно затих. – Мы ждем пополнения в семействе.
По толпе гостей волной прошелся шепоток. Раздались нестройные аплодисменты. Звон бокалов. Мир поплыл у Майкла перед глазами. Еще один ребенок? Еще один? Разве им недостаточно искалеченных душ, что у них есть? Его взгляд метался по присутствующим, и не без труда, но он нашел ее. Фарфоровая куколка в кружевном платье, которые она втайне ненавидела, побелела как мрамор и встала прямо, как струна, в тщетной попытке защититься от этой новости.
Ни на кого не взглянув, Кэти покинула зал.
Рапира
Фредерик Лидс был лучшим во всем, за что брался. В его ослепительном сиянии Майкл претендовал лишь на роль бледной неотступной тени: вечно растрепанный, мятый, красноглазый, дерганый и далекий от мира, прячущийся за блокнотом или мольбертом, – его видели все, но смотрели как бы сквозь, позволяя оставаться вещью в себе. Он жил на грани двух миров – рядом с Фредом нежился в его славе, но стоило отойти на пару шагов, и он обращался не просто в тень, но в человека-невидимку, наслаждаясь спокойствием и одиночеством. Однако за все хорошее рано или поздно приходится платить, и время расплаты неумолимо близилось. Неприятный период прыщей, пушка над губой и ломки голоса почти минул, и Майкл приобретал то, на что никогда не рассчитывал, но то, о чем так часто говорили ему в детстве, – привлекательность, чувственность и чувствительность, которых не было у его божества. Теперь девчонки обращали внимание и на него. Медленно, но верно он достигал величия завершенности – как скульптура, над которой почти закончили работу.