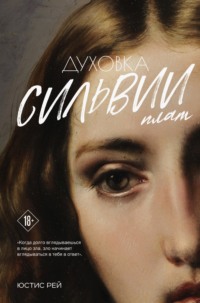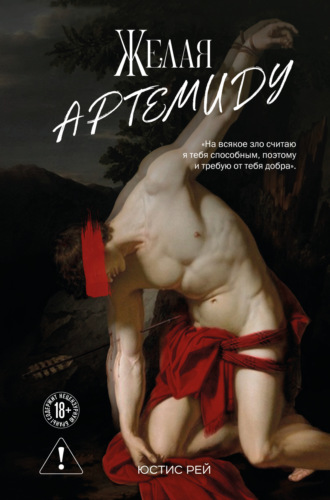
Полная версия
Желая Артемиду
Стайн призадумался, сведя брови к переносице, и завел машину. Вибрация двигателя прошлась по ним, а после повисла неловкая, томительная тишина, в стоячей воде которой росло напряжение, и Майкл мог бы разглядеть в этом стратегический ход со стороны Генри, если бы не был так взвинчен и одновременно отстранен от мира. Зелень проносилась за окном все быстрее.
– Откуда ваш акцент? – спросил наконец Майкл, распоров бессвязное молчание.
– Я из Уэльса. – Лицо Стайна смягчилось. – А твой?
– Я из Аризоны.
Генри окинул его мимолетным недоверчивым взглядом.
– Не больно ты похож на американца, – выдохнул он смешок. – Так странно, что вы всегда называете штат, словно весь мир обязан знать, как устроена ваша страна.
Не найдя признания своему происхождению, Майкл притих, едва не разодрав заусенцы в кровь, пока Генри сосредоточенно уставился на дорогу, распластавшуюся перед ними серой лентой.
– Что, если… если Фред выкинул эти вещи?
На миг Генри слегка пригнул голову, чтобы поймать потупленный взгляд Майкла.
– Ты что, и вправду не понимаешь? Кто бы что ни говорил, Мэри Крэйн мертва. Ее тело найдут – это лишь вопрос времени. И когда это случится, полиция, СМИ и все обеспокоенные родители таких же девочек, как Мэри Крэйн, встанут на уши – и будут правы. Они схватятся за любую возможность, любой намек – и будут правы. И зажигалка окажется этой возможностью.
– Вы нашли в комнате Мэри зажигалку, которая когда-то была моей. Это ничего не доказывает. Полиция ее не нашла. Может, вы ее подложили? Да и как они узнают, если вы не скажете?
– Во-первых, Агнес Лидс видела, как я нашел ее у Мэри в пиджаке, во‐вторых, доказать, что она твоя, не составит никакого труда – тебя видела с ней половина школы. На ней мужик с отрубленной головой – такое не забудешь.
– Это Бертран де Борн, – буркнул Майкл.
– Знаю. Иллюстрация сделана Гюставом Доре к «Божественной комедии». Де Борн был трубадуром, которого Данте поместил на восьмой круг ада. Но о чем это я? – призадумался он, с притворным благодушием добавив: – А, точно – с чего ты взял, что я не скажу полиции?
Майкл закусил губу, от слова «полиция» скрутило желудок – от него так и веяло запахом дешевого кофе, духотой кабинетов с табличками на двери, размеренным жужжанием старых кондиционеров, колючим забором и небом в сеточку.
– И все равно… это ничего не изменит.
– Что ты сказал Инейну о Мэри?
– Инейн? – Память на имена в последнее время его страшно подводила, да что там, он едва помнил, что делал вчера.
– Детектив, который ведет дело.
– А, этот… он как бы далеко не гений.
– Скорее как бы полный тупица. Но это не отменяет моего вопроса. Что ты сказал ему о Мэри?
– То же, что и вам. Я не знал ее.
– И какой из этого мы можем сделать вывод? – по-учительски спросил Стайн.
Майкл пожал плечами.
– Ты соврал. Я доберусь до истины, какой бы она ни была. И если пойму, что ты мешаешь мне, препятствуя расследованию, то стану тем, кто отвезет тебя в полицейский участок. Смекнул?
– Слишком глуп для этого.
– Не глуп. Просто хочешь таким казаться – вот только не пойму зачем.
Оладьи
Рождество в доме Парсонсов проходило, как и все остальные праздники, согласно четкому расписанию. Дом украшали профессиональные декораторы – блестящее безумие, в которое превратили бы елку дети, только раззадорило бы суровый нрав Джейсона. Все, что было призвано придать уют, появлялось благодаря труду и усердию чужаков и оттого оставалось безжизненным и лишенным приятных воспоминаний.
В то предрождественское утро Парсонсы завтракали в столовой. Отец ел молча, и все смиренно довольствовались тем, чем обеспечил их глава семьи. За окном все затянуло снежным туманом, и казалось, они навеки заперты друг с другом в этом холодном доме без заботы и любви. Майкл долго собирался с силами, чтобы нарушить тишину:
– Я просил тебя подписать разрешение, чтобы я мог на выходные покидать Лидс-холл…
– Зачем? – спустя долгую минуту с напускным безразличием поинтересовался Джейсон.
– Нас часто возят на экскурсии, в том числе в Лондон, и все такое…
– И все такое, – со снисходительным презрением усмехнулся отец. – Чему вас только учат в этих ваших пансионах?
Сегодня, в канун Рождества, у Майкла, как и у всех членов семьи, были вполне веские основания рассчитывать на расположение Джейсона, однако одной робкой фразой Майкл все безвозвратно испортил, и теперь в нем плескались мучительное смущение и злоба, от которых предательски зарделись щеки.
Разговор тут же иссяк. Лязганье приборов. Стрелки дальше кряхтели по циферблату. Кэти притихла и клевала носом, лениво размазывая еду по тарелке. Железная рука сжимала сердце Майкла, как шарик с водой, и тот каждый раз лопался, когда он представлял, как она справлялась со всем в одиночку. Раньше он считал, что быть средним – проклятие, истинное наказание, но все же у него было преимущество: он никогда не оставался единственным ребенком в доме.
– Еду надо есть, – отрезал отец, смерив дочь глазами.
Кэти подняла голову – острый, уверенный взгляд, как ни посмотрит, точно ножом к стене пригвоздит. Майкл поймал себя на мысли, что сегодня он, усталый и заторможенный, пожалуй, расплакался бы, если отец посмотрел бы на него таким образом, но Кэти уже выучилась немому сопротивлению. И когда она успела обзавестись этим навыком, спрашивал себя Майкл, он тоже хотел научиться: Кэти не пропускала отцовские слова через себя – только сквозь, никогда не перечила, не спорила, словно его не существовало, оставалась заледенело безразличной ко всем его порывам, превращая каждый из них в несусветную чушь.
Отец поставил чашку с кофе на стол, и та со звоном ударилась о блюдце, придав действу тревожную нотку. У Майкла внутри все болезненно сжалось.
– Ты хоть знаешь, что твоя мать голодала, когда была молода? Она молила о куске черствого хлеба, в то время как ты пренебрегаешь свежим. Черная неблагодарность! Она сыграет с тобой злую шутку. Со всеми вами!
Майкл часто слышал об этом из уст отца, но матери – никогда, и в этом тоже крылся какой-то злорадный, намеренно унижающий оттенок, словно Кэтрин стремилась навеки забыть прошлое, а Джейсон, почуяв, что рана затягивается, безжалостно срывал с нее корочку, и та начинала кровоточить вновь. Когда-то Кэтрин, не имевшей ни семьи, ни друзей, приходилось голодать и работать не покладая рук, попутно зализывая раны после того, как беспощадно била ее жизнь, – пока она не встретила Джейсона. Ее первый муж, отец Эдмунда, был небогат. Они поженились совсем молодыми, и через пару лет он погиб, спасая чужие жизни в пожаре, не оставив ей ничего, кроме истерзанной души и долгов. Мечты о том, как отец горит в огне, живо вспыхивали в воображении Майкла, он даже чуял этот омерзительный, тошнотворный запах горящей плоти.
Моисей был скромен и косноязычен, и за него говорил старший брат его, Аарон. У Майкла тоже такой имелся – Фред без труда поставил бы Джейсона на место, не боясь ни наказания, ни изгнания. Как бы он хотел быть таким же умным, проницательным и всемогущим, но он был всего лишь Майклом и жаждал вернуться в комнату и уснуть. Он всегда очень много спал, до головной боли, до рези в боках – мечтал спать днями, неделями и даже месяцами, а после проснуться, посмотреть в зеркало и увидеть взрослого человека, чтобы уже никто не управлял его жизнью.
– В одну из особенно холодных зим она чуть не лишилась пальцев. Знаешь, что она ела в это время? – Отец с садистским удовольствием смаковал подробности прошлой жизни матери, рассказывая их, как другим детям рассказывали сказки. – Все, что такие, как ты, выбрасывают в мусорные баки. Пора повзрослеть и осознать, что значит быть благодарной.
Майкл представлял, как Кэти сжимает кулаки под столом, и попытался найти ее ноги своими, но отец метнул в него свирепый взгляд, и он прекратил.
– Ешь.
Он кожей ощущал, как в отце закипает неистовое пламя. Так часто становился его жертвой, что чувствовал в зародыше.
Кэти поставила локти на стол и подперла голову ладонями.
– Мне очень плохо.
Мать дернулась к ней.
– Сядь! – рявкнул отец, тут же усмирив ее браваду, с легкостью пробив броню – не толще скорлупы. Он нередко яростно и жестоко подавлял ее малейшие порывы, так злостно придирался к ней по поводу бытовых мелочей, что даже Дорис становилось не по себе, и, несмотря на природное добродушие, она нещадно гоняла прислугу, чтобы те выполняли все без сучка без задоринки.
– Она, наверное, заболела, – промямлила мать, побледнев до самых губ, но со стула больше не двинулась, словно натолкнулась на невидимую стену, словно Джейсон пригвоздил ее к месту, и она таяла под ним на глазах у детей, растекаясь бесформенной массой.
– Ты же не хочешь, чтобы в этом доме выбрасывали еду?
Ответа не последовало.
– Я все съем, – предложил Майкл.
– Ты хочешь все съесть? – Лоб Джейсона прошили глубокие морщины.
Майкл ждал, что отец превратится в зверя, в дикое животное, хищника, но нет, это все еще был мужчина средних лет, которого многие нашли бы привлекательным: темные волосы, распахнутые карие глаза, волевой подбородок, идеально очерченное лицо – по спине Майкла прошелся холодок – он смотрел в зеркало будущего.
Джейсон жестом попросил прислугу принести еще, и уже через пару секунд Майклу положили тройную порцию оладий, возвышающуюся горкой.
– Вы не выйдете из-за стола, пока я не увижу пустых тарелок. Никто в этой семье не знает, что такое благодарность.
Майкл принялся за еду. Кэти не двинулась с места.
Закончив завтрак, отец в гневливом безмолвии покинул столовую и увлек мать за собой.
– Мне нехорошо, – шепнула Кэти.
– Что болит?
– Голова и горло.
Перегнувшись через стол, Майкл коснулся ее лба, разгоряченного, как масляная лампа. Он стянул с ее тарелки оладьи и мигом запихнул в себя.
Когда отец вернулся, тарелка Майкла все еще была полна – оладьи стали поперек горла, он едва дышал.
– У Кэти температура, – сказал Майкл.
– Не вижу пустых тарелок.
– У нее жар!
Джейсон с остервенением ударил по столу – посуда и приборы отозвались робким звоном.
– Не смей повышать голос в этом доме. Ешь!
Майкл схватил очередную оладью, со злостью запихнул в рот, кое-как пережевал и запил соком. Внутри все стянуло, точно в музыкальную шкатулку пытались затолкать живую балерину. Засунув в себя еще кусок, он не сдержал рвотных позывов – его вывернуло на стол.
– Можно идти? – прохрипел он – от кислоты резало в горле – и вытер рот салфеткой. Если бы он сделал это рукавом, распечатки с его фотографией уже висели бы на каждом столбе с заголовком «пропал без вести».
– Все еще не вижу пустых тарелок, – заключил отец и вышел.
Стрелка часов медленно плыла по циферблату к полудню. К двум. К шести. Майкл и Кэти чахли за столом в мертвой тишине. Его мутило от одного вида этих чертовых оладий, покрытых кашей из вишневого варенья и рвоты. От кислого запаха, исходящего от тарелки, горло снова стягивало, но Майкл взял вилку в руки.
– Не вздумай, – воинственно прошептала Кэти. – Это слишком унизительно. Даже для нас.
И он вернул вилку на место. Они просидели за столом до самого вечера, пока за окнами сплошной стеной не повисла темнота. Каждый час Майкл порывался сдаться, но пристальный, сверлящий взгляд сестры вынуждал держаться, напоминая о негласном договоре: содержимое тарелок останется нетронутым.
В полночь раскрасневшаяся Дорис торопливо влетела в комнату. Подгоняла их выйти из-за стола, будто они застряли в пещере и счет шел на секунды, прежде чем ее затопит.
– В комнаты, в комнаты… – шептала она, хватаясь за плечи и спины. – Господи, детка, у тебя жар, – сказала она, прижав Кэти к большой груди. – Мы все исправим, дорогая, все исправим…
11
Темные коридоры Лидс-холла, портреты мертвых Лидсов, Генри Стайн – все расплывалось у Майкла перед глазами. Он шел по мрачному тоннелю в пьяном, вязком бреду. Сердце бешено колотилось в горле, виски стягивало тупой болью, трясущиеся руки юркнули в карманы.
Прислуга проводила гостей в большую гостиную, где когда‐то Майкл писал портрет Лидсов – самое счастливое и мучительное лето в его жизни – и где теперь они с Генри тонули в тишине, окруженные мертвой роскошью.
Генри Стайн.
кто он мать его такой
Дешевый костюм, легкая небритость, тени под измученными глазами, темные волосы уже тронула седина, но недостаточно, чтобы назвать его старым, – детектив с картинки. Но, что самое главное, у Стайна не было цвета – ни ярко слепящего, ни слабого мерцания – живой труп. Глаза-ледышки смотрели на мир с постоянным подозрением, неверием и… болью. Майкл знал этот взгляд – встречал его каждый день в зеркале. Кем бы ни был Генри Стайн, он тоже потерял кого-то, и поэтому на краткий миг Майклу захотелось устроиться рядом, довериться, пылко и бессвязно рассказав все, что мучило его, подобно затяжной болезни, долгие недели, но после этого Генри скрутил бы его и отвез в участок, поэтому Майкл лишь подозвал Премьер-министра и погладил по голове, желая почувствовать что-то живое, благосклонное к нему.
Внимание Стайна привлек портрет над камином – еще молодой Филипп Лидс (совсем юноша, едва старше Майкла) уже тогда лучился силой и статью зрелого мужчины: светло-русые волосы, волевые черты, всегда приподнятый подбородок. У Грейс и Фреда были его глаза – цвета неба на восходе пасмурной зимой. Обычный человек назвал бы их голубо-серыми, но это описание не отдавало должного их уникальности. Добра в глазах Филиппа не было, но и зла тоже. Ходили слухи, что Филипп без колебания отнимал руки и ноги, когда служил в Афганистане. Истинный руководитель, бывший военный врач – сломленный, но возродившийся из пепла и ставший еще сильнее. Майкл помнил, какое впечатление он производил, появляясь в коридорах Лидс-холла, – весь искрящийся золотом, видный и суровый, – немедленное желание сдаться. Это было бессмысленно, совершенно бессмысленно, но Майкл хотел, чтобы Филипп стал его отцом, и это желание было таким сильным, таким всеобъемлющим, странным и необузданным, похожим на веру, что он нередко корил себя за него.
– Здравствуйте, господа. Чем могу помочь? – спросила Агнес, пройдя в гостиную.
Слова приветствия и извинения застряли в горле, и Майкл с пылающими щеками отвернулся, уставившись в окно. Тело его невольно подрагивало.
– Добрый день, Агнес. Выяснились новые обстоятельства дела, поэтому я бы хотел… – Голос Стайна стремительно затухал, доносился до него все тише и глуше, точно он уходил под воду. Так оно и было. Топливо. Ему нужно топливо! Разве он так уж много просит?
И тут вдали в зелени сада сверкнула светлая точка. Лица не видно – лишь сгусток, бледно-голубой, почти белый, но это была она. Больные глаза сощурились, чтобы разглядеть лучше, тело подалось вперед в нестерпимом желании приблизиться к ней. Министр привстал, склонил голову набок, потом на другой, подкрался к окну, а после, как ужаленный, помчался вон из гостиной. Майкл вяло окликнул его, но Министр уже юркнул в темноту коридора.
– Я… мне нужно… вернуть его, – промямлил Майкл и вышел следом, спиной чувствуя, как обжигает спину взгляд недовольных глаз Генри.
Каким-то чудом ему удалось не заблудиться в лабиринте темных коридоров, он покинул дом и двинулся по дорожке из плитняка. Живая изгородь из кустов тиса медленно поредела и совсем оборвалась – так далеко он еще не заходил. Перед его взором открылось зеленое поле, поросшее травой, в которой яркими пятнами горели лютики и ромашки. За ним вставала могущественная чаща.
Министр, высунув язык и радостно виляя хвостом, носился за палкой, которую ему бросала Грейс. Ее беззаботность, легкость, грация заворожили Майкла, и, прежде чем выдать себя, он спрятался в тени листвы, следил за ней, не в силах отвести глаз. В светло-голубом, почти белом платье – рюши, цветочное кружево, пышные рукава – она походила на перышко; если бы подул небольшой ветерок, ее совершенно точно унесло бы назад в лес, где ее уже никогда бы никто не отыскал. Темные волосы, собранные на затылке, придавали ее облику непривычную мягкость, но она была все той же – стальной прут, укутанный в шелка. Ему хотелось бы обладать хоть каплей смелости, чтобы наконец решиться снять первый слой, вдохнуть его запах, сохранить под подушкой. Он дернулся и невольно отступил, когда их взгляды встретились через поле. Щеки Грейс пылали, глаза блестели, из прически выбились волнистые пряди, но за видимым благополучием крылся какой-то больной, неизбывный надрыв. Майкл робко улыбнулся, поджав губы, так она была хороша.
– Как ее зовут? – спросила Грейс, подойдя ближе. Министр бился в ее ноги, виляя хвостом.
– Это он. Я назвал его Министром. Но ему больше нравится, когда его зовут Премьер-министром. Никак не пойму почему.
Грейс взяла палку изо рта пса, кинула, и он с благодарным гавканьем унесся.
– Премьер-министр?
– Да. Мне нравится ощущать себя хозяином премьер-министра.
Она не улыбнулась остроте, впрочем, та вышла довольно тухлой.
– Ему не хватает внимания, – сказала Грейс, и в доказательство этому Министр подбежал снова и послушно отдал ей палку. Он прыгал под руки, чтобы его погладили, заметили, и Грейс, потакая его желаниям, склонилась к нему и потрепала за уши. Министр с радостью и рвением облизывал ее руки и гавкал, крутясь вокруг своей оси. Внутри у Майкла кольнуло. Да, он не заслуживал любви этого пса. Он не заслуживал любви.
– Я не лучший хозяин, но я люблю его, – сказал он так тихо, что был не уверен, услышал ли кто-то, кроме него.
Но она услышала. От нее вообще ничего не ускользало?
Грейс почесала затылок Министра и снова кинула палку.
– Я пришел по делу. Точнее, – прочистил горло он, – по делу пришел Стайн, а я просто… за компанию.
– Что ему нужно?
– Он нашел мою вещь в комнате Мэри. Я отдал ее и кое-что еще твоему брату.
– Фредерику.
– Да, я… – Он струсил произнести его имя вслух. Сила имени. Она существует.
– Мирный правитель.
– Что?
– Значение имени – мирный правитель.
– Не очень-то ему подходило.
– Править мирно. Хотелось бы и мне нечто такое же великое, нежели грация [26].
Еще более великое? Ее грация – все, что было в ней, лишало его способности четко мыслить, связно говорить и дышать. Ее близость невыносима, но… пусть это длится вечно.
– Я отдал эту вещь Фреду.
– Вещь? Как неопределенно.
– Зажигалку. На ней де Борн…
– Из «Божественной комедии»?
– Да. Видела ее у Фреда?
– Нет.
Грейс выпрямилась еще сильнее, словно ее задевали разговоры о брате.
– Стайн перевернет все вверх дном и, если не найдет того, что нужно… – Майкл обессиленно выдохнул, проведя дрожащей рукой по лицу. – Грейс, я в такой заднице. – Кровь отлила от щек, когда он сказал это вслух.
Он хотел быть особенным для нее – неуловимым, сильным, могущественным, но пусть это признание далось тяжело, оно ощущалось правильным – он слишком ослабел и не мог больше скрывать этой усталости, беспросветной печали, мучительной тревоги, что принимались пожирать его каждое утро, как только он приходил в себя. Его выкручивало и ломало. Он хотел спать вечность и проснуться, когда все это закончится.
– У него есть на тебя что-то еще?
Майкл невольно поморщился.
– Нет… я не знаю. Не думаю.
– Тогда тебе не о чем беспокоиться.
Она погладила Премьер-министра еще раз и вместе с ним направилась к тропинке, Майкл семенил следом.
– Не беспокоиться? Я даже ни разу не говорил с Мэри, а теперь мою зажигалку находят в ее комнате. Как думаешь, как я буду выглядеть в глазах людей? – запальчиво тараторил он, не в силах утихнуть, точно чей-то палец жал на кнопку внутри него.
Грейс резко остановилась, и Майкл едва не налетел на нее. Холод глаз. Теплое дыхание. Веснушки на щеках. Слишком близко. Но ему не хотелось отступать.
– Как преступник. Если будешь вести себя так же, как сейчас.
Майкл сглотнул. Сталь в ее глазах испугала его.
– Я и есть преступник. Все так считают. И все это лишь формальности.
– Не надо, Майкл. Я здесь не для того, чтобы утешать тебя.
– Мне не нужно твое утешение. Стоит лишь свистнуть, и за мной выстроится очередь желающих утешить.
Он едва не забился головой о дерево, так нелепо это прозвучало – совсем не то, что было на самом деле, но nescit vox missa reverti [27]. В желании скрыть израненного мальчишку он раз за разом играл роль бездушного плейбоя, ловеласа, Казановы перед каждой девушкой, которую встречал, и, даже если это не срабатывало, они ценили его попытки, считая их милыми и трогательными, как выступление детсадовца в картонных доспехах, но на Грейс это не произвело желаемого впечатления. Она ускорила шаг. Уходила, ускользала… Опять.
– Если бы выбор стоял между тобой и Фредом, никто бы не выбрал тебя!
Слова пригвоздили Грейс к земле. Что-то беспокойное и смутно пугающее было в колыхании ее украшенного травинками подола. По конечностям Майкла пробежался неприятный холодок. Если кто и мог вырыть ему могилу, так это он сам. Зачем он сказал это? Грейс обернулась, прекрасное лицо оставалось все таким же непроницаемым, таким же невозмутимым.
– Не пытайся задеть меня, Майкл Парсонс. У тебя ничего не выйдет, – сказала она, отделяя слова, точно знала, что сейчас все доходило до него преступно медленно.
Она подошла ближе.
– Думаешь, я сумасшедшая?
– Да, – солгал он, упорно хватаясь за призрачную возможность ранить ее.
– Сумасшествие, – произнесла она бесцветным тоном. – В психиатрии нет такого диагноза, это слово ничего не значит. Подумай лучше, Майкл Парсонс.
Думать? Он лишь изучал цвета, испещрившие ее радужку: от небесно-голубого до темного телегрея, – и тонул, тонул без надежды на спасение.
– Знаешь, каков мой диагноз?
Он сглотнул.
– У меня его нет. А знаешь, что это значит? – Она подалась ближе. – Я такая ненормальная, что даже врачи не могут определить, что со мной.
Ожидая очередного броска, Премьер-министр беспокойно носился вокруг с палкой в пасти.
– Поэтому настоятельно советую сменить тон беседы. – В ее размеренном голосе явно читалась угроза.
Как ни в чем не бывало с искренней нежностью Грейс наклонилась и потрепала пса по загривку.
– Пока, малыш.
После взгляд пронзил Майкла, и уже без капли дружелюбия она отчеканила:
– Прощайте, мистер Парсонс.
Все десять пальцев невольно сжались в кулаки. Майкл молча провожал ее глазами в тщетной попытке подавить дрожь в теле. Министр залаял, предчувствуя неладное, и Майкл шикнул на него и жестом приказал сесть. Пес проскулил, но подчинился.
Грейс уже скрылась за тисовой оградой, скоро она исчезла бы совсем в стенах Лидс-хауса. Майкл сорвался, кинулся за ней. Зелень и тропинка плыли.
Грейс вошла в кухню, взялась за ручку, но Майкл сунул ногу в проход, с силой толкнул дверь вперед и, не дав Грейс опомниться, припечатал спиной к стене, схватил за подбородок и поднял, чтобы насладиться тем, как в ее глазах мелькнет страх – ее холодность, вечная отстраненность от мира ранили его.
– Никогда не называй меня мистером Парсонсом. Слышишь? Мистер Парсонс – мой отец. – Рука опустилась ниже, сжав белоснежную шею. – Он монстр.
– Как и ты.
Глаза Грейс остались мертвыми, стоячая вода: ни возмущения, ни страха, ни удивления. Что не так с этой девчонкой?
– Ты меня ненавидишь?
Ее пульс бился под его ладонью.
– Я сломаю тебе ребра.
– Лучше не сопротивляйся, Грейс Лидс. Не хочу оставить синяки. – Он чуть сильнее сдавил ее шею. – Давай сначала. Ты меня ненавидишь?
– Нет.
– Ты меня презираешь?
– Нет.
– Но ведь ты меня на самом деле и не боишься?
– Я от тебя в ужасе, – прошептала она, и впервые ее голос сорвался. Вот оно.
Преграда не пала, но по ней пошли трещины. Он едва коснулся щеки Грейс. Миг. Секунда. Безудержный порыв. Красная вспышка, и он уже целовал ее, совершенно забыв, о чем они говорили и почему он почти наказывал ее через этот поцелуй. Незапланированный, но такой желанный. Глубокий, основательный. Майкл так давно хотел этого и так долго обещал себе, что не станет. Сопротивление. Я сломаю тебе ребра. Он ждал его, но оно не последовало. Прохлада, сладость и свежесть ее рта. Ее губы.
моя моя моя
Смущение. Сломлен и поражен. Поражен тем, что этот поцелуй состоялся, тем, что он оказался гораздо лучше, чем он представлял, а делал он это сотни, если не тысячи раз. Этот поцелуй менял его безвозвратно, выреза́л в нем что-то и создавал совершенно новое, как нож в древесине, и это что-то не стерло бы ни время, ни люди, ни Бог. Лед. Жар. Все не так. Но так и должно быть.
Он задыхался, хватался за нее… Ее сила. Он нуждался в ней и получал ее. Коснулся ее лица, очертил линию подбородка, потянул за мочку уха и спустился ниже, снова к белоснежной шее, пуговицам и кружевам на груди. Вдруг Грейс уперлась рукой ему в грудь, испугав сопротивлением, и шепнула, кивнув на черноту коридора: