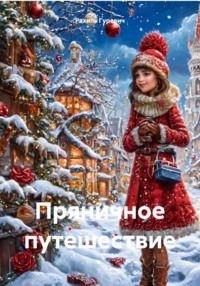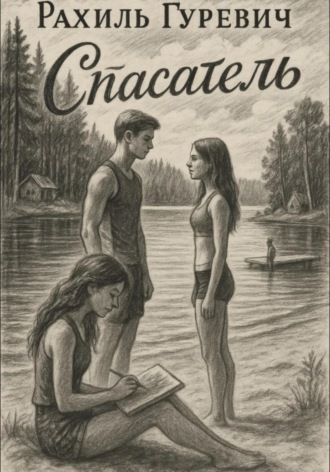
Полная версия
Спасатель
− Поступишь в Москве институт. Поселишься в квартире. В общаге-то наркота и выпивон.
Мама была очень недовольна, что собирают деньги: кроме добровольного пожертвования родительский комитет собирал на подарки. Но мама успокаивала папу:
− Нормально. Все вообще абонементы покупают. Сто тридцать рублей один сеанс. А у Василя три тренировки в неделю. В пересчёте на одно занятие – пятнадцать рублей всего.
Нам приходилось платить и за Михайло Иваныча, папа удерживал у дяди Вани из зарплаты. Дядя Ваня ругался:
− Зачем платить? Вона: плавай себе на море под боком.
− Ага, − бубнил Михайло, потирая распухшую скулу, − зимой поплаваешь.
− Да всё равно пропьёшь, Вань, − говорил папа и добавлял мамино любимое слово: − Нормально.
Мне понравилось в бассейне, я быстро привык. По субботам Максим Владимирович оставлял меня со средней группой − и я плавал два сеанса подряд. В раздевалке и душевой я сталкивался с парнями из абонементных групп. Странные, не похожие на наших поселковых пацанят мальчишки. Я впервые видел столько толстяков. У нас в Семенном, да и в школе, все были подвижные, моторные, гоняли в футбол на поле. У школы площадка – там все лазали по чугунным облупленным конструкциям, подтягивались на перекладине, «шагали» по брусьям. У нас западло считалось не подтянуться, не перемахнуть через скамейку в школьном дворе, пусть ты и разобьёшься попервоначалу в хлам – трусливый пацан не мог дружить, например, со мной или с Михайлой. У нас в посёлке сила ценилась выше всего, по весне старшие бились улица на улицу, просто размяться, помахаться до первой крови. Среди абонементников я узнал парня – того, кто бросался в меня летом камешками и хвалился. Он тоже меня узнал и выпихну из душа. После тренировки мы с Михайло тщательно мылись. Михайло поначалу плохо мылся, то есть вообще не мылся, даже не ополаскивался. Дома он, понятное дело, тоже не мылся, у него началась «чесотка» − так называл своё состояние Михайло Иваныч. Он приходил в школу с шеей расчёсанной до крови, запястья в каких-то страшных цыпках. Белла Эдуардовна однажды не пустила его на сеанс, выписала мазь с антибиотиком, не отставала, пока у Михайло не зажила шея и запястья, бубнила и бубнила о кожных болезнях, вынося нам мозг. И теперь мы мылись тщательно. Вот я поставил в душе мыло и мочалку на полочку, снял шапочку и очки, и тут меня позвал Максим Владимирович. Я выскочил из душевой. Тренер договорился со мной о субботе, чтобы я пришёл пораньше на 45 минут – с совсем старшими, тринадцать-четырнадцать лет. Я кивнул и побежал в душ. Под моим душем тот вредный пацан. Мылся и мылся. Я же ушёл из душа. Но мои мыло и мочалка валялись на полу. Михайло крикнул мне:
− Вась! Это он выкинул. Я ему всё высказал, а он говорит…
− Ё-ё твоё, место моё, − сказал пацан.
Я промолчал, поднял мыло, ополоснул мочалку, стал мыться в другой кабинке – почти все души к этому времени освободились. Ну, думаю, придурок, слабак, фиг с ним.
Вышли с Михой из душа. В раздевалке ревёт мелкий. Оказывается, тот же пацан закинул нарукавники мелкого (они на абонементе плавали в нарукавниках) за шкафчики. Я был первоклассник, но жёстко сказал:
− Достань малышу обратно, понял?
− Чё надо? – пошёл на меня этот дебил, взял мои трусы (я их как раз из рюкзака достал и на скамейку положил) и − раз! − закинул за шкафчики. Михайло Иваныч, тихо и неожиданно для врага, накинулся сзади. А я накинулся спереди.
Парень сделал мне подсечку – я больно упал на спину.
− Голову лечите, клопы, − парень теперь пошёл на Михайло Иваныча.
Я ещё не очухался от падения, но вскочил, и ударил парня пяткой в копчик – меня так папа учил. Парень взвизгнул, заскулил, схватился за крестец, присел на банкетку, тут же вскочил как ужаленный, начал нас оскорблять. Михайло Иваныч ответил как всегда предельно ясно. Мы стали отодвигать шкафчики, чтобы достать нарукавники мальцу и отыскать мои трусы, а парень побежал жаловаться уборщице тёте Рае. Она появилась со шваброй, держа её наподобие штыка, но тут же убрала, увидев, что обидчики – мы с Михайлой. Уборщица всегда без всяких там стеснений заявлялась в мужскую раздевалку – следила за дисциплиной, разруливала драки. Уборщица-то ладно. Мамы некоторых хлюпиков тоже заходили в раздевалку − дяденьки сразу начинали прикрываться, Михайло Иваныча визиты чужих мам веселили. Он говорил:
− Она припирается, а они ещё прикрываются. Да пошла бы она… Баба – существо неразумное.
Мелкий объяснил уборщице, что произошло. Он стоял зарёванный и напуганный. А наш и его обидчик, быстро переоделся, и, пока мы всё рассказывали, прошмыгнул на выход.
Я говорю «мелкий», «малец с нарукавниками», но на самом деле плавать в бассейне учили с шести лет. Нам с Михайло было по семи, но мы считали себя настоящими пловцами – не чета этим барахтающимся «окорочкам». Пацан-то с абонемента был сытенький, выше Михайло Иваныча, а плавать не умел. Но это совсем не значит, что надо его нарукавники за шкаф закидывать.
Больше мы того нахала в бассейне не видели. Мама сказала:
− Абонементники постоянно меняются. Могут месяц походить, потом не ходить. Может, его Белла не пропустила: грибок, лишай, может он с Иголки, из неблагополучной семьи.
Мы с Михайло его прозвали Перелом-Копчика, иногда вспоминали, но думали, что не встретим его больше.
Мы нормально тренировались с Михайло Иванычем, ругались с пацанами из группы, не без этого. Ростик, Ростислав Дубинский, хватал нас за ноги на воде, врал, обвиняя – якобы мы не доплываем задание. Михайло Иваныч всегда начинал спорить. А я просто плыл ещё два бассейна. Пока Мих ругался, пока Максим Владимирович приводил спорщиков в чувство и объяснял ошибки, я как раз успевал проплыть ещё сто метров. Ну вот, думал, теперь девятьсот, нормально. Я обожал считать бассейны1, я и в жизни любил считать. Я считал строчки в букваре и буквы в слове. Я считал гласные и согласные. Мягкий и твёрдый знаки я выделил в особую категорию «несогласных» − это как мы с Мишаней.
5. В лагере
Новогодние соревнования я выиграл, на весенних занял два первых и одно второе место. Я никак не мог научиться технично делать сальто на триста шестьдесят у бортика, терял драгоценные десятые. Максим Владимирович ругался и обзывал «всадником без головы». Я и сам понимал: сплоховал. Вот Михайло Иваныч быстро научился поворот делать. Но у Михайло Иваныча не заладилось с техникой. Особенно с батом2. Максим Владимирович сказал, что Мих – прирожденный брассист. А брассисты – они только по брассу хорошо, им больше ничего не даётся. И как назло именно в брассе никакие сальто у бортика не нужны. Максим Владимирович после соревнований ругался на меня из-за сотки на спине. Я не рассчитал поворот, впечатался башкой со всего маха и обратно поплыл, оттолкнувшись ногами. А сопериники плыли − кувырок рассчитывали, оборачивались…
До сих пор «спина» – мой любимый вид, плывёшь себе по Мирошевскому морю: гребок, гребок, думаешь о своём, о жизни, да много о чём, хоть пять километров можно намотать.
Летом мы поехали в лагерь. Путёвка стоила дорого. Но родители увлеклись моим плаванием, и очень обрадовались. Проникся плаванием и дядя Ваня, отец Михи. Он так болел за нас на соревах, так свистел – все, кто сидел поблизости, стали затыкать уши и освободили места. И наши родители болели гордой одинокой тройкой.
Дядя Ваня денег для Михи не пожалел, тем более весна, сезон работы – дачники приезжали и всем надо было подправлять их старые печки. Мы покатили в лагерь к морю. Наш тренер почему-то не поехал. В лагере заправляла Анна Владимировна. Она оказалась настоящей ведьмой, мигерой и фурией, впрочем, я такого и ожидал – у нормальной тётки никогда не будет такого подлого сына. Мигера будила нас в шесть утра. И мы бегали вдоль моря по песку. По песку бегать тяжело, доложу я вам: ноги вязнут, на кроссовках стирается до дыр ткань. Дальше − первая тренировка. В семь утра вода! Вода в бассейне ледяная – он же под открытым южным небом. Дальше, после завтрака, когда припекало, шли на море. Некоторые ребята тихонечко сбегали с пляжа и шли в магазин. Анна Владимировна почти никогда не замечала этого. На пляже она занималась своей грудной дочкой, за нами следил её муж – Никник. Он был странный, этот Никник, всё говорил, что мы избалованные, и нас надо бить розгами как раньше испокон веку было. Никник иногда рассказывал нам о подводном плавании, о клубе «Динамо», где он занимался и даже был призёром в юниорах. А вообще Никник был военным на пенсии, отслужил где-то далеко, рядом с Монголией, а во Дворце спорта заведовал тиром и всё время сидел в директорском кабинете.
Старшаки постоянно сбегали в магазин из-за дикого голода. Кормили нас не очень, но мы с Михой были довольны, нам хватало, мы ж тогда были мелкие. Комнаты на четверых. Иногда случались тёрки и драки. Мы жили с братьями Демьяном и Ростиславом Дубинскими. Ростик был наш ровесник. Демьян старше тремя годами, а роста они были одного и очень похожи – как близнецы. Демьян бесился, когда спрашивали про близнецов. Братья ненавидели друг друга. Демьян оказался со странностями. На тренировках постоянно жаловался, что болит голова (и она у него действительно болела!). На пляже Дёма лепил из песка потрясающие скульптуры: волшебных рыб и драконов. Вечером он не бежал на дискотеку, ходил по аллее и бормотал. Я спрашивал: чего это он? (Я тоже не ходил на дискотеку и тоже ходил по алее, любуясь звёздным небом.) А Дёма отвечал:
− Не мешай. Я думаю, что завтра слепить.
Ростик, полная противоположность, вообще никогда ни о чём не думал, компанейский и общительный, помешан на всём американском: на звёздных войнах, боевиках, мультиках. Ростик ненавидел Стёпу, сына Анны Владимировны. Стёпу в лагере все возненавидели: он дразнился едой – конфетами, которые ему давала мама. А мы с Михой наоборот сдружились в лагере со Стёпой, не без драк конечно, но общались. Ни я, ни Мишаня не любили обычный шоколад. Мы любили мороженое и белый шоколад. Мороженое Анна Владимировна запрещала всем, включая мужа Никника. А конфеты, которые Стёпа развёртывал напоказ, были из обычного шоколада и с тёмной начинкой.
Стёпа иногда приходил к нам в комнату, он во все комнаты заходил и потом докладывал маме. Как-то Стёпа увидел, что Ростик собирает конструктор. (На территории лагеря можно было купить игрушки.) Это был какой-то американский самолёт. Я лежал уставший после второй воды3, отключился и не сразу разобрал, что идёт спор.
Ростик кричал:
− Американцы самые сильные!
А Стёпа орал:
− Русские самые сильные!
Дёма умолял замолкнуть – у него болела голова.
Тогда Ростик стал шептать:
− Почему это русские самые сильные?
− Они войну выиграли, − стал шептать и Стёпа. – Гитлера победили.
− Это когда было, − сказал Ростик. – Сейчас всё равно американцы сильнее.
− Русские сильнее, − шептал Стёпа и вдруг обратился к нам с Михой: − Скажите, пацаны.
Мы с Михой тоже были за русских.
Тогда Ростик вдруг взбесился, как заорёт:
− Я с вами, дятлами, жить не буду, поняли?! Я от вас дебилов ухожу.
И побежал к Анне Владимировне. И тогда Анна Владимировна перевела Стёпу к нам в комнату, а Ростика – на Стёпино место, с другими пацанами.
Дёма был счастлив, он говорил про брата:
− Он достал, его из дзюдо из-за этих американцев выгнали, и из самбо, а он всё не успокоится.
Вообще-то Ростик был добрый, но скандальный и попрошайка. На линейках, если Анны Владимировны не было, Ростик срывал со Стёпы бейсболку, кричал:
− Американская? Нет! Китайская.
Начиналась беготня за кепкой и драка. Ростик дрался зверски, с приёмами из дзюдо, с мастерскими подсечками. Ещё Ростик быстро бегал, но и Стёпа бегал хорошо, тем более он был старше. Мы с Михой не защищали Стёпу, мы знали, что Ростик не будет калечить сына тренера. Мне почему-то в лагере стало немного жаль Стёпу. Его все прогоняли, он со всеми дрался. Он говорил картавя, невнятно и очень быстро, когда волновался. Я всё мог разобрать – у нас в посёлке поцаки ещё хуже говорили, но другие ребята переспрашивали, смеялись. Стёпа плавал лучше меня. Но я видел через воду: иногда не доплывал. Плыл на технике, технику ему мама поставило что надо. Нам все твердили, что главное – техника. Но, когда уставал, Стёпа становился каким-то червячным: начинал извиваться как червяк или новорождённый ужик. Как-то на утренней тренировке я его обогнал – мы всегда плыли на разных дорожках: группа Анны Владимировны занимала две дорожки, а группа Максима Владимировича, мы то есть, − одну. На нас Анна Владимировна и не смотрела никогда: хочешь – плавай, хочешь – нет. Она ругала только своих. У нас со Стёпой было негласное соревнование, и вот я его обошёл, я вообще упёртый и долго могу терпеть, пусть даже плечи-предплечья отваливались и ногу сводит. Стёпа остановился, не поплыл дальше по заданию, повис на бортике у тумбочки и долго о чём-то говорил с Анной Владимировной. Дёма нам потом рассказал (Дёма сидел рядом, на скамейке у бортика, у него как всегда болела голова, он не плавал), что Стёпа стал нести какую-то чушь: в бассейне жук, он его кусает. Анна Владимировна стала пытать: что за жук, где укусы. И Стёпа всё нырял на одном месте, показывая что хочет выловить жука. Дёма и Мишаня стали смеяться. А я не смеялся. Я понял: Стёпа не хотел мне проиграть. Он же был сильнее всех, а тут я его обошёл. Я заметил эту его слабину ещё раньше, на беге. Он бегал быстро первую половину смены. А потом, как только Ростик его обогнал, скис, стал срезать на поворотах, стал выбегать не с нами в группе, а пораньше – утром выходили из корпуса и бежали, никто никого не ждал, но многие друг друга ждали и бежали группами. Стёпа же стал бегать один, выходил пораньше.
В конце смены проводились общелагерные соревнования по двоеборью: бег и плавание, складывались очки. Я выступал в своей возрастной группе, Стёпа − в своей. Стёпа занял среди своей группы третье место, и я в своей – третье. Бегал я слабовато тогда, но в плавании, даже с неважными поворотами, был с первым временем. Стёпа очень радовался. Вечером, на костре, мы с Михайло и Дёмой отошли к морю, и я спросил:
− Почему Стёпа тогда утром на тренировке закосил, а на соревнованиях не боялся проиграть и вообще был рад бронзе?
Мишаня выразился в том смысле, что фиг его знает. А Дёма сказал:
− Вы же в разных возрастных группах.
− И чё?
− Чужим проиграть не обидно. Обидно когда своим.
6. Честно-нечестно
Когда мы осенью встретились со Стёпой в бассейне, он даже не кивнул мне. Михайло сказал, что падла был, падлой и останется, а Ростик сказал, что мы нужны были Стёпе только в лагере, и американцы всё равно самые сильные. И ещё, Ростик сказал, что Стёпа Михайло Иваныча боится: Михайло же за словом в карман не лез, а слово бьёт посильнее кулака – так нам в лагере говорил Никник. Представляете, если Стёпу в бассейне при всех кто-то оскорбит? В бассейне Стёпа звездил, не то, что в лагере.
Если честно, я страшно расстроился, что Стёпа перестал меня замечать. С Мишаней мне надоедало, мы ж с пелёнок вместе. Ростик ругался со мной, Дёма разговаривал очень редко, когда был в настроении, а Стёпа всегда чего-нибудь мог рассказать, он вообще любил поболтать, если его не передразнивали. В лагере он пересказывал книги. Такие он интересные рассказывал после отбоя истории: про собаку, с которой хотели взять плату за просмотр телевизора, про мальчика, которому привели в квартиру козу, про волшебные спички и кортик с ножнами. Мне не хватало Стёпы. Я злился на него и решил обязательно обогнать на соревнованиях – с осени мы оказались в одной соревновательной группе4.
На осенних соревнованиях в бассейне я опередил Стёпу. Я обошёл его и на комплексе5, и на кроле, и на спине. На комплексе меня, правда, дисканули6 за «неправильное отталкивание после поворота по технике «брасс». Но меня засёк папа, и я сравнил в протоколах своё и Стёпино время. На комплексе Стёпа стал третьим, на спине и кроле – четвёртым, а меня наградили и за спину и за кроль. В душевой Стёпа тихо сказал, как бы самому себе:
− Убью!
Я понял, что Стёпа не забудет и не простит. Ведь, если бы не мой дисквал, он в трёх видах стал бы четвёртым.
С сентября к сеансу плавания прибавился час ОФП. Мы играли в футбик в зале или на улице с группой Анны Владимировны. Максим Владимирович судил нормально. Но иногда судила Анна Владимировна. И тогда начинался «футбол без правил». Никаких «вне игры» и тэ дэ. Стёпа вообще мяч руками мог схватить.
Мишаня возмущался дико. Он кричал:
– Анна Владимировна! Так нечестно!
Анна Владимировна прерывала игру и говорила:
– А ты думаешь, всегда всё будет честно?
– Нет! – кричал Ростик. – По-честному всё не всегда. Но тут, Анна Владимировна, штрафной должен быть!
– Запомните все! – вещала Анна Владимировна в гробовую тишину, наступавшую после её истеричного свистка. – По-честному не то, что не всегда − никогда. Попомните мои слова.
Бои без правил, бррр, футбол без правил, после продолжался…
7. Битва
Осенью объявился в бассейне Перелом-Копчика. Если честно, мы перетрусили, так этот парень вырос. Я его вообще не узнал, это Михайло узнал. Парень делал вид, что не замечает нас, да и сеансы у нас совпадали раз в неделю. Но Михайло Иваныч предупредил:
− Будь начеку! Он нас пасёт.
А я ответил:
− Ладно.
В начале декабря была слякоть, весь Мирошев валялся по домам в гриппозной инфекции – так сказала Белла Эдуардовна. Людей в бассейне стало совсем мало. После сеанса, мы вошли в душ. И Стёпа с нами, и ещё трое наших. Когда мало людей, в душе раздолье разным игрищам. На этот раз шла битва «морковками» – скрученными полотенцами. Бились и большие парни, среди них – Перелом-Копчика. Я специально на сеансе подсматривал, как он плавал – просто позорище. Абонементники окорочка ещё те. Но в душевой отрывались по полной все.
Когда народу было очень много, или был бесёж, мы с Михой шли в раздевалку неополуснутые, сидели и ждали там, пока душ освободится. Нам бы и в тот раз уйти неополуснытыми, но Михина чесотка тогда могла вернуться! Да и потом − Михайло Иваныч… Его ж надо знать. Он любит понарываться, поважничать, покрасоваться. Если б не было зрителей, Мишаня может и не стал бы выёживаться. А тут… он прикрикнул на больших парней:
− Хорэ злобствовать, мужики. Дайте помылиться спокойно.
− Это ты-то, мылишься? − переключился Перелом-Копчика. Конечно, он только этого и ждал: в душевой мало людей, много места.
Он так хлестнул Мишаню по лицу и груди «морковкой», что Мих даже не обматерил его в ответ, о контратаке и речи не шло: Мих сел на корточки, закрыл лицо руками, так и сидел. Наши пацаны столпились вокруг. Стёпа пробежал в раздевалку.
Я хорошо знал своего друга. Я знал, что Мих сейчас придёт в себя и кинется на врага. Я стал обходить Перелома-Копчика сзади. У нас всё получилось. Мих взвизгнул, напал, укусил Перелома в плечо как Рикки-Тики-Тави Нага. А я одновременно с Михой повис сзади на плечах у врага. И тот поскользнулся и расползся на полу. Миха молниеносно повключал в душах кипяток, все выбежали в раздевалку, стали держать дверь. Но Перелом-Копчика так стал биться, что наши парни испугались и отошли, а мы с Михой не смогли вдвоём сдержать натиск. Перелом-Копчика ввалился и кинулся на меня, но я отпрыгнул. Тогда он что-то пошептал большим парням и стал одеваться. И я стал одеваться. Конечно нам надо было позвать на помощь уборщицу тётю Раю, или дядю Костю, или администратора… Когда после шло разбирательство, нас всё спрашивали, почему мы так не сделали. Но тогда мы не подумали об этом. А зря! Ведь год назад Перелом-Копчика первый позвал уборщицу, пожаловался, что «мелкие хулиганят»… В общем, все одевались молча. Когда я оделся, Перелом-Копчика ловко сделал мне подсечку, я грохнулся: на полу была лужа – Перелом выжал воду из полотенца. Михайло Иваныч побежал на Перелома, но тот двинул его локтём как-то удачно в лоб (у Миха потом шишка была, синий рог). И вдруг остальные большие парни стали бить дверцами шкафчиков: открывать-закрывать. Я просто оглох.
− Смываемся, − сказал Мих. – Это они, чтобы на нас сказать делают.
Мы выбежали из раздевалки в коридор, понеслись в фойе, там ждали родители. Мама спросила:
− Нормально? Ты такой мокрый…
И мы всё маме рассказали. Точнее – Михайло Иваныч. Не надо было маме ничего говорить.
− Раздевайся, − сказала мама.
Она расстегнула дублёнку, сняла с себя кофту, осталась в футболке, и я надел мамин свитер на голое тело. Стало сухо и колюче.
Миха сказал дяде Косте:
− Дядя Кость! Я там горячую воду не закрыл, хотел чтоб абонементник сварился.
И это тоже не надо было говорить. Без предупреждений Михи бы всё закрыли. Дядя Костя вздохнул, взял свои толстые резиновые рукавицы и пошёл в душ.
− Нет! Это надо же! – возмущалась мама. – Детей побили.
Какая-то бабушка сказала бесцветным голосом:
− Мальчишки всегда дерутся.
И я понял, что это какая-то хреновая бабушка. Никто не дерётся «морковками» просто так. Это очень больно, противно и унизительно. Просто так могут ледяной водой из шапочки окатить, просто ради прикола.
8. Продолжение битвы
Мама была в ярости. Она решила переговорить с нашим врагом. Нам пришлось ждать долго. Большие парни не выходили. Давно вернулся дядя Костя, давно уборщица вытерла лужи в раздевалке. Она и сказала:
− Голову сушат.
Ну, абонементники, что с них взять, сушили свои пакли – их бабули-дедули ругали, если волосы мокрые.
Подбежал Стёпа, впервые за три месяца обратился ко мне. Он был вертлявый и подскакивающий больше обыкновенного, радостный, жаждущий крови.
− Чё не уходишь-то?
Я молчал.
И мама молчала тяжело.
− Носки потерял, Анна Владимировна ругается, − забормотал Стёпа и юркнул к дяде Косте за стойку. Стёпы не стало видно: ящики с забытыми вещами стояли на полу. Но я прекрасно знал: Стёпа замаскировался, занял наблюдательный пункт. Он всё слышал, что потом произошло, весь разговор моей мамы с Переломом.
Стали выползать из раздевалки старшаки. С сухими, пересушенными до соломы, торчащими во все стороны волосами. Разбредались по диванчикам – надо же было переобуть шлёпки на сапоги − стоя абонементники не переобувались. В лом им было стоя, они ж абонементники. Один переросток подошёл к хреновой бабушке. Я был сражён. Такой здоровый парень и с бабушкой. А вот и Перелом-Копчика показался. Быстро оделся под тяжёлым взглядом дяди Кости, быстро переобулся под тяжёлым взглядом мамы − поспешно и стоя.
− Этот? – мама встала у входных дверей.
Я кивнул.
Мама сунула Перелому под нос мою мокрую кофту.
− Ты чё совсем? Нормально?
− А что я? – включил дурочку Перелом. Он смотрел на маму огромными пустыми глазами.
− Зачем ты его в лужу бросил?
− Кто? Я?! Я не бросал!
− Пропустите! − Это бабушка со своим переростком выходила из бассейна. От бесцветного голоса не осталось и следа. Он был железный, стальной. Требовательный и страшный. Мама посторонилась. Перелом прошмыгнул вслед за бабушкой и одногруппником. Да мама и не хотела с ним больше разговаривать, она не любила ругаться. Мы тоже вышли. Я видел, что Перелом идёт рядом с чужой бабушкой. Могло показаться, что он вместе с ними, что у бабули два внука-переростка. Они пошли вправо, на конечную, а мы взяли левее, на следующую остановку, чтобы не сталкиваться с ними. Шёл мокрый снег. Мама была без машины – она не успела «переобуться». А у нас в посёлке на лысой резине опасно, просто страшно: асфальт тогда был дрянной, в выбоинах, дорога леденела по вечерам в момент, искрилась в свете фар.
В автобусе опять встретились. Конечно же Перелом не мог предположить такого, иначе он не сел бы в автобус. Он конечно знал, что мы всегда на машине – ведь мы подвозили ещё Дубинских, их родители были заняты, папа – работой, мама – маленькой дочкой. Ростик и Дёма всегда были одни. Моя мама называла Дубинских «голодное племя». Они вечно паслись у витрин буфета. И когда приходили – паслись, и после тренировки – паслись. Ростик потом шёл ещё на балалайку в школу искусств, а Дёма на лепку туда же. Как они всё успевали, я не представляю. Но всё-таки они жили в городе, а мы подальше.
Перелом, пока мама расплачивалась с кондуктором, корчил независимый неприступный вид, а когда мама обернулась и посмотрела на него, стал пялиться нагло-нагло в ответ.
− Чё пялишься, чмошная рожа? – наш бесстрашный Михайло Иваныч, пошёл через проход, через чьи-то ноги к задней площадке.
Перелом на следующей остановке выбежал. Я так и не знаю: это была его остановка или он испугался моего друга. С улицы он стал строить маме уничижительные гримасы, показывать разные жесты. Это мама мне рассказала, я не видел. А бабушка, та, к которой приклеился Перелом, та, что сидела с переростком на сидении, всю эту картину в жестах наблюдала. И маме так высокомерно, как наша учительница по русецкому, говорит: