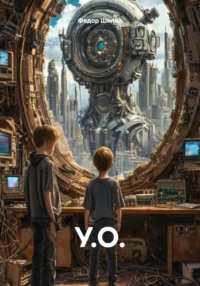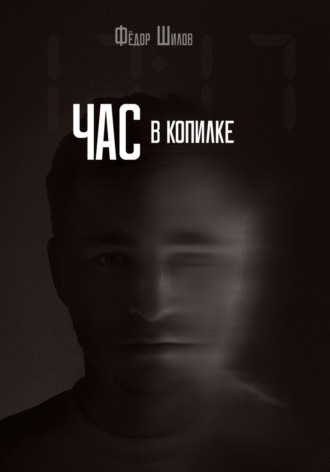
Полная версия
Час в копилке

Федор Шилов
Час в копилке
Марии Гевлич.
Она навела меня на размышления, необходимые для написания этой повести…
Максиму Шляхтину.
Он дал мне представление
о том, каким должен быть один из героев… И поделился с ним именем.
Олегу Седанцову – фронтмену группы «Пикчи».
Он помог мне создать строчки для песни «Нюдсы», упомянутой в повести.
Но не ищите такую в репертуаре «Пикчей»!
ГЛАВА 1
Осень 2023 года
Он не был ходячей катастрофой. Неудачливость Максима Таланова стоило бы списать, например, на леность его ангела-хранителя: отвести глобальные неприятности небесный заступник брался, а вот неустанная защита от бытовых неурядиц, похоже, в пакет услуг не входила.
В апреле будущего года Максим отметит шестнадцатилетие. Но уже сейчас он не выглядел нескладным подростком, вполне сформировался телесно и даже себе самому казался развитым гармонично. Не был он обладателем нестандартно маленькой для пацана стопы, но и называть лыжами или ластами его ступни тоже не стоило. Не попадал в разряд мальчишек с чрезмерно узкими бёдрами и длинными ногами, на которых днём с огнём не сыскать подходящих брюк. Рубашки его размера свободно продавались в отделе мужской одежды, шить на заказ ни разу не приходилось… И несмотря на это для Макса хождение по магазинам превращалось в пытку: стоило присмотреть подходящую модель обуви или брюк, как их тут же перед носом забирал кто-нибудь другой. Даже если на складе продавцам удавалось найти ещё одну пару, так она оказывалась с каким-нибудь существенным браком. Та же ситуация повторялась в соседних павильонах и в других магазинах. Поэтому на покупку кроссовок у Макса мог уйти целый воскресный день.
Все возможные «законы подлости» сбывались для Макса в полной мере. Автобусы отъезжали от остановки за несколько секунд до его появления, и погода моментально портилась, заставляя парня ждать транспорт под проливным дождём или колючим снегом. И да, именно в этот день куда-то девалась крыша с железной будочки, в которой можно было бы укрыться.
Максу ни в коем случае нельзя было мечтать о еде. Само собой, супермаркеты не пустели при его появлении, но суровая действительность вмешивалась довольно активно. Желанный лимонад ещё не успели расставить на полке, любимые шоколадные батончики отсутствовали по неведомой причине, объяснить которую не мог никто из консультантов. Других – завались! Миллион картонных коробок возле кассы, а нужные кончились. А ценники, о да, ценники оставались под пустыми полками и коробками. Словно ещё одно издевательское доказательство неосуществимости этой ничтожной мечты…
Бывало и такое, что лимонад всё же находился на месте и шоколадка – о, чудо – никуда не исчезала, так что Макс даже, осмелев, начинал представлять, как скрутит крышку с бутылки, будто тот чувак из рекламы («Жажда делает тебя другим») и сорвёт упаковку с конфеты («Твой голод – наша забота»)… Но неприятности подстерегали на кассе.
– Такого товара нет у нас в магазине, – улыбаясь, о да, чаще всего именно улыбаясь, отвечала сотрудница.
И Макс недоуменно смотрел на вожделенный товар, даже покрепче сжимал бутылку в руке, чтобы убедиться в её осязаемости и реальности. Вот же они – лимонад и батончик! Хоть сейчас ешь. Почему же их тогда нет?
– Ну, не пробивается твой товар, – уже без улыбки, раздражённо восклицала кассирша, – пишет: нет такого в базе. Проходи, не задерживай очередь.
А если товар всё же пробьётся, то на банковской карте почему-то не окажется средств, хотя Максимова мама ежевечерне пополняет счёт, как раз на тот случай, если сыну захочется купить пирожок или пакетик орешков. И Макс никогда не тратит много, с начала осени ему даже удалось кое-что скопить…
Макс уходил. В другом магазине купить желаемое, конечно, удавалось. Но за проделанную до него тысячу шагов парень успевал убедить себя в собственной ничтожности, бесполезности и абсолютной невезучести…
Максим был неглуп, но при этом учился посредственно. Виной нередких и очень обидных троек становилась невнимательность. Незамеченная описка при решении примера – и вот уже плюсы меняются на минусы, исчезают степени, появляются из ниоткуда посторонние нули после запятой… Слова в диктантах и сочинениях будто каким-то особым магнитом притягивали орфографические ошибки из чужих тетрадей. Сосед по парте мог бы написать «ёгурт», а он-то, Макс, с чего вдруг так исковеркал слово? Он-то знает, как писать верно… И в примере – он точно видел – был знак деления, откуда ж тогда в тетради умножение? И в задаче по физике стоило применить простейшую формулу, которую он прекрасно помнил, пока сидел за партой, и которая куда-то выветрилась, пока он шёл к доске… И в контрольной по химии всего-то и надо было перечеркнуть стрелку (диссоциация не идёт), а не изобретать новые неизвестные науке взаимодействия элементов.
Всё это он знал. Не просто оправдывал себя, нет. Он действительно прилежно изучал параграфы, готовился к урокам, не забивал на домашние задания, зубрил формулы, выполнял работу над ошибками… в которой допускал новые. Такие же нелепые.
«Одно слово – неудачник. Никчёмный и ненужный», – говорил он себе.
– Мам, я дома. – Макс скинул с ног кроссовки. Пора покупать другие, но это ещё один выброшенный день, поэтому мама уже третьи выходные подряд не могла вытащить его за покупками. Даже заказала несколько пар через интернет, но две из них не пришлись Максу в пору, а у третьей оказалась оторвана подошва.
– Привет, Масик. Свари себе пельмени. У меня через две минуты онлайн-консультация, – донеслось из маминой комнаты.
Марина Таланова – коуч и чаще всего работает дистанционно. Учит людей правильно вести бизнес – или как-то так. Макс особо не вникал. Знал только, что клиент коуча называется коучи́, но слово не особо прижилось в России. Об этом мама ему рассказывала, он помнил.
– Ох уж этот коучи! Что учи, что не учи! – порой восклицала Марина придуманную самостоятельно присказку. Это относилось к кому-нибудь особенно долго идущему к принятию решения. Таких, как помнилось Максу, у мамы сейчас было двое. Один из них её откровенно бесил.
– Я взорву дом или ошпарюсь кипятком, – привычно пошутил Макс, наполняя кастрюлю водой.
– Ты. Не. Взорвёшь. Дом. И. Не. Ошпаришься, – тоже привычно раздельно отчеканила Марина из комнаты, достаточно громко, чтобы сын её точно услышал даже сквозь шум льющейся воды. Она всегда говорила будто через точку, когда хотела убедить Макса в чём-то важном. Чаще всего убеждать приходилось именно в том, что в его жизни однажды случатся масштабные перемены, что он станет ловким, внимательным и что «Надо. Уметь. Видеть. Радость. В мелочах».
Раздался грохот.
– Крышка, – крикнул Макс в сторону комнаты, поясняя матери, что именно упало.
– Всё, сынок, я работаю, – ответила Марина, – добрый день, Николай…
– Добрый день, – услышал Макс искажённый динамиком голос маминого коучи и прикрыл дверь кухни.
Дом он не взорвёт. И кипятком не ошпарится. Разве что будет совсем уж неосторожен… В детстве скинул на себя утюг. Небольшой ожог на предплечье сохранился до сих пор. Но в целом опасных ситуаций удавалось избегать. Так что мама стопудово права: «Надо. Уметь. Радоваться. Мелочам».
Макс снял с магнитной полоски пару ножей. Поразмыслил. Вернул их на место. Взял из ящика для столовых приборов две ложки. Жонглирование не давалось ему, хоть тресни. Не стоит рисковать с ножами, ложки безопаснее. Но с другой стороны – опасность заставит его действовать решительнее, нет? Опасность должна подстегнуть и сдвинуть с мёртвой точки трёхнедельные тренировки. Подумать только, и правда: три недели, а толку – ноль. Не выходит у Макса плавное перебрасывание мячиков из руки в руку. Даже один мяч постоянно отлетает в сторону, а уж два и вовсе ведут себя, словно крылатые золочёные снитчи из известной истории про волшебника с зигзагом на лбу. Так-с, ножи точно – в сторону. А то заработает себе такую же молнию или другую какую-нибудь фирменную отметину…
Ясное дело, ложки тоже разлетелись в разные стороны, будто их дёрнул за лески подговорённый напарник.
– Но у нас же не клоунада, а жонглирование, – сказал себе Макс, собирая ложки с пола. Вода в кастрюле с пельменями вспенилась, плеснула через край и залила огонь. Макс чертыхнулся, выключил газ, поболтал в кастрюле шумовкой, решил, что даже если пельмени не доварились, то вполне сойдёт и так.
Из сушилки над раковиной он достал тарелку. Стеклянный диск с изображением трёх жёлтых тюльпанов выскользнул из рук, прыгнул в раковину, будто считая себя недостаточно помытым, и разлетелся на осколки.
– Всё в порядке! – крикнул Макс в сторону комнаты, представив, как мама, не отрываясь от монитора, сосредоточенно прислушивается к переполоху на кухне. Макс хотел убрать из раковины осколки, но тут же отдёрнул руку – на подушечке указательного пальца появился косой порез, сразу же спрятавшийся под крупной каплей крови.
Макс сунул палец в рот, ощутив солоноватый привкус.
– Тьфу ты, забыл посолить пельмени, – вспомнил он, но снова решил, что сойдёт и так.
Макс ел. Кровь на пальце уже не проступала каплей, а только слегка подсачивалась, наполнив порез до краёв, но не вытекая дальше.
Мама говорит, что себя надо любить. И Макс, кажется, даже любил. И принимал. Внешне он себе нравился, хотя и устраивал время от времени тщательный осмотр. Зеркало в его комнате занимало всю внутреннюю сторону дверцы шкафа. Когда мамы не было дома – чтобы родительница уж точно не заглянула к нему в комнату – Максим раздевался до трусов, а иногда и полностью, напрягал мышцы груди, плеч и бёдер, придирчиво всматривался в угревую сыпь – не так уж её и много, но кое-что он, несмотря на запреты, принимался тут же давить.
Макс улыбался себе в зеркало, оглядывал ряд белых ровных зубов. Если свет падал сбоку, то глаза казались разноцветными: один небесно-голубым, второй более насыщенного оттенка синего, но так лишь казалось. Цвет обеих радужек был одинаковым и только в ярких лучах заметно светлел. Тёмные, почти чёрные, волосы Макс зачёсывал назад, не любил геля, поэтому частенько на макушке его торчал задорный петушок.
В общем, он находил себя довольно симпатичным. Не эталон красоты, но и не сказать, что лицо собирали «с миру по нитке». Ни ярких веснушек, ни оттопыренных ушей, ни очков – короче, ничего такого, за что в школе могли бы дразнить. Поводов для насмешек у одноклассников и так хватало: Макс то поскользнётся и растянется на полу по дороге к доске, то вдруг ни с того ни с сего шариковая ручка брызнет ему в лицо чернилами, то линейка выскочит из рук и, описав затейливую дугу, улетит на соседнюю парту. За все эти трюкачества Макса в классе звали циркачом. А ещё за то, что он и правда мечтал выступать на арене. Вот и тренировался. Поступать готовился.
«Ты. Поступишь.», – прозвучали в голове мамины слова.
Она всегда пыталась развеять его сомнения, но даже привычные точки в её речи не убеждали Макса. Он кивал, но в мыслях держал другой ответ:
«Нет. Я. Провалюсь. Одно слово – неудачник. Ненужный и никчёмный».
Макс подбросил в воздух одновременно вилку и кусок хлеба. От вилки разлетелись в разные стороны брызги сметаны, от хлеба – мелкие крошки. Оба предмета в итоге оказались на полу.
– Не быть мне жонглёром, – обречённо вздохнул Макс, заталкивая хлебные крошки босой ногой под кухонный диванчик. На испачканную сметаной клеёнку он глянул – не стоит ли протереть тряпкой? Мама бы потребовала, чтобы вытер. Но вроде капли не очень заметные…
ГЛАВА 2
Мысли, которых у меня никогда не было, из дневников, которых я никогда не вёл
Что было бы, если?… Если бы я выбрал другую дорогу и пошёл по стопам своих бабушки и мамы? Если бы, так сказать, продолжил брать записочки из белой шкатулки?
Таких мыслей в моей голове никогда не возникало, поэтому записей, подобных тем, что вы сейчас читаете, я бы никогда не создал. Ещё и потому, что мне было бы лень писать. Возить ручкой по странице или печатать на клавиатуре – зачем? Просто для того, чтобы с кем-то поделиться своей историей… Зачем – это самое страшное слово на свете. Если ты его задал, то, возможно, после этого уже никуда и не двинешься. Раз ты размышляешь, значит, ещё не принял решения, значит, стремление что-либо совершить не так уж и велико. Так во всём – в реализации планов и даже в человеческих отношениях. Стоит спросить: зачем мы вместе? И дальше отношения могут рухнуть.
Наверное, я всё же лукавлю, когда говорю, что мыслей, которые я изложил бы в несозданных мною дневниках, никогда не возникало. Но так мне легче. Легче считать, что я прожил такую жизнь, о какой мечтал. Нет, сам бы я никогда не написал дневников, но вряд ли я могу запретить писать их своей совести. Я редко позволяю ей выныривать из глубин подсознания, но уж если она показывает на поверхности свою крысиную морду, мне остаётся только прятаться от её острых, нечистых зубов. Поэтому я всеми силами держу её за горло у самого дна, пусть там захлёбывается. Разговаривать мне с ней не о чем!..
Мои бабушка и мама были со странностями. Знаете, они из тех, кто вечно восторжен и радостно возбуждён, словно у них проблемы со щитовидкой. А, может, у них и были проблемы со щитовидкой. Чёрт их разберёт. Я что, доктор, что ли?
Они были безмерно активны. Всегда старались осчастливить всех вокруг, создать праздничное настроение на ровном месте, глубоко проникались чужим горем. В общем, они были из тех, кто всегда и всем старается говорить «да», лишь бы не обидеть. Как по мне, именно такие люди первыми и втыкают нож в спину. Те, кто на всё соглашаются, однажды по глупости или неосторожности подтвердят своё согласие на предательство или убийство. Но не мне их судить, тем более что они так никого за жизнь, кажется, и не предали. И уж тем более не убили. В отличие от меня.
Готов поспорить, они ни о ком ни разу не сказали дурного слова и не пожелали окружающим зла. Во всяком случае, я такого не припоминаю. Можно ли вообще прожить жизнь и ни разу никого в сердцах не обругать? И рассматривать ли случай с хирургом Султановым как исключение из этой вечной, непогрешимой святости? О хирурге Султанове я ещё расскажу позже, эта история стала в нашей семье притчей во языцех.
Могу смело сказать, что мои мама и бабушка были добрыми волшебницами. Иных слов и не подберу. Они были вихрями, неразряжаемыми источниками энергии, неиссякаемыми ключами идей и вдохновения. Про таких говорят – шило в заднице.
Признаюсь, бодростью и жизнерадостностью они меня… раздражали. Нет, не всегда, конечно. Пока был мелким, восхищался. Гордился даже. Они первыми вызывались украсить группу в детском саду или школьный класс к Новому году. Помогали в уборке листьев, репетировали со мной и одноклассниками сценки к различным мероприятиям, сопровождали класс на экскурсию, состояли в родительском комитете и охотно соглашались на любую общественную работу. Она давалась им легко. Казалось, что листья и прочий разбросанный в школьном дворе мусор сам прятался в пакеты, мишура, будто живая, серебристыми змейками заползала по занавескам и обвивала карнизы, гирлянды, принесённые ими, никогда не перегорали и работали исправно, будто надумали сопровождать меня на протяжении всего школьного пути. Кажется, их ни разу за всё время моей учёбы не меняли: как хранились они в картонной коробке для праздничных игрушек, так, возможно, и до сих пор хранятся, заряженные доброй энергией моей родни. Или уже потухли, с лихвой нахлебавшись моей – отнюдь не светлой?
Это сложно объяснить, но многие, глядя на работу моих мамы и бабушки, порой восклицали:
– Вроде бы всё, как у всех, а будто светлее у вас в классе. И огоньки веселее.
– Всю душу вложили, – отвечала бабушка.
Но всю – вряд ли. Иначе бы не хватило потом на многие другие дела. А хватало!
На экскурсиях класс при них вёл себя тихо, даже отъявленные хулиганы не матерились и не отбегали от колонны одноклассников покурить. При этом ни мама, ни бабушка не делали никому замечаний.
Невероятными получались и праздники, устроенные для меня. Им бы работать аниматорами – точно собрали бы все деньги мира и всю детскую радость на свете. В их придумках неизменно участвовали дедушка и папа. Бабушка писала сценарии, а потом наряжала всех гномами, эльфами, героями популярных сериалов. И выглядели мои родственники не смешно и нелепо, а даже, я бы сказал, профессионально, будто учились на актёрском, а костюмы для них изготавливал не иначе целый пошивочный цех – такие они были красочные, яркие и всегда по размеру. Не просто занавеска на талии намотана, не старый чулок вместо колпака и не картонная маска на лице, а настоящий грим. И это при том, что в нашей семье не было какого-то заоблачного достатка. Шутки бабушка придумывала модные и современные, я никогда не испытывал чувства, хм, кринжа, перед друзьями, когда начиналось представление, наоборот, знал, что всё будет круто. Действо нередко сопровождалось использованием пиротехники и всякими спецэффектами. Один раз даже раздобыли где-то дым-машину. Из белёсых клубов появился дедушка в костюме Хоттабыча и вручил мне подарок.
– Как? – только и прошептал я. Это был набор фигурок, изображавших героев нашумевшего мультсериала. После я узнал, что таких не было даже у ярых фанатов. Серию только запустили в производство и не всякому было доступно такое богатство.
– Волшебство, – только и отвечали родственники.
Как им всё удавалось, я долгое время не знал. Думал, что они просто светлые, искренние, добрые люди. То, что у них и правда были сверхспособности, я выяснил только в день своего совершеннолетия.
Оказалось, что ровно пять минут в месяц мама и бабушка могли загадывать неограниченное количество желаний.
– Если прямо в свои знаковые пять минут загадывать, – рассказывала бабушка, – то желания исполняются максимально точно, быстро и чётко. И может исполниться что-то даже совсем фантастическое. Если же это время тратить постепенно в течение месяца, то могут быть небольшие задержки и осечки. Но это всё только мои теории.
С кого началась эта, хм, генетическая аномалия, ответить не возьмусь. Бабушка говорила, что в таком заметном варианте возможность исполнять желания у неё в роду прежде ни у кого не проявлялась. Разумеется, за семь поколений назад она бы не поручилась, но о ближайшей паре колен могла рассказать подробно. Вот так, например, моя бабушка рассказывала о своей:
– Она никогда вслух ничего не просила, но была рукодельницей. Такой, о каких говорят – «золотые руки». Сядет ли шить, вязать, рисовать – работает ловко и споро, петелька к петельке, стежок к стежку, штрих к штриху. Возьмётся готовить – руки над разделочной доской порхают. Станет пирожки защипывать, так будто на молнию их застёгивала – вжик и готово. И не разлепятся, начинка не вытечет. Её вообще тесто любило, всегда вовремя поднималось, получалось воздушным. Бабушка над ним и впрямь колдовала, даже нашёптывала ему что-то ласковое. Наверное, так у бабушки дар проявлялся. А мама моя – твоя прабабушка – каждый вечер вставала у окна, смотрела на клонящееся к закату солнце или на падающий в фонарном свете снег и говорила: «Спасибо за чудесный день! Завтрашний будет не хуже». Дни-то выпадали на её долю всякие, не то, что чёрным цветом в календаре закрасишь, а вырвешь лист и сожжёшь, лишь бы не вспоминать. А она всё равно благодарила. Скажут про неё плохо – пожмёт плечами: никто не обязан о тебе всегда только тепло отзываться. Перейдут дорогу поперёк (в прямом или переносном смысле), собьют планы – опять воспринимает это мудро: никто не обязан ходить с тобой в одном ритме и направлении, люди разные. Ненастных дней и правда в нашей семье было мало. Я эту привычку лишь отчасти переняла, «спасибкала» от случая к случаю, когда и впрямь что-то радостное случалось. Ни о каком даре и не задумывалась. Если бы не Настенька, то и не догадалась бы, что мы с ней особенные.
Настенька – это моя мама. Она о своих необычных способностях тоже узнала не сразу. Бабушка ей, как и мне, раскрыла свои теории только в день восемнадцатилетия, а до этого до-о-о-лго за ней наблюдала, всё удивлялась, какой дочь везучей уродилась. Удивляться и правда было чему.
Скажет Настя в юности:
– Не хочу никакой билет, кроме шестого, учить. Чувствую – его и вытяну.
Обычно его и вытягивала. Но сбои всё-таки случались: понадеется на удачу, а билет достанется не тот. Добро пожаловать на пересдачу!
А ещё раньше – в детстве – могла топнуть ножкой, раскапризничаться: подавай ей куклу, какую в магазине недавно видела. Бабушка только начнёт уговаривать, мол, и денег лишних нет, да и магазин закрыт уже. Хорошо бы до праздника подождать – дня рождения или Нового года. А она всё своё: хочу, значит, будет, вот прям сию секунду. И возвращался её папа – мой дед – с работы, и кричал с порога:
– Настёна, премию получил. Проси, что хочешь!
– Да закрыто всё! – говорила моя бабушка.
А они шли. И магазин почему-то ещё работал, и куклы были в наличии.
Но и по-другому случалось: исплачется в магазине, изведёт всех, сама до заиканий себя доведёт, маму – до белого каления. А волшебства не произойдёт. Не появится заветных рублей, не будет возможности купить понравившуюся игрушку…
Тут-то и пришло бабушке в голову обращать внимание на дату и время исполнения дочкиных хотелок. Так и вывела закономерность. В полной мере все Настины желания исполнялись, если она загадывает их второго числа любого месяца в 17 часов 50 минут.
Стала бабушка и себя проверять, искать своё «знаковое» время, как она выражалась. Начала с близкого к дочкиному. Второе число 17:50, потом 17:55… Потом выбирала случайный день и несколько конкретных пятиминуток, чтобы и выбор был, но при этом не запутаться. Загадывала что-нибудь нарочно сложное, но ни в коем случае не злое. Ну, например: пусть Серёже (деду моему) на работе галстук подарят, зелёный, с большими разноцветными кляксами. Она подобный в кино видела. Иностранном. В их городе такого в магазине не найти уж точно.
Процесс поиска знакового времени шёл не быстро. Больше двух-трёх раз в день бабушка про пёстрый галстук старалась не думать. А если случайно подумалось, тут же смотрела на часы.
В итоге наметились варианты. Число оказалось третье. А вот время пришлось перепроверять – 17:45, 18:30 или 19:55.
Дед мой однажды и правда пришёл домой в подаренном галстуке с аляповатым рисунком. Бабушка напугалась, капель сердечных выпила, но эксперимента не бросила. В следующем месяце третьего числа бабушка в каждую из пятиминуток загадала разное: в 17:45 – Насте прибавку к стипендии (она тогда уже студенткой была, на медсестру училась), на 18:30 – дефицитные билеты в театр, за которыми километровые очереди выстраивались, а на 19:55 – красивую и дорогую брошь. Купить бы она себе такую не решилась: уж больно цена кусалась.
В тот вечер дед мой принёс те самые билеты. На работе выдали.
Так и выяснилось окончательно, что знаковое время у матери и дочери отличается всего на один день. Бабушка и дальше подмечала: мало того, что она может исполнять желания, так ещё и растягивать удовольствие получается. Скажем, в мае не прокутила разом все пять минут, значит в июне может уже десять минут подряд «волшебничать».
– После этого я стала очень аккуратной с желаниями. Даже книгу расходов завела. Только не рубли и копейки там считала, а потраченные на желание минуты и секунды. Прошепчу иногда случайно: вот бы сапоги новые, модные. Ойкну, пойму, что израсходовала несколько секунд из своих знаковых пяти минут. Тут же в книгу данные внесу. Настеньке эту привычку привила.
Остальные бабушкины истории я слушал в пол-уха, а про исполнение желаний всё подробно выспросил. За восемнадцать лет моей жизни у родственниц была возможность вдосталь за мной понаблюдать. Да я и сам знал, что очень удачлив. Не в курсе был всяких теорий о «знаковом времени», но бабушка и мама его для меня высчитали – четвёртое число каждого месяца в 13:35. А ещё бабушка однажды мне тихонько шепнула:
– Ты сильнее меня и Насти…
И напомнила историю с хирургом Султановым.
ГЛАВА 3
Марина заглянула к Максу в комнату.
– Валяешься? Уроки сделал? Жонглировал сегодня?
Макс, босой, лежал, закинув ногу на ногу, на незаправленной постели в уличных джинсах и домашней футболке. Марина никогда не могла понять этой привычки сына: придя из школы, переодеться по пояс сверху, пропустить «брючный» этап, потом снова вернуться к процедуре «одомашнивания»: стянуть с себя носки – спасибо, что не один, а оба сразу, бросить их фиг знает где и завалиться на спальное место. Не сказать, что бельё у Макса идеально чистое: заставить его скинуть комплект в стирку было той ещё задачей. Вдевать одеяло в пододеяльник он тоже порой ленился, укрываясь ими по отдельности – в зависимости от температуры в комнате. И всё же привычку валяться на простынях в грязных штанах Марина не одобряла. И даже порицала. И даже вслух. Но всё без толку.