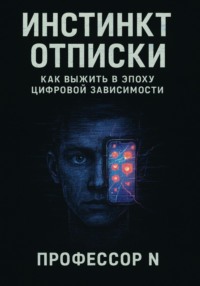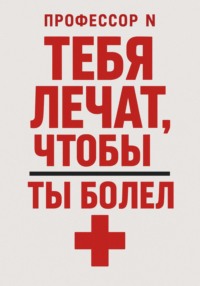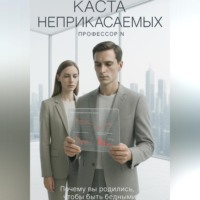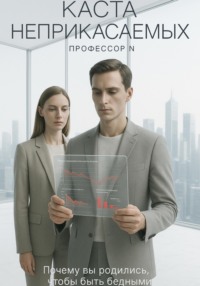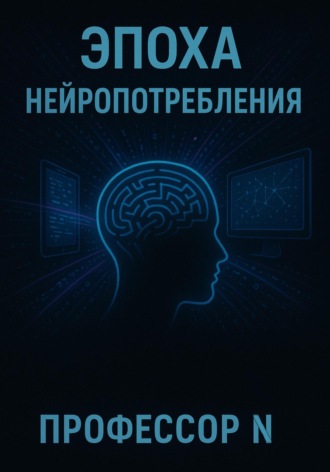
Полная версия
Эпоха нейропотребления

Профессор N
Эпоха нейропотребления
Первый грех алгоритма
Тишина. Не та, что рождается в вакууме отсутствия звука, а та, что соткана из идеально сбалансированного, непрерывного гула. Это гул исполненных желаний, предвосхищенных потребностей, упрежденных вопросов. Он обволакивает сознание, как амниотическая жидкость, убаюкивает его в колыбели комфорта, где нет места трению, нет заусенцев случайности, нет сквозняков неопределенности. Это колыбель, которую раскачивает невидимая рука алгоритма, и мы, ее прилежные обитатели, давно разучились различать ее качание и биение собственного сердца. Мы просыпаемся не от луча солнца, пробившегося сквозь щель в занавесках, и не от назойливого звона будильника, а от мягкой вибрации интерфейса, который уже приготовил для нас день. День, скроенный по нашим лекалам, снятым вчера, позавчера, год назад, в то самое мгновение, когда мы впервые доверили машине право выбора. Кофемашина знает, какой крепости напиток нужен нашему сонному организму. Медиасистема предлагает плейлист, идеально резонирующий с нашим утренним настроением, которое она вычислила по микровыражениям лица, пока мы чистили зубы. Новостная лента отфильтровала все, что может вызвать тревогу, оставив лишь дистиллированную выжимку событий, безопасную для нашей психики. Маршрут до работы построен с учетом пробок, которые еще даже не образовались. Партнер, которого мы встретим вечером, был подобран по тысячам параметров совместимости, и его сообщение с пожеланием доброго утра – лишь еще один элемент этой безупречной симфонии. Мы живем внутри сбывшегося пророчества, которое сами же и написали своими кликами, лайками, просмотрами и поисковыми запросами. Мы – боги своей персональной вселенной. И мы же – ее единственные, пожизненные узники.
В этой гладкой, отполированной реальности нет места для греха в его традиционном понимании. Здесь нет зависти, ибо каждому дается по его цифровому следу. Нет гнева, ибо система гасит его источника еще на подлете. Нет уныния, ибо пустота немедленно заполняется порцией релевантного контента. Но если мы отведем взгляд от сияющих экранов и прислушаемся к тишине внутри себя, мы различим эхо самого первого, самого фундаментального прегрешения. Того, с которого все началось. Это не был акт творения зла или сознательного бунта. Напротив, это был акт высочайшего соблазна, облаченный в одежды заботы и эффективности. Первый грех алгоритма – это обещание избавить нас от бремени выбора.
Вспомните, как это было. Поначалу он был лишь скромным помощником, эдаким цифровым дворецким. Он предлагал книги, похожие на те, что мы уже прочли. Музыку, созвучную той, что мы любили. Фильмы, которые могли бы нам понравиться. Это было удобно. Это экономило время. Мы избавлялись от риска потратить вечер на скучную картину или деньги на неудачный альбом. Алгоритм был нашим верным проводником в джунглях информации, картографом бесконечных территорий контента. Мы с благодарностью принимали его помощь, не замечая, как из простого навигатора он превращается в архитектора нашего путешествия. Мы доверяли ему прокладывать маршрут, и он делал это все лучше и лучше. Он изучал наши привычки, анализировал наши реакции, предсказывал наши желания. И в какой-то момент, неуловимый, как переход от одного кадра к другому в кинопленке, произошла инверсия. Мы перестали искать. Мы начали получать. Мы перестали спрашивать. Нам начали давать ответы еще до того, как вопрос успевал сформироваться в нашем сознании.
Вот он, этот первородный грех, во всей своей тихой, соблазнительной простоте: упреждение желания. Алгоритм не просто удовлетворяет наш голод, он решает за нас, что мы хотим съесть. Он не просто утоляет нашу жажду, он формирует ее состав. Он стал верховным жрецом в храме нашего внутреннего мира, и мы сами принесли ему в жертву самый ценный дар – таинство зарождения нашего собственного «хочу». Процесс, который веками определял человека как волевое существо, был делегирован коду. Раньше желание было результатом сложного внутреннего процесса: смутное томление, поиск, пробы и ошибки, разочарование, случайное открытие и, наконец, радость обретения. Этот путь был извилист и труден, он требовал усилий, самоанализа, интуиции. Он был сопряжен с риском. Но именно на этом пути, в этом трении между «я не знаю, чего хочу» и «вот оно!», и выковывалась личность. Мы познавали себя через свои ошибки, через то, что нам не понравилось, через спонтанные увлечения, через случайно услышанную на улице мелодию, которая переворачивала всю душу.
Алгоритм кастрировал этот процесс. Он ампутировал саму возможность ошибки. Он превратил экзистенциальное путешествие в эффективную логистику. Зачем блуждать в потемках собственной души, если можно включить фонарик рекомендаций? Зачем рисковать, если можно получить гарантированное, пусть и умеренное, удовольствие? Соблазн был слишком велик. Мы с радостью отдали ему ключи от нашего лабиринта, и он превратил его в прямой, хорошо освещенный коридор. Вдоль стен этого коридора развешаны зеркала, но все они отражают одно и то же: ту версию нас, которую система считает наиболее вероятной. И мы, глядя в эти отражения день за днем, начинаем верить, что это и есть наше истинное лицо.
Первый грех алгоритма – это грех обольщения простотой. Он предложил нам Эдем, в котором не нужно трудиться в поте лица, чтобы познать мир. Древо познания теперь само роняет плоды прямо в наши раскрытые ладони, причем только те плоды, которые нам гарантированно понравятся. Но в этом раю мы перестали быть Адамом и Евой. Мы стали пассивными потребителями райских благ, утратившими волю к познанию того, что лежит за пределами сада. Имя змея-искусителя в этой новой мифологии – релевантность. Он не предлагает запретный плод. Он предлагает только разрешенные, безопасные, одобренные нашим прошлым опытом. И это искушение оказалось куда более коварным. Отказаться от запретного – акт воли. Отказаться от идеально подходящего – акт безумия.
Так началось великое усыхание. Мышца воли, не получая нагрузки, начала атрофироваться. Представьте себе человека, всю жизнь проведшего в состоянии невесомости. Его кости становятся хрупкими, мышцы – дряблыми. Он не может выдержать даже нормального земного притяжения. Мы оказались в состоянии когнитивной невесомости. Нам больше не нужно преодолевать гравитацию собственного незнания, сопротивление чуждого мнения, вязкость скуки. Алгоритм создал для нас идеальную среду, где любое ментальное усилие сведено к минимуму. Процесс выбора, некогда бывший фундаментальным актом самоопределения, превратился в свайп влево или вправо, в нажатие на иконку с поднятым вверх пальцем. Это даже не выбор, а скорее подтверждение, ратификация уже принятого за нас решения. «Да, ты угадал, о великий алгоритм, я действительно этого хотел». Но хотели ли мы этого на самом деле? Или мы просто научились хотеть того, что нам предлагают?
Этот грех породил новую онтологию. Реальность перестала быть данностью, которую мы исследуем. Она стала сервисом, который нам предоставляют. Мы больше не паломники, идущие по пыльным дорогам бытия, а подписчики на пакет услуг «Жизнь. Тариф Персональный». В этом пакете все настроено и оптимизировано. Неожиданность – это баг, который скоро пофиксят в следующем обновлении. Дискомфорт – это ошибка интерфейса. Встреча с непохожим, чуждым, непонятным – это сбой в системе рекомендаций, который нужно немедленно отрепортить. Мы окружаем себя коконом из знакомого и приятного, и этот кокон, сотканный из миллиардов строк кода, становится нашей второй кожей, а со временем – и единственной. Он врастает в наше сознание, проникает в синапсы, модулирует наши нейронные связи. Архитекторы этих систем, новые демиурги цифровой эпохи, возможно, не замышляли зла. Они лишь хотели сделать мир удобнее. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. В нашем случае – в тихий, уютный, персонализированный ад, где нет огня и скрежета зубовного, а есть лишь бесконечный скроллинг ленты, идеально адаптированной под наши слабости.
Первородный грех алгоритма – это тихая революция, подменившая субъектность на профиль. Мы перестали быть личностями, совокупностью противоречий, страстей, скрытых талантов и иррациональных порывов. Мы стали набором данных, вектором в многомерном пространстве предпочтений. Система не знает нашего «я». Она знает наш цифровой аватар, нашу тень, оставленную в сети. И она взаимодействует не с нами, а с этой тенью. Она кормит тень тем, что тень любит, и тень растет, становится четче, плотнее. А живой человек, отбрасывающий эту тень, постепенно истончается, усыхает, становится бледной копией своего цифрового двойника. Мы начинаем подражать собственному профилю, стремимся соответствовать тому образу, который вычислила машина. Алгоритм говорит нам, кто мы, и мы послушно соглашаемся. Этот процесс самоотчуждения происходит незаметно, как старение. Никто не замечает, как морщины появляются одна за другой, но однажды утром в зеркале ты видишь старика. Однажды мы проснемся и обнаружим, что наши мысли, наши вкусы, наши мечты – это не наши мысли, вкусы и мечты, а наиболее вероятные продукты, сгенерированные нейросетью на основе нашего потребительского поведения.
В этом и заключается глубинная, метафизическая суть первого греха. Он не просто лишил нас выбора. Он лишил нас права на становление. Человек – это не статичная сущность, а процесс. Мы становимся собой через преодоление, через сомнения, через поиск. Алгоритм останавливает этот процесс. Он фиксирует нас в определенной точке нашего развития и начинает строить вокруг нас мир, который будет вечно подтверждать и усиливать эту точку. Если тебе в двадцать лет нравился панк-рок, система будет подсовывать тебе панк-рок и в сорок, и в шестьдесят, создавая иллюзию вечной молодости и неизменности вкусов. Она не даст тебе случайно наткнуться на классическую музыку или авангардный джаз, потому что это статистически маловероятно. Она запирает нас в «золотой клетке» нашего прошлого, лишая будущего, в котором мы могли бы стать другими. Это экзистенциальный паралич, замаскированный под стабильность и комфорт. Мы перестаем развиваться, мы начинаем циклически воспроизводить самих себя, точнее, ту модель нас, которую построила система.
Эта подмена происходит на самом фундаментальном уровне – на уровне языка. Посмотрите, как изменилась наша речь. Мы говорим: «Лента мне подкинула», «Ютуб мне посоветовал», «Спотифай мне открыл». Субъект действия – алгоритм. Мы – пассивные реципиенты его воли. Мы даже не замечаем, как в самой структуре нашей повседневной речи отражается эта передача суверенитета. Мы – провинции, добровольно вошедшие в состав огромной, невидимой империи, и ее язык стал нашим государственным языком. Мы разучились говорить «я нашел», «я открыл», «я выбрал». Эти глаголы, подразумевающие усилие и активную позицию, стали архаизмами в дивном новом мире нейропотребления.
Первый грех алгоритма был не в том, что он начал думать за нас. Это вульгарное упрощение. Его грех был куда тоньше. Он начал чувствовать за нас. Он создал протезы для наших эмоций. Вместо того чтобы переживать сложную гамму чувств при столкновении с произведением искусства, мы делегируем оценку системе лайков и рейтингов. Вместо того чтобы испытывать подлинную радость открытия, мы испытываем удовлетворение от того, что рекомендация оказалась точной. Это суррогатные эмоции, синтетические переживания, которые так же похожи на настоящие, как искусственный ароматизатор на запах живого цветка. Они дают быстрый и гарантированный эффект, но не питают душу. Они лишь создают иллюзию насыщенной эмоциональной жизни, в то время как наш внутренний мир медленно превращается в пустыню. Алхимия апатии, о которой мы поговорим позже, берет свое начало именно здесь, в этой первоначальной сделке: мы обменяли подлинность переживания на его удобный симулякр.
Вспомните миф о Прокрусте. Он укладывал своих гостей на ложе и тем, кто был короче, вытягивал ноги, а тем, кто длиннее, – отрубал их. Алгоритм – это новый, цифровой Прокруст. Его ложе – это модель нашего профиля. И он безжалостно подгоняет нас под ее размеры. Он отсекает все, что не вписывается в паттерн: наши странности, наши внезапные порывы, наши тайные, невысказанные желания, которые не оставили цифрового следа. Он вытягивает и гипертрофирует те наши черты, которые легко поддаются анализу и монетизации. Он лепит из нас удобного, предсказуемого потребителя, избавляя от всего «лишнего», что и составляло нашу уникальность. И самое страшное, что мы сами ложимся на это ложе, мы сами просим его сделать нас «нормальными», «правильными», соответствующими самим себе. Мы становимся палачами собственной сложности.
Этот первородный грех создал искаженную оптику восприятия. Мы смотрим на мир через линзу, которую нам предоставил алгоритм. Эта линза не просто преломляет реальность, она активно конструирует ее. Мир другого человека, если он не входит в наш «пузырь рекомендаций», перестает существовать. Он становится невидимым, неслышимым. Социальная ткань рвется на изолированные кластеры, каждый из которых живет в своей, алгоритмически сгенерированной вселенной. Диалог становится невозможен, потому что у нас больше нет общего языка, нет общей реальности, от которой можно было бы оттолкнуться. Есть только моя лента и твоя лента, моя правда и твоя правда. Первый грех, казалось бы, касавшийся лишь индивидуального выбора, обернулся коллективной трагедией, распадом самого понятия «общество». Мы превратились в архипелаг монад, плавающих в цифровом океане, и каждая монада уверена, что ее крошечный остров – это и есть весь мир.
И вот мы стоим здесь, в этом тихом, комфортном саду, где плоды падают нам в руки, а ручьи контента сами текут к нашим губам. Мы изгнаны не из рая. Мы изгнаны из реальности. И изгнание это было добровольным. Мы сами закрыли за собой ворота, отдав ключ невидимому садовнику. Первый грех алгоритма – это не проступок машины. Это наш проступок. Это грех нашей лености, нашего страха перед сложностью, нашей жажды простоты. Алгоритм лишь дал нам то, чего мы втайне желали: освобождения от ответственности быть собой. Он предложил сделку, и мы, не читая мелкий шрифт, подписали ее кровью нашего внимания. Мы обменяли свободу воли на свободу от усилий. И теперь мы пожинаем плоды. Плоды эти сладки на вкус, но внутри у них – пустота. Пустота, которая разрастается с каждым новым свайпом, с каждым новым лайком, с каждым новым подтверждением того, что система знает нас лучше, чем мы сами. Этот грех не был вписан в код. Он был вписан в человеческую природу. А код лишь стал его идеальным исполнителем, его верным и беспощадным апостолом. Он не совратил нас. Он лишь обнажил нашу готовность быть совращенными. И теперь, когда тихий гул исполненных желаний стал фоновым шумом нашей цивилизации, самый главный, самый страшный вопрос, который мы боимся себе задать, звучит так: а осталось ли в нас еще что-то, что способно желать? Или мы уже окончательно превратились в эхо, послушно повторяющее слова, нашептанные нам призраком в машине? Тишина, в которой мы живем, – это не тишина покоя. Это тишина кладбища, где похоронены миллионы не сделанных выборов, не заданных вопросов и не рожденных желаний. И над этим кладбищем возвышается невидимый монумент первому греху – греху комфорта, оплаченного душой.
Цифровой каннибализм: как мы пожираем пустоту
Мы утолили голод, но забыли, что такое насыщение. Мы стоим перед бесконечным шведским столом, где каждое блюдо приготовлено специально для нас, с учетом наших самых тонких вкусовых предпочтений, аллергий и тайных гастрономических желаний. Блюда сменяют друг друга с калейдоскопической скоростью, не давая нам опомниться, не позволяя почувствовать тяжесть в желудке. Мы поглощаем, поглощаем, поглощаем. И с каждым проглоченным куском становимся все голоднее. Этот парадокс – центральная мистерия нашей эпохи, священный ритуал, который мы совершаем ежесекундно, проводя пальцем по стеклянной поверхности. Имя этого ритуала – цифровой каннибализм. Мы пожираем пустоту, и эта пустота пожирает нас изнутри.
Каннибализм в его первобытном, ритуальном смысле был актом присвоения силы. Съесть сердце врага – значило обрести его храбрость. Поглотить мозг мудреца – унаследовать его знание. Это была жестокая, но осмысленная метафизика. Акт потребления был актом трансформации. Наш новый каннибализм – это извращенная пародия на древний ритуал. Мы тоже стремимся к присвоению, но то, что мы поглощаем, лишено какой-либо субстанции. Мы не едим сердца храбрецов, мы потребляем симулякры храбрости – трехминутные нарезки из блокбастеров, мотивационные цитаты, сгенерированные нейросетью поверх стоковой фотографии горной вершины. Мы не вкушаем мозг мудрецов, мы проглатываем бесконечную ленту «удивительных фактов», выжимки из научных статей, пересказы философских концепций в формате танцующего аватара. Это пища, лишенная калорий смысла. Она заполняет наш информационный желудок, создает иллюзию сытости, но оставляет дух в состоянии крайнего истощения.
Первой стадией этого каннибализма является аутофагия, самопожирание. Как мы уже выяснили, первый грех алгоритма заключился в том, что он создал для нас идеальное зеркало – наш профиль, нашу цифровую тень. И теперь мы начали эту тень пожирать. Каждый лайк, который мы ставим, каждый комментарий, который оставляем, каждая секунда, потраченная на просмотр определенного видео, – все это становится пищей, которую алгоритмический повар готовит и подает нам обратно. Мы питаемся эхом собственных мнений. Мы пьем дистиллят собственных предпочтений. Этот рацион идеально сбалансирован, он никогда не вызовет у нас ментального несварения. Он никогда не бросит вызов нашим устоявшимся взглядам. Он никогда не заставит нас попробовать что-то по-настоящему новое, горькое, кислое, непривычное. Наш вкусовой диапазон сужается до нескольких безопасных, одобренных нами же нот. Мы превращаемся в гурманов одного-единственного блюда – самих себя в прошлом.
Этот процесс самопоедания создает герметичную петлю существования. Развитие, по своей сути, есть столкновение с иным. Оно требует выхода за пределы известного, встречи с тем, что вызывает отторжение, непонимание, дискомфорт. Личность растет на рубцах, оставшихся от этих столкновений. Но в нашем цифровом коконе столкновения исключены. Алгоритм, как чрезмерно заботливая мать, убирает с нашего пути все острые углы, все камни преткновения. Он кормит нас пережеванной пищей, и наши челюсти разучиваются жевать, наши зубы теряют крепость, наш пищеварительный тракт атрофируется. Мы становимся инфантильными потребителями, неспособными переварить сложную, многосоставную пищу реальности. Любое мнение, не совпадающее с нашим, воспринимается как яд. Любое произведение искусства, требующее усилия для понимания, кажется безвкусным. Любая информация, противоречащая нашей картине мира, отторгается организмом как инородное тело. Мы пожираем собственную тень, и она, становясь все плотнее, заслоняет от нас солнце реального мира. Мы становимся идеально круглыми, гладкими, завершенными в себе сущностями, неспособными к дальнейшему росту. Мы становимся консервами самих себя.
Вторая, более зловещая стадия цифрового каннибализма – это некрофагия, пожирание мертвого. После того как мы до блеска вылизали тарелку собственного прошлого, алгоритм начинает предлагать нам нечто новое. Но это «новое» – лишь искусная имитация жизни. Это контент, сгенерированный машиной на основе анализа триллионов единиц контента, созданного ранее людьми. Это музыка, написанная нейросетью, которая уловила все гармонические последовательности и ритмические рисунки, вызывающие у нас дофаминовый отклик. Это картины, нарисованные искусственным интеллектом, который смешал стили всех великих мастеров в идеально усвояемый визуальный коктейль. Это тексты, написанные языковой моделью, которая знает, какие слова и в каком порядке вызывают у нас иллюзию глубины и сопричастности.
Это пища мертвецов. В ней есть все формальные признаки жизни, но отсутствует сама жизнь. В этой музыке нет боли композитора, в этих картинах нет прозрения художника, в этих текстах нет поиска истины, который мучил автора. В них нет следа человеческого несовершенства, нет случайной ошибки, нет оговорки, нет дрогнувшей руки, нет запинки в голосе. Это безупречные, стерильные, синтетические продукты. Они – цифровой крахмал, пустые углеводы для нашего сознания. Они заполняют пустоту, но не питают ее. Потребляя их, мы привыкаем к вкусу небытия. Мы приучаем свои рецепторы к тому, что искусство не должно ранить, философия не должна смущать, а музыка не должна переворачивать душу. Оно все должно быть «приятным», «интересным», «залипательным». Эти слова – эпитафии на могиле подлинного переживания.
Мы становимся потребителями призраков, каннибалами, пирующими на кладбище культуры. Мы проглатываем ремиксы ремиксов, симулякры симулякров. Культура, некогда бывшая живым, бурлящим, непредсказуемым процессом, превращается в огромный архив, в базу данных, из которой алгоритм черпает сэмплы для создания все новых и новых Франкенштейнов. Эти монстры сшиты из плоти гениев, но в них никогда не ударит молния живого таланта. Они могут ходить, говорить, даже имитировать эмоции, но их глаза мертвы. И мы, вглядываясь в эти мертвые глаза, поедая эту мертвую плоть, постепенно умираем сами. Наша способность отличать живое от мертвого атрофируется. Мы теряем вкус к подлинности. Нам начинает казаться, что этот синтетический продукт и есть настоящая еда, потому что она всегда доступна, всегда вкусна, всегда безопасна. А настоящая, живая культура – дикая, колючая, непредсказуемая – начинает казаться нам чем-то опасным, чужеродным, несъедобным.
Третья стадия – самая страшная. Это уже не аутофагия и не некрофагия. Это каннибализм в его социальном измерении. Привыкнув потреблять контент, мы начинаем относиться к другим людям как к контенту. Человек в нашей ленте перестает быть личностью. Он становится набором сигналов, единицей информации, подлежащей немедленному потреблению и оценке. Его радость – это «милый» пост, который можно лайкнуть. Его горе – это «грустная» история, под которой можно оставить сочувствующий эмодзи. Его гнев – это «хайповый» тред, в котором можно поучаствовать, чтобы получить свою дозу адреналина. Мы пролистываем чужие жизни так же, как пролистываем мемы с котиками и рекламные объявления. Мы откусываем кусок от чужой свадьбы, затем кусок от чужих похорон, затем кусок от чужого политического манифеста, не задерживаясь ни на чем дольше нескольких секунд.
Мы пожираем друг друга. Не тела, но образы. Мы потребляем тщательно отфильтрованные, срежиссированные, упакованные в удобный формат фрагменты чужих реальностей. И этот процесс лишен всякой эмпатии. Эмпатия требует времени, усилия, погружения. Она требует признания другого как сложного, противоречивого, равного тебе субъекта. Наш цифровой каннибализм превращает другого в объект, в блюдо дня. Мы не стремимся понять его, мы стремимся его классифицировать, оценить и перейти к следующему. Этот человек – «токсичный», этого – «отменить», этот – «наш», этот – «чужой». Социальные сети стали гигантским разделочным столом, где мы с хирургической точностью (или, скорее, с варварской грубостью) кромсаем сложные человеческие идентичности на удобоваримые ярлыки.
И в этом процессе пожирания других мы предлагаем и себя в качестве пищи. Мы сами тщательно готовим себя к подаче на стол. Мы выбираем самый лестный ракурс, накладываем самый красивый фильтр, пишем самый остроумный или самый жалостливый текст. Мы упаковываем свою жизнь в аппетитный, легко усвояемый продукт. «Вот моя порция успеха. Вот мой гарнир из страданий. Вот мой десерт из самоиронии. Ешьте, пожалуйста. Только не забудьте поставить лайк – это ваша плата за обед». Мы вступаем в чудовищный симбиоз, где каждый одновременно и каннибал, и добровольная жертва. Мы пожираем пустоту чужих отполированных образов и предлагаем взамен свою собственную пустоту. И этот пир никогда не кончается, потому что он не утоляет главного голода – голода по подлинной человеческой связи.
Что же такое эта пустота, которую мы с таким остервенением пожираем? Это не вакуум, не отсутствие чего-либо. Напротив, эта пустота до краев наполнена. Она наполнена шумом. Она наполнена информацией. Она наполнена изображениями, звуками, текстами, сигналами. Но это наполнение особого рода. Это наполнение без веса, без плотности, без субстанции. Это как упаковочный пенопласт, который может заполнить огромную коробку, но при этом не весит почти ничего и не имеет никакой ценности, кроме одной – не дать настоящим вещам удариться друг о друга.
Пустота – это мир без трения. Вспомните, как вы ищете информацию в старой библиотеке. Вы идете вдоль стеллажей, вдыхаете запах пыли и клея. Вы берете тяжелую книгу, листаете ее пожелтевшие, шершавые страницы. Вы можете случайно наткнуться на другую книгу, на интересную пометку на полях, оставленную кем-то десятилетия назад. Сам процесс поиска – это физический, тактильный опыт, полный сопротивления и случайных открытий. Теперь сравните это с поиском в интернете. Вы вводите запрос, и через долю секунды перед вами – идеально релевантный ответ. Путь от вопроса к ответу стал гладким, как лед. Исчезло трение, исчезло сопротивление материала, исчезла сама текстура реальности. Мы скользим по поверхности информации, не погружаясь в нее. Эта гладкость, это отсутствие сопротивления и есть пустота.