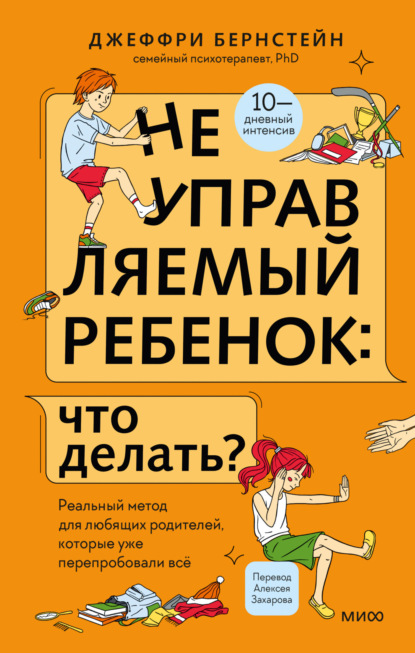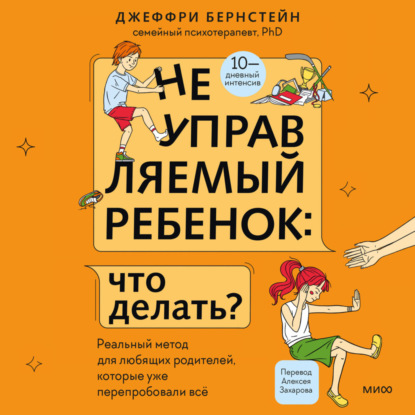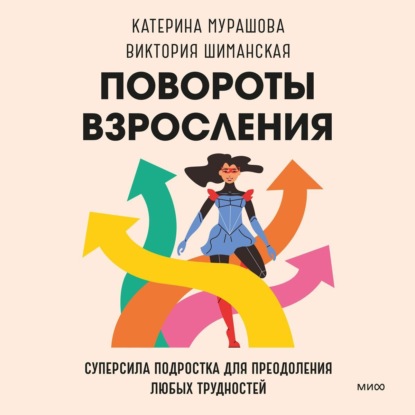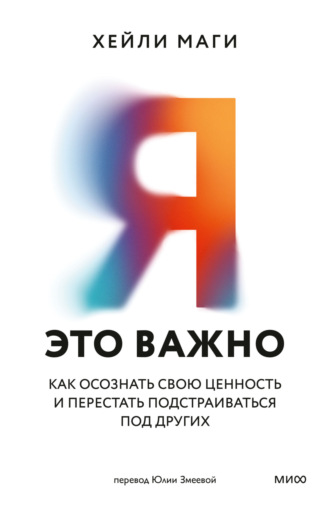
Полная версия
Я – это важно. Как осознать свою ценность и перестать подстраиваться под других
Привычка угождать не всегда становится последствием травмы. Иногда этот паттерн связан с особенностями воспитания.
Родители и опекуны учат ребенка взаимодействовать с миром. От взрослых он узнает, насколько его эмоции и потребности приемлемы, заслуживает ли он любви и на каких условиях. В 1960-е клинический психолог Диана Баумринд вывела четыре стиля родительского воспитания: либеральный, индифферентный, авторитетный и авторитарный[6]. Привычка угождать развивается у детей, чьи родители придерживаются авторитарного и либерального стилей.
Авторитарное воспитание основано на наказаниях и чрезмерном контроле; к детям предъявляются завышенные ожидания[7]. Хотя такие родители обеспечивают материальные потребности своих чад, ласки и эмоциональной поддержки от них не дождешься. Они не объясняют правила и не идут на компромисс; их слово – закон. Сочетание непреклонных правил с эмоциональной пустотой формирует у детей убеждение, что единственный способ заслужить одобрение окружающих – все делать «правильно». У них формируется внешняя мотивация: они тревожно ищут подтверждения своей ценности у родителей, учителей и сверстников[8]. Панический страх неодобрения приводит к хронической тревожности и чрезвычайной требовательности к себе. В итоге такие дети становятся перфекционистами, не терпящими ошибок. Попытки соответствовать чужим ожиданиям отнимают у них все силы, при этом они не понимают, чего хотят и что чувствуют. Многие становятся трудягами и добиваются успеха, но отсутствие ассертивности, чувство вины, депрессия, тревожность и низкая самооценка в итоге приводят их на кушетку психотерапевта[9].
Другая крайность – либеральные родители. Этот тип восприимчив к эмоциям детей, но не предъявляет к ним никаких требований, не устанавливает правил и не наказывает за неадекватное поведение. Либеральные родители встают на один уровень с ребенком и ведут себя не как родители, а как друзья. Они делятся интимными подробностями своей жизни, требуют от детей эмоциональной поддержки (что совершенно неуместно), пытаются привлечь их на свою сторону в супружеских конфликтах. Подмена ролей приводит к парентификации: ситуации, когда ребенок берет на себя гораздо больше ответственности, чем допустимо для его возраста. У таких детей формируется установка, что любовь зависит от той эмоциональной поддержки, которую они дают родителям. Дети вырастают, а установка сохраняется и пронизывает все взрослые отношения.
Когда ребенок играет роль жилетки и эмоционального буфера для родителя, у него нередко возникают проблемы с собственной идентичностью. Такие дети чувствительны к потребностям и эмоциям родителей, но нечувствительны к собственным. Взрослые дети либеральных родителей часто играют роль спасителя, помощника, мученика во взрослых отношениях; они вечно пытаются «все исправить».
Эмоционально незрелые родители, у которых отсутствуют навыки эмоциональной регуляции, не видят, не валидируют и не осознают эмоций ребенка. А дети вырастают с чувством, что их эмоции и опыт неважны, их внутренний мир никому не интересен. Дети эмоционально незрелых родителей учатся игнорировать свои чувства и потребности, нередко становятся хроническими слушателями, помогателями и испытывают патологическое желание «все исправить».
Родители также могут привить ребенку привычку угождать своим примером. Дети усваивают, что такое норма, путем подражания. Мы обращаем внимание на манеры родителей, их выбор, наблюдаем, как они проводят время, как относятся к себе, умеют ли за себя постоять. Подобострастные, пассивные родители, склонные к самопожертвованию и не способные устанавливать границы, ненамеренно учат этому детей, и те подсознательно копируют эти паттерны, уже став взрослыми.
Воспитание в семье зависимыхИногда собственные эмоциональные ограничения не позволяют родителям обеспечить детям эмоциональную поддержку. Но взрослые, страдающие зависимостью или вынужденные жить с зависимыми членами семьи, тоже часто не дают детям должные поддержку, внимание и поощрение.
Как правило, в семьях, где есть зависимый человек, все чрезмерно сфокусированы на нем. Члены семьи отслеживают его поведение, уговаривают лечиться, пытаются следить за его часто меняющимся настроением и справляться с последствиями непредсказуемого поведения. Дети в таких семьях начинают считать своей первоочередной ответственностью уход за зависимым; при этом они не могут даже сформулировать и выразить собственные базовые эмоции и потребности, поскольку не получают поддержки взрослых.
Дети, выросшие в подобной среде, становятся гиперсамостоятельными и гиперответственными взрослыми. У них есть убеждение, что любовь нужно заслужить полезностью для окружающих[10]. По данным исследований, взрослые дети алкоголиков ощущают персональную ответственность за любые негативные события дома и на работе. Как в детстве, они испытывают потребность регулировать эмоции окружающих[11]. Они не понимают, кто они, и часто окружают себя зависимыми и эмоционально недоступными партнерами, подсознательно воссоздавая динамику отношений из детства.
Гендерное воспитаниеРостки угодничества нередко закладываются динамикой семейных отношений, но определяющую роль могут иметь гендерные нормы. Как бы мы ни продвинулись в вопросах гендерного равенства за последние сто лет, во многих культурах забота об окружающих по-прежнему считается «женским делом». В помогающие профессии – сестринское дело, преподавание, социальную работу – идут преимущественно женщины. По статистике, они ежедневно посвящают домашнему труду и уходу за детьми в среднем четыре часа, а мужчины – всего два с половиной[12]. Психолог Маршалл Розенберг утверждал: «Веками образ любящей женщины ассоциировался с жертвенностью и отрицанием собственных потребностей ради заботы о других. Поскольку в процессе социализации женщинам внушают, что их первичный долг – забота об окружающих, они учатся игнорировать свои потребности»[13].
Даже в межличностных отношениях женщин по-прежнему явно или скрыто побуждают ставить в приоритет не себя, а других. Именно на их плечи чаще всего ложится эмоциональный труд: неоплачиваемая и неблагодарная работа по поддержанию отношений, регуляции чужих эмоций и умиротворению окружающих[14]. По данным исследований, женщины намного чаще просят прощения и оценивают свое поведение как недопустимое и требующее извинений[15]. В ситуациях, где мужчину назовут уверенным в себе и ассертивным, женщину посчитают наглой.
В наше время женщин редко заставляют молчать или призывают к самопожертвованию, но такие нормы глубоко укоренились в культуре. Даже если их никто не произносит вслух, они продолжают определять ожидания, предъявляемые обществом к женщинам и женщинами к себе[16].
В отношении мужчин действуют иные гендерные стереотипы, но и они могут формировать привычку угождать, побуждая подавлять эмоции, не проявлять слабость и отдавать больше, чем предусмотрено личными границами. От мужчин по-прежнему ожидают стойкости, отсутствия внешних проявлений чувств и невозмутимости. В 2019 году исследователи пришли к выводу: 58 % мужчин чувствуют, что им нужно быть «сильными и не проявлять эмоциональную слабость», а 38 % избегают разговоров о чувствах с другими людьми, чтобы не показаться «немужественными»[17]. Карикатурный стереотип стойкого мужчины приводит к двум нездоровым диссоциациям. Во-первых, многие перестают осознавать свои чувства и потребности, поскольку им внушали, что таковых не должно быть. Во-вторых, мужчины перестают замечать чувства и потребности окружающих, потому что человеку, которому никогда не позволяли быть уязвимым, крайне проблематично построить близкие поддерживающие отношения.
На работе мужчины тоже часто сталкиваются с требованием пренебрегать своими потребностями. Хотя женщины уже давно работают наравне с ними, многие мужчины до сих пор чувствуют себя обязанными доказывать самоценность, играя роль добытчика в семье. Они пренебрегают потребностью в отдыхе и восстановлении и трудятся слишком много, стремясь к маскулинному идеалу, страдают от стресса и недосыпания[18]. Так гендерные нормы перекрывают мужчинам доступ к собственному эмоциональному миру, мешают сформировать близкие отношения и удовлетворить потребность в отдыхе и восстановлении.
Культурные особенностиПоведение, которое в одной культуре считается «вредным альтруизмом», в другой может быть распространено и социально одобряемо. Где грань между здоровым и нездоровым альтруизмом? Ответ на этот вопрос предопределен культурой.
В индивидуалистических культурах – США, Великобритании, ЮАР, например, – людей побуждают самостоятельно ставить цели и достигать их, а не реализовывать чужие планы на свою жизнь[19]. (Хотя, как уже сказано выше, женщины и маргинализированные группы по-прежнему испытывают давление общества, требующего пренебрегать личными потребностями ради заботы об окружающих.) В таких культурах люди меньше полагаются на семью и принадлежность к группе и делают больший упор на автономию, индивидуальность и самоактуализацию. В результате некоторые люди действительно чувствуют себя свободными и самостоятельными, но есть и те, кто ощущает неприкаянность и разобщенность со своим «я».
А вот в коллективистских культурах – Китае, Корее, Японии, Индии – интересы группы и семьи всегда стоят выше личных. (Тот же принцип действует в большинстве организованных религий.) От людей требуют конформизма, покорности и преданности; принадлежность к группе и семье считается главнейшей ценностью[20]. В результате некоторые представители коллективистских культур испытывают чувство принадлежности и безопасности, но другие ощущают несвободу и скованность ограничениями.
Некоторые люди из коллективистских культур, особенно те, кто эмигрировал в индивидуалистические страны, ощущают конфликт между идеалами своей культуры и личным желанием ставить свои потребности, увлечения и мечты во главу угла.
Реакция на стигму и угнетениеДля многих маргинализированных групп привычка угождать, подстраиваться под окружающих и прятать свое истинное «я» становится способом выживания. Если общество внушило вам, что такие люди, как вы, недостойны базовой заботы и уважения и не представляют ценности, подобострастное поведение, особенно по отношению к вышестоящим, может быть просто способом себя защитить. Если люди из вашей группы регулярно подвергаются насилию и преследованию, вести себя тихо и незаметно – стратегия выживания.
Различные маргинализированные группы испытывают вполне конкретное давление, вынуждающее их угождать. Это очень широкая тема; о том, как системное угнетение влияет на индивидуальную привычку угождать, мы поговорим в главе 13.
Безопасность – общий лейтмотивУ привычки угождать окружающим может быть много причин, но их объединяет общий лейтмотив: стремление к безопасности. При этом под безопасностью имеется в виду не только защита от насилия и физического вреда, хотя и она тоже. Этот термин может восприниматься в самом широком смысле.
• Социальная безопасность: «я принадлежу к группе», «люди меня одобряют».
• Эмоциональная безопасность: «меня знают и понимают», «меня любят», «я имею значение».
• Материальная безопасность: «мои базовые потребности удовлетворены».
Привычка угождать могла обеспечивать нам безопасность в детстве, но теперь, став самостоятельными и независимыми взрослыми, мы должны не молчать, а заявлять о своих интересах: это куда более эффективная стратегия, которая поможет удовлетворить свои желания и потребности.
Привычка угождать в психологииХотя привычка угождать не считается психическим заболеванием, многие психологические школы изучают паттерн пренебрежения собой ради окружающих. Существуют различные терапевтические методы, помогающие разрушить вредный паттерн.
Основатель когнитивно-поведенческой терапии Аарон Бек использовал термин «социотропия»: это стремление личности чрезмерно полагаться на одобрение окружающих и вкладывать в отношения всего себя. Такие люди испытывают потребность угождать окружающим; они не ассертивны и чрезмерно заботливы; им трудно заявлять о своих потребностях; они боятся критики и отвержения[21]. Социотропы склонны к депрессии, а когнитивная терапия, борющаяся с негативными мыслительными паттернами человека о себе и мире, доказанно уменьшает депрессивный эффект[22].
Теория семейных систем Мюррея Боуэна выдвигает концепцию дифференциации: это способность понимать, где заканчиваемся мы и начинается другой человек[23]. У высоко дифференцированных людей сильное и независимое «я»; люди менее дифференцированные зависят от одобрения окружающих[24]. Люди с низкой степенью дифференциации приспосабливаются, чтобы угодить окружающим, стараются не говорить «нет» и, столкнувшись с иным мнением, испытывают сложности, отстаивая собственное. Семейная терапия Боуэна помогает повысить степень дифференциации и создать здоровые границы, которые помогут в управлении отношениями.
Теория привязанности также помогает понять паттерн угодничества. Согласно ей, отношения, сложившиеся у нас в детстве со значимым взрослым, влияют на взаимодействие с людьми в зрелом возрасте. Так, если потребности ребенка удовлетворяются нерегулярно, во взрослом возрасте у него нередко отмечается тревожный тип привязанности[25]. Такие люди часто не уверены в своих отношениях, стремятся к более глубокой близости, требуют от партнера, чтобы тот постоянно их успокаивал. Но главное, люди с тревожным типом привязанности боятся, что их бросят, и гиперчувствительны к любой угрозе отношениям. Подпитываемые неуверенностью и низкой самооценкой, они тревожатся, что их бросят, и делают все возможное, чтобы этого не допустить, в том числе жертвуют своими потребностями, желаниями и чувствами. Терапия с акцентом на привязанность поможет выявить тип привязанности и научиться вести себя иначе в межличностных отношениях.
Наконец, существует концепция созависимости, которая пришла к нам из терапии алкоголизма. Термин «созависимый» появился в 1980-х для описания чрезмерно жертвенных супругов алкоголиков, но теперь им обозначают любого человека (в том числе не родственника зависимого), хронически пренебрегающего своими потребностями ради других[26]. Созависимые с трудом идентифицируют собственные эмоции, избегают говорить о своих потребностях, им трудно принимать решения, они слишком долго задерживаются в токсичных отношениях и верят, что другие люди не способны о себе позаботиться. Для лечения созависимости была создана двенадцатиступенчатая программа «Анонимные созависимые», и в центрах лечения от алкоголизма часто предлагают и программы для их близких.
Привычка угождать также нередко формируется у людей, страдающих депрессией, тревожностью, социальной тревожностью и людей с разными нейроотличиями. Хотя нет конкретных статистических данных по распространенности этого паттерна, повсеместность психологических травм, зависимостей, депрессии, тревожности, социальной несправедливости и прочих причин его возникновения позволяет предположить, что к угождателям можно отнести миллионы людей по всему миру.
Несмотря на широкое распространение этого паттерна и множество терапевтических подходов, помогающих его преодолеть, многие по-прежнему не хотят признавать, что хронический альтруизм, самопожертвование и привычка угождать становятся проблемой. «Разве не все должны сначала думать о чувствах и потребностях окружающих и во вторую очередь – о собственных? Так поступают все порядочные люди», – думаем мы. И это действительно так: заботу о потребностях и чувствах окружающих действительно можно считать проявлением доброты. Но если при этом хронически пренебрегать собой, она превращается во «вредный альтруизм».
Доброта и привычка угождать: в чем разница?На первый взгляд доброта и привычка угождать схожи. Разве щедрость, верность, сострадание и преданность нельзя назвать основой здоровых отношений? Но все же между привычкой угождать и добротой есть разница.
Психологи выяснили, что у добрых людей, которых они называют здоровыми альтруистами, и людей с привычкой угождать, или патологических альтруистов, совершенно разная мотивация. Один и тот же поступок может трактоваться по-разному в зависимости от того, почему человек его совершает и влияет ли он на него негативно.
Психологи определяют патологический альтруизм как «готовность человека иррационально ставить чужие потребности выше собственных, причиняя вред самому себе»[27]. В погоне за чужим благополучием патологические альтруисты часто пренебрегают собой, и психологи обнаружили, что основной мотивацией таких людей оказываются желание получить одобрение окружающих и страх быть отвергнутыми.
Совершая добрый поступок, угождатель руководствуется следующими мотивами.
• Транзакция: «я сделаю тебе добро, а ты потом отплатишь мне тем же.
• Долженствование: «я делаю это, потому что иначе буду чувствовать себя виноватым».
• Компульсивное поведение: «я делаю это, потому что не умею иначе».
• Страх потери: «я делаю это, потому что боюсь тебя потерять».
В основе поведенческого паттерна часто лежит скрытый контракт, или подразумеваемая договоренность: «Я буду всем для тебя жертвовать и нарушать свои границы, а ты взамен дашь мне любовь и ощущение желанности и нужности». Проблема в том, что другие люди не подписывали этот контракт. Выходит, мы жертвуем собой, обслуживаем чужие потребности и верим, что должны получить взамен любовь и внимание, которых нам не хватает. Такое восприятие отношений как транзакции приводит к возникновению «невидимого долга», о котором другой человек часто даже не догадывается.
Отдав слишком много, дающие нередко ощущают усталость, злость и обиду. Если другие люди не реагируют на наши жертвы так, как нам хотелось бы, мы начинаем демонизировать их, называть «наглыми», «эгоистами» и твердить, что нами «воспользовались». В результате попытки угодить приводят к тому, что мы сильнее отдаляемся от людей, которым пытаемся «помочь».
Гвен переезжает. Накануне она пишет подруге Хейзел и спрашивает, может ли та завтра ей помочь. Хейзел получает сообщение и тут же чувствует сильное внутреннее сопротивление: на работе дедлайн, она уже запланировала провести следующий вечер с друзьями. Ей некогда помогать подруге, но она чувствует себя виноватой и не может отказать; не хочет быть у Гвен на плохом счету. Поэтому соглашается и отвечает, что приедет завтра к десяти утра.
Весь оставшийся день Хейзел испытывает стресс и недовольство. Разве можно просить о таком друзей накануне вечером? И зачем она согласилась весь день таскать тяжелые коробки, ведь у нее дедлайн?
Хейзел согласилась не потому, что она добрая, а потому, что привыкла так делать. Ее мотивация – долженствование («если я откажу, буду чувствовать себя виноватой») и страх потери («не хочу оказаться у Гвен на плохом счету»). В следующих главах мы узнаем, что чувство недовольства, которое испытывает Хейзел, – верный признак того, что она нарушила собственные границы.
Доброта и здоровый альтруизмПсихологи определяют здоровый альтруизм как способность «испытывать устойчивое и относительно беспримесное удовольствие, делая что-то для благополучия окружающих»[28]. Здоровые альтруисты удовлетворяют собственные потребности и действует ради улучшения жизни окружающих; в процессе они не жертвуют своим благополучием[29]. Согласно исследованиям, мотивация здорового альтруизма – получение нового опыта и личностный рост[30].
Истинная доброта продиктована следующими мотивами.
• Желание: «я хочу дать это тебе».
• Добрая воля: «я хочу улучшить качество твоей жизни, потому что ты мне небезразличен».
• Выбор: «мне не обязательно это делать, но я сделаю, потому что хочу».
• Изобилие: «я даю тебе это, потому что у меня достаточно ресурсов».
Когда мы делимся чем-то с людьми по доброте душевной, мы можем сказать «да» или «нет» и добровольно выбираем согласиться. При этом мы далеко не всегда хотим получить что-то взамен. Мы проявляем щедрость, не ожидая никакой реакции окружающих; нас мотивирует внутреннее удовлетворение, возникающее оттого, что мы поступаем в соответствии со своими ценностями[31]. Что немаловажно, внешние действия не идут вразрез с внутренними ощущениями. В данном случае дающий тоже может чувствовать усталость и опустошенность, но к ним всегда примешиваются чувство счастья, благосклонности и радость от контакта с другими людьми.
Написав Хейзел, Гвен обращается к другому своему другу, Гэбриэлу, и тоже просит помочь. Гэбриэл сверяется со своим графиком и смотрит, удобно ли ему встретиться завтра. Никаких дел не запланировано: он только хотел поиграть с другом в баскетбол в три часа. А до этого времени он рад помочь. Он отвечает: «Конечно – я свободен до 2:45. Буду в 10 с фургоном!»
Ответив Гвен, Гэбриэл испытывает удовлетворение, что согласился помочь подруге. Он согласился, потому что сам захотел («я хочу помочь Гвен»), это был его выбор («я могу этого не делать, но сделаю, потому что хочу»). Поскольку он не соглашался на неудобные для себя условия («я свободен до 2:45»), его действия не повлияли на него негативно. Гэбриэл проявил доброту, а не попытался угодить своей подруге.
Разница между патологическим и здоровым альтруизмом заключается в мотивации и степени вреда, который наносят «добрые» поступки дающему. Психологи Скотт Барри Кауфман и Эмануэль Яук советуют тем, кто хочет перейти от патологического альтруизма к здоровому, работать над повышением уровня «здорового эгоизма»: идеей, что «забота о себе и наслаждение маленькими радостями жизни – это нормально и даже способствует личностному развитию»[32]. Подробнее об этом мы поговорим в главе 2.
Как вредит привычка угождатьЕсли один раз пойти наперекор своим интересам – например, помочь подруге переехать, хотя на самом деле у вас нет времени, – особого вреда не будет. Но если делать это постоянно, все маленькие проявления пренебрежения к себе накапливаются и отрицательно влияют на личное благополучие, отношения и планы на будущее.
Если пренебрежение своими интересами длится годами, мы становимся чужими себе, учимся прекрасно замечать посторонние настроения и чувства, но, к сожалению, не замечаем собственных. Например, когда нас спрашивают, чего мы хотим и о чем мечтаем, мы впадаем в ступор: мы не знаем, что ответить. Вместо того чтобы строить собственную жизнь, мы становимся зеркалом, отражающим чужие желания.
Привычка ставить потребности других выше своих не оставляет времени и сил на заботу о себе, в результате страдает физическое и ментальное здоровье. Человек может пренебрегать потребностью в отдыхе и здоровой пище, назначениями врача; собственными финансовыми нуждами, одалживая знакомым деньги, которые у него далеко не лишние; эмоциональными потребностями, вступая в отношения с холодными партнерами и друзьями. Но подобное равнодушие к себе не проходит даром. Подавление эмоций провоцирует тревожность, депрессию и стресс. По данным исследований, подавленные эмоции также ухудшают физическое здоровье, повышают вероятность сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний и осложнений со стороны ЖКТ[33].
Привычка угождать также препятствует построению истинно близких отношений. Последние требуют полной открытости и не терпят масок, а привычка угождать – и есть маска. Угождатели вечно жизнерадостные, самые дружелюбные, самые сговорчивые. Когда их обижают, они молчат, о личных потребностях даже не заикаются. Хотя эти способы взаимодействия в краткосрочной перспективе уменьшают вероятность конфликта, они не способствуют настоящей близости. Чем больше мы угождаем людям наперекор себе, тем острее чувствуем, что никто не видит и не знает нас по-настоящему.
Привычка угождать также часто приводит к обидам. Они возникают из-за того, что установление границ вызывает сильный дискомфорт (как у Хейзел). Мы ожидаем, что другие люди как-то догадаются о наших потребностях, чувствах и ограничениях, даже если мы никогда не говорили об этом вслух. Вместо того чтобы отказать, если у нас нет времени, мы соглашаемся помогать другим, улыбаемся, но в глубине души кричим: «Ах, если бы они знали, как много у меня дел!» Мы не признаёмся, что обижены, а внутренне кипим и думаем: «Надеюсь, ему сейчас стыдно!» Мы не просим о помощи, когда она необходима, а страдаем молча и злимся оттого, что окружающие не предлагают помочь сами: «Они должны знать, что мне нужно!» Мы не объясняем, какая забота нам необходима, а ставим перед близкими невидимую планку и сердимся, когда они не могут ее достичь: «Он должен знать, как обо мне заботиться!»
Так мы перекладываем ответственность за свои потребности и чувства с собственных плеч на чужие. Невысказанные ожидания несправедливы по отношению к членам семьи, партнерам и друзьям: они будто проваливают экзамен, хотя даже не догадывались, что сдавали его.
К сожалению, такие паттерны поведения влияют на окружающих, и, сами того не осознавая, мы можем подавать плохой пример другим. Многие прекрасно осведомлены об этом, поскольку сами стали дающими, глядя на свои ролевые модели: родителей и опекунов, которые жертвовали собой и отрицали собственные потребности в отношениях. Если вы родитель, руководитель, занимаете значимое положение в сообществе, люди равняются на вас. Вы показываете пример своим поведением и учите их самоуважению и самовыражению; на вашем примере они понимают, чего ждать от отношений, что считать приемлемым и неприемлемым. Мы можем привить окружающим привычку угождать, жертвовать собой и быть незаметными, а можем стать примером уверенности, самоуважения и отстаивания своих интересов.