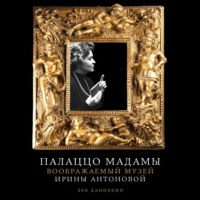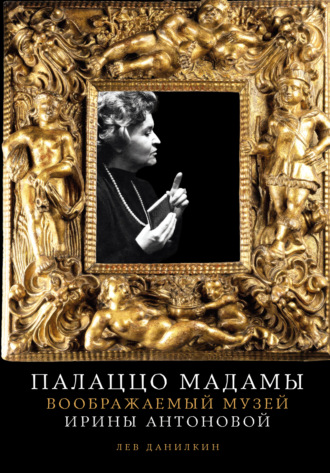
Полная версия
Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой
Уже в Минкульте он обнаружил, что слухи ходят и там. А уже внедрившись в Пушкинский, как-то раз зашел – и это один из наиболее оспариваемых оппонентами Г. Козлова моментов в его показаниях – в Министерство культуры, чтобы по старой памяти отксерить документы для ученого секретаря (в Пушкинском своего ксерокса не было). Зашел и обнаружил, что там был субботник – и сотрудники выбрасывали старые бумаги, ненужные копии. Заинтересовавшись, он с разрешения рабочего, который все это сваливал в кучу макулатуры, принялся их проглядывать – и, вот те раз, наткнулся на разрозненные копии документов, вывозы, приемки и т. д. С этого момента в голове Г. Козлова стала вырисовываться общая картина – поэтому, приступая к сканированию РГАЛИ, он уже точно знал, что помимо общеизвестной есть еще и не фиксирующаяся стандартными радарами часть деятельности музея; именно ее следы и следовало искать. Пазл, что называется, сложился окончательно, когда исследователь рассказал о своих догадках приятелю – однокурснику по МГУ, киевскому искусствоведу К. Акинше, который самостоятельно обнаружил примерно то же самое – в Киеве; а еще тот с 1990 года работал внештатным корреспондентом The Art Newspaper.
Непостижимо, почему ИА выбрала именно эту стратегию: сделать вид, будто она незнакома с публикацией The Art Newspaper, игнорировать участие в ней своего сотрудника и отвечать «нет» на все вопросы журналистов, дежуривших у входа в музей, касательно «награбленного», – но ровно так она и поступила и придерживалась этой перспективной линии на протяжении нескольких месяцев. Это работало вплоть до 4 апреля 1991-го, потому что все «разоблачения», просачивавшиеся в печать ранее, относились скорее к категории публицистики – неприятных вопросов, от которых можно было отделаться пожиманием плеч: мало ли чего секретного и неучтенного есть в СССР; есть, конечно, – почему не быть. 4 апреля 1991 года были предложены ответы, и в какой-то момент об апрельской сенсационной статье Акинши и Козлова раструбили «Известия». Вот тут песок, в котором ИА спрятала свою светлую голову, раскалился – и в кабинете Г. Козлова раздался звонок: вызов к директору.
Чувствовал ли Г. Козлов, что рано или поздно ему придется не только подвергнуться допросу в КГБ в связи с подозрением на разглашение гостайны, но и оказаться один на один именно с ИА, которая наверняка обвинит его в вероломстве и «предательстве»? Понимал ли он, что протест против незаконных действий СССР приведет его к охоте именно на своего директора – просто потому, что из всех на тот момент живущих она была лучшим претендентом на то, чтобы оказаться воплощением этой проблемы? Пожалуй, нет; и наверное, когда публикации только появились, даже и сама ИА не предполагала, что ее фотография во дворе Пушкинского, среди ящиков с немецкими надписями, станет «иконической». Штука в том, что никто другой на тот момент просто не мог привлечь к себе нежелательное внимание: в Киеве и других республиках все и так начинало шататься: сенсации там были покрупнее музейных; в Эрмитаже как раз только что умер Б. Б. Пиотровский, и никакой крупной фигуры, с которой можно связать в общественном сознании «укрывательство краденого», там не было. Оставалась Антонова – которая легко могла сойти за идеального монстра.
Объясняя причины своего поступка, Г. Козлов настаивает: «У нас была иллюзия, что есть люди старшего поколения, которых мы уважаем, и они могут что-то такое сделать, чего мы сами не в состоянии… Это сейчас звучит как тотальный идиотизм, но в то время [1991 год] казалось единственно возможным решением: мы считали, что после публикации статьи мы на себя возьмем ответственность перед партийно-государственными органами, а настоящие толковые люди – к которым мы причисляли и Антонову тогда – воспользуются этой ситуацией и, используя свое влияние, от этого утаивания шедевров избавятся. Откроют их миру. А нас – возможно – возьмут в сотрудники для того, чтобы мы просто рассказали им то, что мы уже собрали. Вот я шел на встречу с Антоновой – с надеждой, что она мне скажет: "Молодец! Всю жизнь мы не могли сказать, а вы сказали. Слава тебе господи, и давай работать над тем, чтобы эту историю разрулить"»[8].
Уже в 1995-м авторам Beautiful Loot было ясно, что Антонова – не просто ноунейм-чиновник, представляющий вляпавшуюся в нехорошую историю институцию, но фигура, любопытная сама по себе; и поэтому Козлов охотно рассказывал интервьюерам (включая автора этой книги) об обстоятельствах этой «кошмарной» встречи, да и в их собственной книге есть целая сцена с Антоновой. Всего таких встреч у него было две, обе без участия третьих лиц, и мы знаем о них только со слов Г. Козлова – который публиковал их содержание; ИА ни разу не выразила свой протест.
Итак, «она выгнала всех из своего офиса и, усевшись за свой массивный дубовый стол XIX века, немедленно приступила к обвинениям. Любопытный штрих: за ее спиной висел трофейный гобелен XVII века «Времена года»[9]. «Это невозможно: вы сотрудник советского музея. Как можно сотрудничать с зарубежными СМИ? Как вы посмели написать о трофейных произведениях искусства, когда вы не имеете никакого отношения к ним, – да еще в иностранном журнале?» – спросила она. «Вы знаете о государственной важности этой проблемы и о вашей ответственности – не распространять информацию об этом»[10].
Так она знала уже, что именно им известно?
«Когда Антонова начала со мной разговаривать, она читала пока только выжимки» – и, видимо, полагала, что ей придется вразумлять сотрудника, который, как и много кто в последнее время, слышал звон про «сокровища Третьего рейха», да не знает, где он. «И вот когда я начал говорить об именах, о справках, – у нее было такое лицо, как будто я проник в ее тайные мысли. Она была очень сильно потрясена, это было видно», потому что перед ней сидел человек, ее собственный сотрудник, который, среди прочего, не просто знал, что в Пушкинском находится золото Шлимана, но и указывал также и на конкретный документ, доказывающий, что принимала «Шлимана» в 1945-м именно сама И. А. Антонова[11], – и, получается, очевидным образом годами – десятилетиями! – публично лгала, отрицая факт его существования.
Подождите: правда – сама ИА в 1945-м? Именно ИА? С какой, собственно, стати – она и работала-то в Пушкинском всего несколько месяцев? Правда: она была в музее в тот момент, когда позвонили с Внуковской таможни и сказали, что прилетел самолет с какими-то ценностями из Берлина, которые не учтены, с ними надо разбираться, и это она поехала туда – и расписалась: «Ее подпись стоит под этими документами, и она была первым человеком в стране – от судьбы не уйдешь, – который принял золото Шлимана в СССР. Hoch persönlich, как говорят немцы – ни убавить, ни прибавить, ни придумать, ни забыть. И дальше эти легендарные археологические находки оказались в Пушкинском музее, у них была своя судьба – но именно она их приняла»[12].
Раскрыв друг другу карты, собеседники вовлекли друг друга в спор, касающийся морально-этической подоплеки их поступков. Козлов заметил, что «согласно кодексу Международного совета музеев – неэтично для музея сознательно хранить объекты, незаконно перемещенные из другой страны. Если такие работы обнаруживают в коллекции, предполагается, что музей должен уведомить законного владельца. "Это не ваше дело, – сказала Антонова. – Это ответственность руководства музея. Чего вы думали добиться своей статьей?"»[13] – «Я хочу сказать правду», – ответил Козлов. «Это демагогия!»[14] – воскликнула Антонова. Демагогия?! Но ведь «среди трофейных произведений искусства есть шедевры мировой культуры, которые спрятаны, украдены из мировой цивилизации. И мы лжем, когда говорим, что эти вещи не в СССР»[15].
Затем они вступили в дискуссию о жертвах войны – чьей кровью было заплачено за трофейные произведения искусства: «Есть разные правды». – «По-моему, правда только одна». – «Есть дурацкие правды и умные правды, и ваша правда глупая. А еще есть справедливость. Вы молоды и неопытны. Вы не видели сожженного Петергофа, а я видела. Немцы совершили чудовищные преступления в нашей стране, и высшая справедливость на нашей стороне. Нам не нужно оправдываться, мы можем сами диктовать условия»[16][17].
Разумеется, эти двое так ни о чем и не договорились. Под конец ИА дала понять Г. Козлову – осознававшему, естественно, что поставил ее и Музей в трудное положение: проблема трофеев была уже близка к разрешению и публикация в американском журнале нанесла ущерб Музею. А главное – вот там, наверху (она указала на потолок, как если бы этажом выше был кабинет Горбачева), – «они благодаря вам – вы могли их спровоцировать! – все отдадут. Начнут бояться и возвращать все немцам бесплатно, как это было уже один раз»[18].
Она проявляла все большее беспокойство. Наконец Козлов предложил написать заявление о своем немедленном увольнении, которое она отвергла[19].
Почему он – как любой другой выживший после визита к Минотавру – не обнаружил себя в Склифосовского, с трубочкой, торчащей из ноздри? ИА не кричала на него? Он пуленепробиваемый? Или министерское прошлое давало ему иммунитет, защиту от нее? «Нет, никакого иммунитета, просто в наших отношениях были… Она знала, что я ее… <не боюсь> Она никогда не разговаривала со мной на повышенных тонах – ни разу. Никогда не кричала в наших разговорах»[20]. (Кричала, вспоминал Г. Козлов в интервью немецкому Die Tageszeitung в середине 1990-х[21].) «А у нас в рамках такого – "личного" – общения зрителей не было. Она публичного разноса не устраивала – еще раз повторяю, она не знала, чем эта история для нее обернется. Она оказалась в ситуации непонимания… Если б это произошло в настоящее советское время, мои дни были б сочтены в течение 15 секунд. Но ситуация была неясна. 1991 год, вильнюсские события… Это все произошло прямо накануне путча. Как будет разыграна эта история с трофеями, кем будет разыграна – она не знала»[22].
«Несколькими днями позже Ирина Антонова проводила совещание с главами отделов, чтобы обсудить вопрос будущего Г. Козлова. Некоторые его коллеги потребовали его крови, другие предпочли сохранить нейтралитет и промолчать. Одни опасались разговаривать с ним, другие намеренно демонстрировали дружелюбие»[23]. В целом «поступок Козлова» в Музее воспринимали скорее с сочувственным интересом: с одной стороны, Козлов не давал подписку о неразглашении – и формально не нарушал ничего. С другой – Музей – артель, живущая на взаимном доверии, и, конечно, то было некомандное, противоречащее корпоративным нормам поведение; Козлов не мог не осознавать, что репутации Пушкинского это не сулит ничего хорошего. Неудивительно, что, помимо восхищавшихся его поступком, появились и те, кто воспринял его как предателя. Л. Акимова, замзавотделом археологии, к которому относился «Шлиман», впрочем, сухо замечает: «О Г. Козлове не помню никаких разговоров, это не обсуждалось, по крайней мере в той среде, где работала я. Никакой оппозиции у Ирины Александровны не было и быть не могло. Она не терпела инакомыслия»[24].
Настроенным радикально коллегам ИА заявила, что уволить Козлова невозможно, потому что министр культуры Николай Губенко запретил это: «Не надо использовать эту ситуацию, чтобы ее раздули иностранные журналисты, постараться как бы спустить на тормозах»[25]. Кроме того, в тот момент общественное мнение, несомненно, было на стороне «правды»: так, «совесть нации» академик Д. Лихачев, еще даже точно не зная, о чем именно идет речь, уверенно заявил, что все трофеи следует возвратить, «устроив предварительно выставку, как это было с Дрезденской галереей», и уж только потом, очистившись, можно пытаться требовать у иностранных партнеров возврата чего-либо в Россию.
Официально Пушкинский не имел к трофейному искусству после Дрезденской выставки 1955 года никакого отношения: увезли – слезами горю не поможешь, – работаем дальше. На практике все было «не так однозначно», и об этом знала ИА, знал главный хранитель, знали хранители отделов, к которым приписывались те или иные вещи. Хуже того, задним числом большинство сотрудников Пушкинского утверждают, что они всегда прекрасно понимали, что в Музее – внизу, на лестничке, рядом со входом в экскурсионное бюро, за небольшой дверью – есть «кое-что еще»: спецхран.
Понимали странным образом как раз потому, что в Пушкинском Антонова никого внутрь не пускала под страхом смерти – тогда как, например, в Эрмитаже, где нравы были менее строгими, могли по знакомству и трофейного «Графа Лепика» Дега показать, да еще пожать плечами: а чего вы так далеко-то ехали – у вас у самих там, поди, не меньше. К концу 1980-х даже и «тайна золота Шлимана» стала секретом Полишинеля, и дверь рядом с экскурсбюро показывали друг другу как курьезную достопримечательность: нарисованный очаг в каморке у папы Карло, – причем все догадывались не только о существовании театра – но и что в этом театре за репертуар.
Дело в том, что мимо экскурсбюро время от времени шествовала группа с весами и прочим оборудованием, и все знали, что, согласно музейным правилам во всем мире, если есть золотые вещи, хранителям надо их регулярно взвешивать. Г. Козлов рассказывает, что «существовал специальный старичок – хранитель этого особого фонда» (видимо, речь идет о Юрии Емельяновиче Чистякове, чью деятельность контролировали главный хранитель и специальный сотрудник Комитета финансового контроля), «он и главный хранитель осматривали его регулярно, Антонова при этом присутствовала. Они подписывали некий особый протокол – и все закрывали обратно: по инструкции полагалось определенное количество просмотров»[26]. «Тайну золота Шлимана» в Музее соблюдали (не из-за подписки о неразглашении; это считалось естественной этической нормой – и для тех, кто знал наверняка, и для тех, кто «просто» шушукался), но рано или поздно кто-то должен был рассказать; вопрос был в том, свои или иностранцы.
Козлов продолжал меж тем выполнять свои обязанности и встречаться с ИА на общих собраниях. «Я приходил и делал доклады по своей текущей музейной работе. Она сидела, слушала, в присутствии всех остальных делала мне замечания. Я готовил все это во много раз более тщательно, чем обычно. Я не собирался уходить из музея. Чтобы вы понимали степень идеализма – мы тогда верили, что все изменится к лучшему и что наше поколение будет это лучшее строить. Как она меня воспринимала? Может, считала меня странным, не от мира сего. Мне трудно сказать»[27]. Самый простой, очевидный и убийственный козырь Козлова состоял в том, что он в любой момент мог объявить, что «золото Шлимана» находится в Пушкинском. «Во время наших разговоров я увидел, что она совершенно точно понимала серьезность собранных фактов». ИА, похоже, действительно предпочитала сохранить плохой статус-кво, чем оказаться в эпицентре еще большего скандала, но проблема в том, что и без Г. Козлова дела обстояли неважно: 26 июня в «Литературной газете» – многомиллионным тиражом – вышел разоблачительный текст «Военнопленное искусство»; тот факт, что такого рода публикации появляются теперь не за рубежом, а непосредственно в СССР, шокировал ее.
В Музее ходили слухи, будто на самом деле у Козлова было противоядие: Антонова чем-то грозила ему, а он якобы записал этот разговор на портативный диктофон, и поэтому ей пришлось отыграть назад. К. Акинша опровергает этот слух – и без диктофона репертуар возможностей ИА был очень ограничен: «Выгнала бы – у нее сразу бы на пороге стояли "Московские новости", "Огонек", "Независимая газета"»[28]. Это был тот момент, когда деятельность Антоновой квалифицировалась общественным мнением как причастность к сталинским преступлениям. «И Антонова понимала, что забьет она сейчас Козлова – и завтра это превратится в общесоюзный скандал; одно дело от немцев отбиваться, а другое от тогдашней "Независимой газеты"»[29]. К счастью для обеих сторон, внешнеполитический фон, во-первых, отвлекал от Пушкинского внимание, во-вторых, служил катализатором развития событий.
Как выглядел дальнейший сценарий – и чем должен был завершиться конфликт прогрессивных искусствоведов с представителями старой школы? «Мы были уверены, – говорит К. Акинша, – что должны лишь подтолкнуть власти – пусть они сами скажут; это при том, что нас пытали немцы – где что находится. Но мы долго придерживались именно этой позиции: пусть сами скажут. Нам казалось, что есть легальные возможности: в этой ситуации начнутся серьезные переговоры, которые могут привести к миллиарду решений – и будут позитивны для советских музеев: вернуть, получить определенные компенсации за это. В каком состоянии были эти музеи в 1991 году – даже вспоминать не хочется. Решений была масса. И казалось, новый перестроечный Советский Союз все это разрулит и конфликт сойдет на нет в течение полугода»[30].
Очень скоро – возможно, из-за конкретных коллег, возможно, почувствовав, что тучи сгущаются, – Г. Козлов понял, что «оставаться дальше было невозможно», и подал заявление об уходе[31].
⁂Уже позже, зная как всю историю трофеев в деталях, так и эволюцию своей бывшей патронессы, Козлов реконструировал, с чем был связан ее политический выбор – и почему после долгих колебаний она в конце концов выбрала именно сторону «партии войны».
Пушкинский исторически очень серьезно связан с «трофейной историей», и началось это еще до того, как ИА устроилась туда на работу, в первые месяцы 1945-го, когда сотрудники музея или крупные фигуры в мире искусствоведения – создатель картинной галереи ГМИИ В. Н. Лазарев, многолетний сотрудник ГМИИ – ученый секретарь и главный хранитель особого фонда А. Чегодаев, директор ГМИИ в 1950-е А. Замошкин, – призванные офицерами, стали выезжать в Германию, чтобы разбираться там с сортировкой трофейных арт-объектов. «Ведь все эмиссары, – подчеркивает Козлов, – которые вывозили искусство из Германии, были москвичами. Чегодаев, Замошкин, Дружинин, Белокопытов! – все. А Эрмитаж только принимал эти вещи, да для экспертизы послал профессора Доброклонского. Трофеи – это московская история, центральная история, политическая история, а не искусствоведческая. И так это развивалось с самого начала»[32].
Когда из Германии в 1945-м шли эшелоны художественных ценностей, главным хабом – и первым местом, куда они поступали, – был именно Пушкинский, потому что (как, опять же, с документами доказали соавторы) академик И. Грабарь и директор ГМИИ С. Меркуров еще задолго до окончания войны предложили ЦК создать на базе ГМИИ мегамузей мирового искусства, часть соседнего грандиозного Дома Советов, включив в него немецкие трофеи. Таким образом, дело даже не в техническо-логистических преимуществах Пушкинского (Москва, центр, близко, компетентный персонал, способный каталогизировать объекты), а в идеологии: в столице должен быть советский Лувр: везем все сюда. Именно поэтому в крохотных, по сути, помещениях Пушкинского (а не в Эрмитаже, где было больше места и сотрудников) оказались величайшие сокровища, отчужденные Советской армией в Германии: Дрезденская галерея, Пергамский алтарь (почти), золото Трои, исчисляемые тысячами ювелирные работы из дрезденского Грюнес Гевёлбе.
ИА видела все это изобилие – огромный приход, горы ящиков, визуализированный и овеществленный триумф, победу, добычу; средневековые соборы разве что не стали вывозить – именно в тот момент, когда этот поток захлестнул Пушкинский, и, как бы дальше ни развивалась ее карьера, сам момент «золотой удачи», который бывает раз в жизни, конечно, запомнился ей и не мог не повлиять на ее поведение в дальнейшем. Собственно, ровно поэтому мечты о создании колоссального музея мирового искусства на Волхонке едва ли когда-либо казались ей маниловщиной – она уже видела его у себя во дворе, оставалось только распаковать ящики. Пережив триумф 1945 года, ИА – согласно психологической реконструкции Г. Козлова – всю жизнь стремилась вернуть все это к себе во двор: любой ценой.
Те события наложили свой отпечаток на судьбу и репутацию как музея, так и самой ИА – которая не принимала участие непосредственно в вывозе объектов из Германии, но принадлежала к кругу, где были распространены определенные мнения; и у нее было достаточно времени и возможностей проконсультироваться с теми, кто наполнил двор ее музея трофейными ценностями, осознать, с чем она / «ее» музей имеет дело, – и выработать (предсказуемую) эмоциональную позицию на этот счет.
В этом смысле любопытны опубликованные письма[33] из Германии американиста Чегодаева – для которого только что поверженный рейх был Ассирийским царством, родственным тому своей дикостью, жестокостью и манией величия, – и поделом разгромленным. «Эта чудовищная страна», «я бы выселил немцев из этой земли всех вон». «Германия – отвратительна, быть в ней – тяжело и противно… уродливая, выродившаяся культура, которая – если ее не истребить до самых корней – может быть только источником разложения и одичания для других народов и стран. Немцы связаны круговой порукой; Германия столько награбила по всей Европе, что люди жили здесь до самого конца припеваючи и даже не подозревали (тупые немецкие башки!), что кому-то от войны плохо»[34]. Знакомство с этими неполиткорректными сочинениями (просвещеннейшего, вестернизированного искусствоведа) помогает понять, почему документально подтвержденные расследования Козлова и Акинши выглядели для ИА (и многих ее коллег) клеветой, а сама идея о том, что после войны «мы» что-то должны – «им», – казалась абсурдом.
III

Ганс Грундиг
Карнавал. 1935
Холст, масло. 100 × 81 см
Галерея новых мастеров, Дрезден
Родившийся в 1901 году немецкий художник Ганс Грундиг был одним из тех авторов, чью судьбу хорошо иллюстрировала (великая антоновская) выставка «Москва – Берлин»[35] (1996). Экспрессионист-сюрреалист, член Компартии Германии, он угодил, разумеется, в 1937 году в списки художников-«дегенератов», затем отсидел несколько лет в Заксенхаузене, после освобождения присоединился к Красной армии, в 1945-м приехал в Москву, учился в Центральной антифашистской школе, вернулся в Дрезден в 1947-м – став ни много ни мало ректором тамошней Академии изобразительного искусства.
Неизвестно, были ли они знакомы напрямую с ИА, но он наверняка принимал участие в передаче дрезденской коллекции из ГМИИ, а она наверняка общалась с его женой – потому что в 1959-м в Пушкинском прошла выставка[36] Ганса и Леи Грундиг (тоже художницы; в домашней библиотеке ИА была ее автобиографическая книга «Между карнавалом и Великим постом») – 300 экспонатов, в том числе знаменитый триптих «Тысячелетний рейх».
В Дрезденской галерее новых мастеров он и сейчас на почетном месте, рядом с отто-диксовским триптихом «Война», главным сокровищем этого музея. Даже и при таком соседстве он выглядит впечатляюще; особенно левая часть – «Карнавал» (1935). На фоне пылающего, с багряно-оранжевыми альтдорферовскими облаками неба полощутся зловещие черные флаги. Ниже – силуэт очень «немецкого» на вид города – возможно, Дрездена, возможно, Берлина, – который пока еще по-карнавальному весел, но уже жуток; очаг будущего разрушения. Сюрреалистический метрополис кишит живностью, комичной и омерзительной разом. В центре – сцена балагана, вокруг – брейгелевские гротескные фигурки в масках, шляпах и бочках. В толпе антропоморфных существ встречаются живые овощи, отдельные, на босхианский манер, части тела (уши), какой-то садовый инвентарь, птицы. Аккуратные бюргерские дома перемежаются не то недостроем, не то руинами, щетинящимися арматурой: зловещие железные прутья, которыми вот-вот будет избита эта разношерстная толпа. В 1996-м именно «Карнавал» привезли в Москву еще раз.
Директор затеявшего «Москву – Берлин» Музея странным образом имела к изображенному Грундигом предапокалипсису прямое отношение.
У появления семилетней ИА, окончившей в Москве первый класс, в Германии летом 1929-го[37] был свой контекст. Активное советское присутствие в Берлине в десятилетие, предшествовавшее 1933 году, – следствие «Рапалло», договора в кулуарах Генуэзской конференции 1922 года, заключенного еще с подачи Ленина, о тайном союзе двух стран-изгоев, которые придерживались полярных идеологий, но тем не менее готовы были извлекать выгоду из контакта в сложившихся обстоятельствах. Советский Союз нуждался в промышленных и военных технологиях. Охотнее всего с Советами имела дела страдавшая от многих запретов, наложенных в рамках Версальского договора, Германия, в частности вермахт и гиганты немецкого ВПК. Закулисное сотрудничество подразумевало, что Советская Россия продавала Берлину в первую очередь продовольствие, изымаемое в ходе принудительной коллективизации у крестьян, и сырье, а получала за валюту оборудование и товары – и бонусом возможности для пропаганды; обе страны тайно вооружались.
По удачному совпадению именно в Германии была самая большая в Европе, под 400 000 человек, компартия, тесно связанная с СССР – и получающая около 6 миллионов голосов на выборах. Именно в этой среде посольство и торгпредство – два базовых структурных элемента тогдашнего советского присутствия в Берлине – рекрутировали надежных сталкеров в неограниченных количествах. Была создана огромная инфраструктура, в значительной степени полулегальная: тесное военно-промышленное сотрудничество противоречило законам демократической Веймарской республики, и поэтому офицеры, инженеры и шпионы выдавали себя за кого-то еще. Словом, Германия была пастбищем, на котором Советы могли беспрепятственно пастись – что они и делали в течение десятилетия, до 1933-го, с феноменальным размахом.